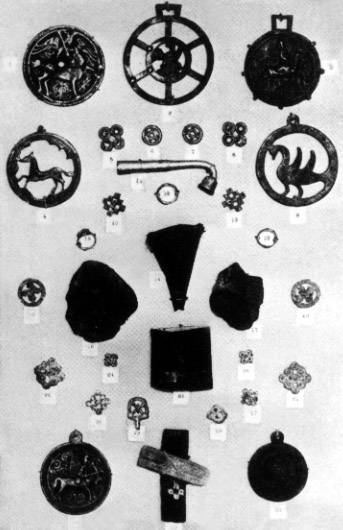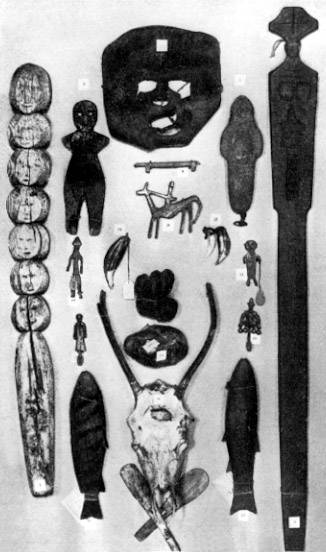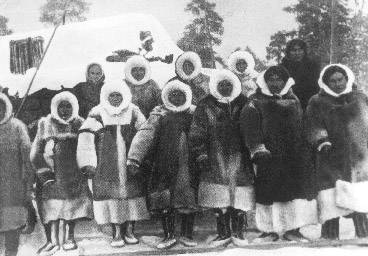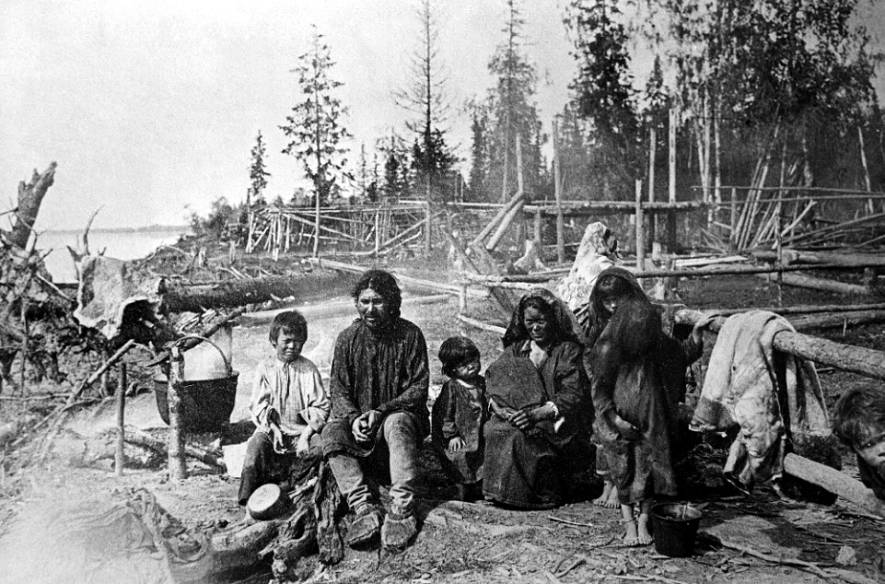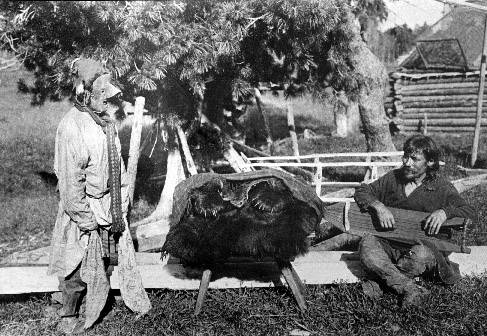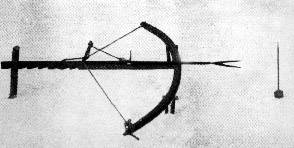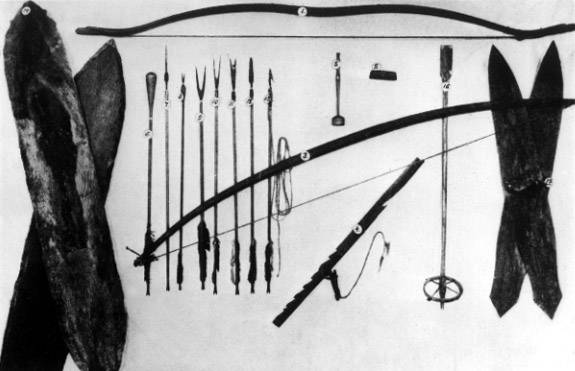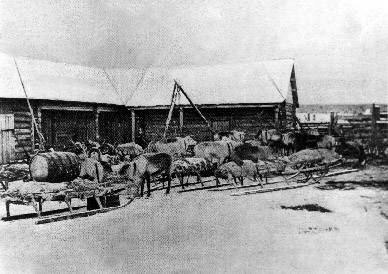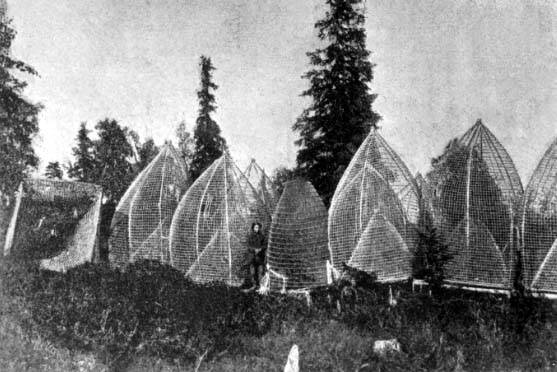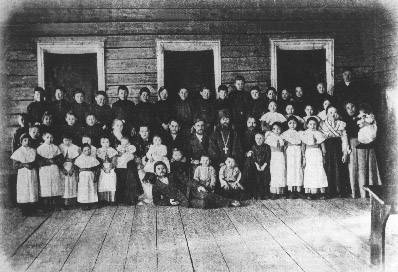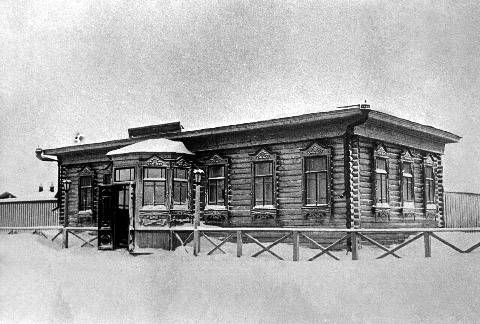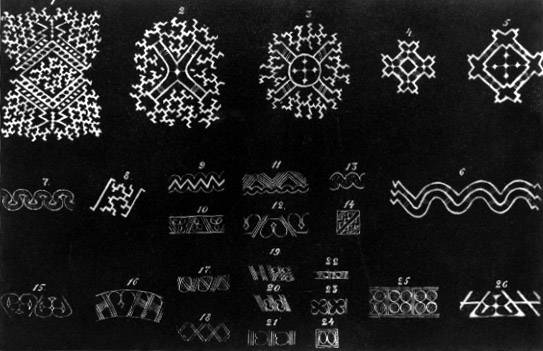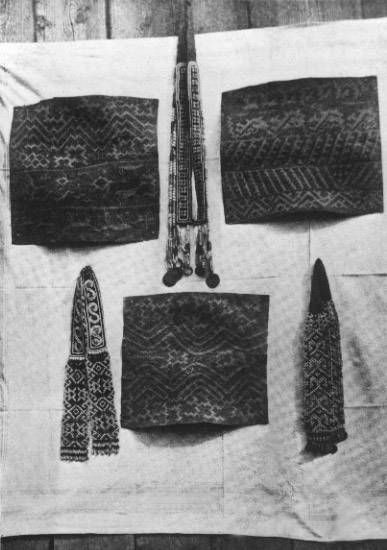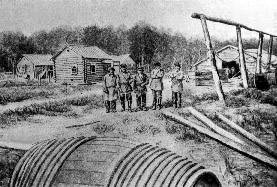| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Записки лиц, служивших в Югорской земле Корнилов А.М. Замечания о Сибири А.М. Корнилов, отец прославленного российского вице-адмирала В.А. Корнилова, был тобольским губернатором. В 1807 г. он проехал из Тобольска до Обдорска, одной из целей поездки было исследование «на месте личным обозрением… отчего остяцкий народ не размножается и нет ли от земской полиции каких-либо притеснений сим простодушным чадам природы». Сразу же по возвращении губернатор стал писать «Замечания о Сибири», которые были опубликованы только через 21 год. Обращаясь к читателям, А.М. Корнилов писал в начале книги: «Замечаний сих о Восточной и Западной Сибири, писанных в бытность мою губернатором Иркутской, а потом Тобольской губерний, никогда я не предполагал издавать в свет, но недостаточные, а часто и совершенно несправедливые понятия и суждения о сей пространнейшей и всеми дарами природы богато наделенной области побуждают меня представить любителям Отечества то, что за двадцать лет пред сим видел я сам и дознал не по слухам, но собственным моим опытом и моими наблюдениями. Замечания мои писаны в 1807-м году…» […] Северная часть Тобольской губернии по большой части обитаема народами, почти в первобытном состоянии человека пребывающими, живущими звериною ловлею, рыбным промыслом и стадоводством оленей. Это их единственная собственность, единственное богатство, единственная возможность существенная! Для призора и управления сими народами необходимы по душе, по сердцу, знанию и поведению отличные чиновники. За перенесение всех трудностей, сопряженных с отдаленностью места, суровостью климата и бедностью того края, за лишение себя в продолжение нескольких лет всего необходимого и за совершенное пожертвование собою для общей пользы, должно поощрять их особенными, примерными для всех наградами. Чиновники сии должны всеми силами стараться бедный народ сей постепенно приучать к переходу от первобытной дикости и невежества к возможному образованию и деятельности; подвинуть сколько возможно промышленность их; внушать им чувство истинной пользы своей и защищать их от корыстолюбия промышленников, приносящих часто в жертву оному не токмо избытки сих жалких детей природы, но даже и последние их сокровища – свободу и простоту добрых первородных нравов. Внимательный, строгий выбор таковых чиновников будет вернейшим средством к доведению сего края в возможно лучшее состояние. Они, имея всегда в виду сколько частное сих народов, столько и общее благоденствие и пользу для всего государства от удобнейшего перехода избытков южных на север и северных на юг и приведя в подробнейшую известность край сей сведениями своими, основанными на опыте, легко могут утвердить благоденствие сей части Сибири. […] В бытность мою тобольским гражданским губернатором, получив отношение тогдашнего министра коммерции графа Н.П. Румянцева, в коем он просил моего по вверенной мне губернии содействия подполковнику Попову, посланному для открытия водосообщения реки Оби с Печорою, я как для сего, так и для исследования на месте личным обозрением моим, отчего остяцкий народ не размножается и нет ли от земской полиции каких-либо притеснений сим простодушным чадам природы, предположил, несмотря на многие представленные мне затруднения, отправиться из Тобольска в северопромышленный край к Березову и Обдорску по рекам Иртышу и Оби. […] Я отправился из оного 28 мая 1807 года на приготовленной для моего плавания палубной лодке к Березову и Обдорску, в такой край света, где природа, кажется, остановила ход обыкновенных своих законов и где человек образом жизни своей представляет зрелище страдания и ужаса. […] Я был встречен в Березове так же, как отпущен из Тобольска: народ был восхищен моим прибытием, он в первый раз видел у себя своего губернатора. Местоположение города довольно изрядное, особливо во время полноводия, в которое кажется он прилежащим морскому берегу. Подъезжающему к Березову и в самое цветущее время июня природа представляется путнику в ужасном виде: зелень дерев бледна, желта и жители окутаны шубами; я не мог надивиться противоположностям тамошнего климата: в одно и то же время года иногда от солнечных лучей несносно жарко и вдруг так делается холодно, что шуба необходима. Обозрев присутственные места и все казенные заведения, нашел, что оные требовали бы и лучшего распорядка, и более внимания. Между прочим, встретил я здесь затруднение в подрядах на лес, ибо ни одного ни торгового, ни ремесленного общества в Березове нет. Остяки же по рассеянности занятий своих, а более по нерадению поставкою леса вовсе не занимаются, и, следовательно, входят в подряды одни казаки, отчего при постройках после пожара казна понесла значительные убытки и цены выставлены были несоразмерные, так что экономическим внимательным образом можно бы сделать постройки сии по крайней мере вдвое дешевле. Сие побудило меня для будущего времени приказать не спешить производством казенных строений, доколе жители сами не обстроятся, тем более что самонужнейшее для казны все было уже сделано, и поручить достойному и верному чиновнику присмотр и соблюдение казенной пользы как относительно постройки, так и продовольствия из запасных магазейнов, которое прежде было весьма затруднено. В заключение скажу, что в бытность мою не токмо гостиного двора или рынка, даже ни одной лавки не было в Березове и если бы не приезжали из Тобольска за тысячу верст татары с разными припасами, то жители, по неимению торговых мест, лишены были бы и самых необходимых вещей, ибо окрестный народ, платящие ясак остяки, не имея постоянных жилищ, не могут снабжать город нужными потребностями. […] Жители в Березове состоят из нескольких казацких семей, которые в мое время ни по какой части не приносили пользы государству: они военного искусства совсем не знают, вооружения порядочного не имеют и из 170 не более 30 человек называются вооруженными только потому, что для виду носят на себе кое-какое оружие; следовательно, казенное жалованье и продовольствие на сих людей идет совершенно напрасно. […] Здешние князцы1 (обдорские. – Сост.) ничем не отличаются от простых жителей и не пользуются от них никаким особенным уважением и во всех работах, даже и в гребле, упражняются сами. Жадность к вину, всем диким народам свойственная, здесь до такой степени простирается, что остяк, ожидающий за труды очередной рюмки своей, походит на одержимого лихорадкою… […] Дорога в северопромышленный край бывает 5 месяцев водою, а 7 зимним путем; сколько водяной ход труден для разъезда чиновников и почты, столько удобен для тягостей; напротив того, зимний путь весьма удобен для легкой езды, но совершенно невозможен для тяжелых перевозов. […] 1 Из которых двое награждены грамотами и бархатными малиновыми платьями, обложенными золотым галуном, от вечно достойныя памяти государыни императрицы Екатерины II. Корнилов А.М. Замечания о Сибири. СПб., 1828. С. 53–54, 56–57, 68–71, 78, 93. Белявский Ф.И. Поездка к Ледовитому морю Белявский Ф.И., член Тобольской врачебной управы, врач, в конце 1820-х гг. был командирован для изучения положения и оказания медицинской помощи остякам в связи с распространением среди них сифилиса. В оценке труда Ф.И. Белявского можно опираться на его слова: «Состоя на службе в Западной Сибири в продолжение трех с половиною лет, я приобрел по званию члена врачебной управы обстоятельные сведения о Северном крае… записки мои кратки, местами даже сухи, но верны… я желал только сделать их полезными и записывал все, как видел, строго придерживаясь простоты и ясности…»* Дорога в Березов Березов1 лежит к северу от Тобольска в расстоянии около тысячи верст; дорога к городу частью сухим путем, но более реками Иртышом и Обью, потому что все пространство между Березовом и Тобольском покрыто непроходимыми болотами, отчего летом сообщение между деревнями сухим путем прекращается. Река Обь имеет совершенно прямое направление в своем течении, и различие между зимним и летним путем по ней совсем неощутительно в отношении к скорости; напротив того, Иртыш столь извилист, что в летнюю пору на проезд сею рекою от одной деревни до другой в иных местах должно употребить втрое более времени, нежели зимой. Зимняя дорога чрезвычайно покойна, потому что по ней мало ездят, и притом в легких повозках, которые гладко укатывают оную; можно утвердительно сказать, что на всем пространстве тысячи верст нет ни одной рытвины или ухаба. Неровности же встречаются только на реках, замерзнувших во время бурь, отчего льдины в бурном порыве ветров, спершись между собою, цепенея дыбом, образуют как бы окаменелые груды, вдоль по лицу реки разметанные. Дорога берегом имеет различную широту: от Тобольска до села Демьянска можно ехать тройкою в ряд, от Демьянска же до села Самарова и далее к Березову гусем, по рекам она извилиста и очень узка. Летом ездят в Березов водою до селения Самарова и далее верст сорок Иртышом, а потом Обью и Сосьвою. Селения, лежащие на дороге к Березову Все вообще селения расположены по рекам весьма в недальнем между собою расстоянии; из них наиболее заслуживают внимание… […] Село Самарово В 500 верстах от Тобольска, на берегу реки Иртыша, при подошве высокой горы, покрытой кедровым лесом. Здесь Иртыш разливается с лишком на 20 верст и вода подходит к самому селению, так что жители из домов своих выезжают на лодках, почему дома здесь выстроены не на фундаментах, а на так называемых «стульях» (род свай) вышиною от 5 до 6 футов. Во время разлития реки жители отводят весь свой домашний скот на гору в кедровый лес, оставляя его там до возвращения рек в берега. Однако ж этот способ предохранять от потопления домашних животных вовсе не верен, ибо леса наполнены хищными зверями (волками и медведями) и значительное количество лошадей и коров предается беззащитно на жертву лютости сих зверей, чтобы спасти другую часть от общего зла, коим угрожает разлившийся Иртыш. Хлебопашества здесь совершенно нет, и крестьяне не имеют даже понятия о нем, но благодетельная природа щедро наградила их другими источниками богатства: рыбный промысел здесь превосходнее, нежели где-либо. В 40 верстах от села Самарова, при впадении Иртыша в Обь и на самой Оби, находятся рыболовные «пески». Обильнейшая ловля состоит в «язи» и другой мелкой рыбе, которую солят, сушат, вялят и отправляют для продажи в большом количестве не только по всей Сибири, но и в соседственные губернии Европейской России, а именно: в Оренбургскую, Пермскую и Вятскую. Рыбный лов производится здесь, как в России, неводами, сетями и мордами. Другой важный предмет промышленности жителей есть лов птиц, которые водятся здесь весною и осенью во множестве. Их ловят обыкновенно посредством перевесов, составленных из тонких, частых сетей с мешком наподобие невода; сеть подымается верхними концами на блоках к двум деревьям, а мешок лежит на земле. Искусные птицеловы выбирают удобнейшие для сего места, как-то: перелет птицы с одного озера на другое и просек в лесу. Утреннею и вечернею зарею птица, летая низко, ищет в лесах промежутков и, не примечая сети, попадает в оную. Тогда притаившийся охотник опускает верхние концы (сети) на землю, и птица остается в мешке, откуда вынимают ее уже битою. Охотники, искусные в отыскивании удобных мест, нередко в одну летнюю ночь ловят от 25 до 50 и более пар гусей и уток. Вот другой способ сего промысла, имеющий свои выгоды на чистом, ровном месте: по прибрежным пескам разбрасывают две мелковязанные сети одну подле другой, прикрепляя один конец колышками к земле. Между сих сетей сажают гусиных чучел и немного поодаль вырывают яму и закрывают ее хворостом в виде куста, где притаившийся птицелов сторожит птицу. Гуси, обманутые чучелами, спускаются на землю; тогда две тонкие веревочки, проведенные к охотнику, мгновенно стягивают обе сети вместе, и гуси остаются в мешке, из которого, как и из перевесов, вынимают их уже убитыми. Достойно замечания, до какого совершенства доведены здесь птицеловные снасти и уловки ловцов. Во-первых, сеть подкрашивается под цвет того песка, на котором должна быть раскинута, потому что птица, заметив малейшую разницу между сетью и песком, не садится. Во-вторых, люди, сидящие при сетях, должны подкликать гусей, подражая в совершенстве их крику. Заметим при сем, что из семи родов гусей, в Сибири известных, каждый род имеет свой особенный крик и полет и мастера, различая их издали по полету и имея во рту свисток из бересты, прибирают на нем подражательные звуки с удивительною точностью и таким образом заманивают птицу к месту ловли. Чучела же ставятся всегда против ветра и в таком расстоянии одно от другого, чтобы в промежутке их могли вмещаться налетающие гуси. Этот способ хотя не доставляет вдруг так много добычи, как первый, но имеет перед ним то преимущество, что может быть употребляем сплошь в продолжение целого дня, тогда как первый годен только во время утренней и вечерней зари. Кроме того, употребляют для мелкой птицы силки, петли и тому подобное, обходясь без ружья. Птицу заготовляют, как и рыбу: ее сушат и солят. Кедровый лес приносит также весьма значительный доход жителям села Самарова: орехов собирают во всей волости около 10 тысяч пудов и в самое дешевое время продают на месте по два рубля пуд. Четвертый столь же богатый источник промышленности жителей проистекает от приходящих из внутренних сибирских губерний с разными китайскими товарами судов: в Самарове обыкновенно сменяются на сих судах работники и самаровские крестьяне, нанимаясь на их места, сбывают притом и свои запасы, как-то: рыбу, птицу и кедровые орехи, заготовляемые ими еще до прихода дощаников. Несмотря на столь многие выгоды, которые, кажется, должны бы были улучшить состояние жителей сего селения, почти половина их остаются в бедности, что происходит от неимоверной беспечности и лени: они готовы всю жизнь свою проводить во взаимных жалобах на свои недостатки, вместо того чтобы быть деятельными и прилежными. Березовский округ От Самарова начинается Березовский округ, который граничит: к северу – Ледовитое море, к югу – Туринский, Тобольский и Тарский округа, к востоку – Томский округ, а к западу – Архангельской губернии Мезенский уезд, от коего отделяется он хребтом Уральских гор. Оканчивается сей пространный округ уже при соединении Обской губы с Ледовитым морем. При выезде из села Самарова природа представляется путешественнику в самом диком виде. На пространстве 60 верст ничего не видно, кроме необозримых степей и кой-где лес и тальниковый кустарник. Еще верст на 100 за Самаровом живут русские, как-то: в селе Троицком, деревнях Олтурне и Сухоруковой, но следующие затем станции, как-то: Маткинская, Сухоруковская, Воронинская, Каушинская, Карымкарская, Больше-Атлымская, Мало-Атлымская и новые – населены издавна остяками. Жители означенных юрт Жители сих юрт заимствовали свои обычаи во многом от русских, с которыми имеют беспрерывное сношение. Они сходны с остяками, живущими между деревней Денщиковской и селом Самаровом2, даже употребляют одинаковое с ними наречие, но гораздо их беднее: домов не имеют, живут в земляных юртах, скотоводство их маловажно, у некоторых же по крайней скудости нет совсем лошадей и принадлежностей, необходимых для рыбного промысла, который посему у них гораздо хуже, нежели у остяков, а иногда и совсем оного не бывает. В отношении к звериной ловле должно заметить, что со времени лесных пожаров, причиненных грозою, звери значительно уменьшились и бедные жители принуждены ходить за сим промыслом чрезвычайно далеко, в чужие «дачи», где охотятся тайно, чтоб не быть пойманными. Родом жизни они очень сходны с остяками, живущими на самом севере. Отделения и волости Березовского округа Березовский округ состоит из отделений и инородных волостей. Отделений три: 1. Обдорское, 2. Кондийское, 3. Сургутское. К каждому из сих отделений принадлежит по нескольку инородных волостей, как-то: к Обдорску 1) кодские городки, 2) Подгородная, 3) Сосьвинская, 4) Ляпинская и 5) Казымская; к Сургутскому 1) Селияровская, 2) Салымская, 3) Пимская, 4) Подгородная, 5) Больше-Юганская, 6) Мало-Юганская, 7) Трем-Юганская, 8) Аганская, 9) Ваховская, 10) Лумпокольская, 11) Салтыкова и 12) Пирчина. Сверх того, находится русских обществ, именно: крестьянских четыре – Березовское, Кондийское, Елизаровское и Сургутское, мещанских одно – Сургутское в бывшем городе Сургуте. Краткое историческое известие о некоторых упомянутых в округе местах а) Упраздненный ныне город Сургут Сургут, где ныне отделение, сначала был городом, основан в 1595 году воеводою князем Федором Барятинским при царе Федоре Иоанновиче, существовал до 1688 года, лежит на северном берегу реки Оби. Против города течет небольшой рукав реки Оби, который, протекая шесть верст, отдельно соединяется опять с нею. Остяки называют сей рукав Сургутемуют, а россияне – Сургуткою, отчего и город получил название Сургут. Здесь жил прежде остяцкий князек Бардак, у речки, которая повыше города впадает в Обь. Доныне еще за речкой Бардаковой с версту повыше Сургута показывают место, где стоял городок сего князька. Село Кондийск, прежде бывшее княжество остяков, ныне же комиссарство, населенное русскими, лежит на правом берегу реки Оби, в 250 верстах от села Самарова. В нем находится Свято-Троицкий мужской монастырь, переведенный сюда в 1656 году по наказу царя Алексея Михайловича из Березова, где находился с 1635 года. Остяцкие князья Алечевы, приняв святое крещение, просили великого государя для скорейшего обращения остяков в христианскую веру перевести сей монастырь из Березова в Кондийск, на что и получили грамоту еще в 1653 году, и потому все земли, луга и рыбные ловли, им принадлежащие, добровольно уступали монастырю. Хотя здание еще не разрушилось и название монастыря существует, но за недостатком монахов живет в нем только один сельский священник с своим причетом. В Кондийске находится отдельный заседатель на тех же правах, как и в селе Демьянске3. Дорога от Кондийска Дорога от Кондийска, как и до оного, проложена по берегу реки Оби, по течению которой в разном расстоянии, смотря по удобности места, расположены остяцкие юрты: Низямские, Амолаканские, Шеркалинские, Естальские, Чемошанские, Тегинские, Кумыдванские, Проточные… и Нарымские, а за ними уездный город Березов. В смежности с Шеркалинскими юртами находится русская деревня Шерканы, в коей есть небольшая деревянная весьма бедная церковь. Местоположение Естальских, Чемошанских и Кумыдванских юрт на правом берегу Оби между горами и строевым кедровым лесом живописно. Город Березов, лежащий под 63˚56’ северной широты, на расстоянии 225 верст от Кондийска, основан в 1593 году при царе Феодоре Иоанновиче воеводами Никифором Троханиотовым и князем Михаилом Волконским. Верстах в двух от нынешнего города была остяцкая деревня Сугмут-Ваш, а вогуличи называли ее Халумо-сугмут; то и другое название означает «березу», от чего и произошло название Березова, коего герб имеет в серебряном поле три березы. Нельзя утвердительно сказать: русские или остяки построили сей город; известно только, что до прибытия Ермака, покорителя Сибири, русские приходили туда для торговли и имели сношения с остяками, с которых брали ясак, и что в 1586 году, еще за семь лет до построения Березова, остяки сами приносили оный на реку Вым. Из чего следует, что если бы российские торговцы не имели в сей деревне постоянного жительства, то не успели бы овладеть народом до того, чтобы обложить его податью. Березов, самый отдаленный от центра России к северу город, при взгляде на него не так ужасен, как обыкновенно его представляют. Напротив, местоположение его весьма приятно. Он стоит по компасу к северо-востоку, на горе, в 20 верстах от устья реки Сосьвы, которая обтекает его с восточной стороны; с запада окружен еловым лесом и можжевеловым кустарником; с севера граничит протоком Вогулкою, истекающим из Сосьвы, а с юга весьма глубоким буераком, называемым Колтушным. Дома в Березове хотя не высокие, но чисты и снаружи не безобразны, улицы без всякой правильности, и весь город, простирающийся в длину почти на версту, состоит из одних переулков; глубокий самобытный ров разделяет его на две части. Весь город занимает 59 десятин земли. Две прекрасные каменные церкви: 1. во имя Воскресения Христова с двумя приделами – Казанской Божией Матери и Николая-чудотворца; 2. во имя Рождества Богородицы с приделом преподобных Антония и Феодосия, печорских чудотворцев – много служат к украшению города. Первая заложена в 1787 и освящена в 1792 году, а последняя заложена и освящена 1777 года. Кроме того, есть еще неоконченный собор во имя Смоленской Божией Матери с приделом Иоакинфа и Андрея Критского, заложенный 1790 года. Исключая церквей, другого каменного строения в городе нет, все прочее деревянное, а именно: 5 лавок, 6 домов казенных. 1-й вмещает в себе присутственные места, как-то: окружной и земский суды и окружное казначейство. 2-й – городническое правление с кордегардиею, служащею вместо острога. 3-й – уездное народное училище, открытое в 1818 году 30 августа. 4-й – соляной магазейн, и при нем соляная лавка. 5-й – городовой хлебнозапасный и провиантский казачьи магазейны. 6-й – денежная кладовая и пороховой погреб. Улиц в городе 3, переулков 20, мост 1, обывательских домов 141. Жителей считается вообще, т. е. чиновников, казаков, купцов, мещан и разного другого звания, мужского и женского пола 891 душа. Ремесленников в Березове почти никаких нет, кроме двух весьма посредственных кузнецов и трех плотников; жители по нерадению своему совершенно не занимаются художествами, и два вышеупомянутые ремесла составляют весь их промысел. Возможно, и полезно бы было иметь в Березове заводы как для выделки оленьих кож, так и для делания клея из костей оленьих, ибо материалы для сего имеются в достаточном количестве, но по лености жителей, препятствующей им заниматься ремеслом, вовсе нет таких заведений, которые бы заслуживали описания. Впрочем некоторые из мещан и крестьян, наиболее же казаки начинают заниматься с недавнего времени у себя на дому выделкою оленьих кож, но весьма в малом количестве, и ремесло сие находится еще, так сказать, в младенчестве; также некоторые из них делают кирпич, для чего имеют небольшие сараи; впрочем кирпич, весьма непрочный, делается только в случае необходимости иметь оный для постройки. Выделку оленьих кож производят способом, отличным от употребляемого в России. Первоначально размочив кожи в воде, что продолжается от трех и до пяти суток, вынимают их из оной и очищают с них шерсть «тупиком» наподобие серпа на обоих концах с рукоятками; потом, просушив, кладут оные опять в теплую воду как для размачивания, так и для того, чтобы сбежала с них вода и они бы отволгли потом складывают их на некоторое время вместе; после чего, чтобы сделать мягкими, намазывают их рыбьим жиром и кладут в мялку, которою действуют до семи суток; вынув из мялки и просушив, отбивают на крюку и, завернувши в кошму, кладут для провяливания на горячую печь, потом в растворенный мылом щелок, вынув откуда, развешивают на шестах, выжимают жир и воду и, просушив, отбивают на крюку и на сечке. Машина, называемая мялкою, устраивается таким образом: на круглый вышиною в сажень столб, укрепленный сверху и снизу, посредине которого выдолблено продолговатое отверстие, надеваются две доски толщиною в два вершка, шириною в аршин, а длиною в сажень посредством находящихся на самой средине их двух круглых прорезов, вокруг коих находятся от 10 до 11 таковых же, только меньше прорезов с зубьями; а чтобы доски не соединялись вместе, а находились в расстоянии аршина или более одна от другой, прикреплены к концам оных (зубов) по одной палке, которые и служат для оборачивания оных досок вокруг столба. Когда нужно мять «оленины», то вкладывают оные в продолбину столба, потом оборачивают упомянутые доски вокруг оного; палки, находящиеся в досках, зацепляясь за оленины, мнут их, и оборачивание досок продолжается до тех пор, пока оленины не сделаются мягкими. Торговля в Березове совершенно ничтожная, кроме производящейся в начале весны с инородцами, прибывающими на судах с разными мелочными товарами и проживающими здесь до сентября месяца; прочее же время открытой продажи не бывает, но можно доставать самое необходимое у купцов на дому. Рыбу почти все жители ловят сами, мясо же не всегда можно иметь. Огородных овощей почти нет, причиною сего суровость климата, ибо земля не оттаивает более как на пол-аршина, а потому, кто имеет возможность, запасается овощами из Тобольска. Однако ж в 1826 году березовский купец Нижегородцев посеял несколько десятин хлебом разного рода и по случившемуся тогда жаркому лету, что очень редко бывает, имел совершенный успех: семена взошли и жатва созрела. Несколько колосьев, представленных им бывшему тогда березовскому гражданскому губернатору г. Бантыш-Каменскому, были препровождены к г. министру внутренних дел, и в 1827 году воспоследовало разрешение о «даче» Нижегородцеву 50 десятин земли, им самим по его желанию выбранных, с тем, однако, что, если по прошествии шести лет не будет никакого успеха, возвратить землю казне. Продолжает ли Нижегородцев в сем холодном краю опыты над хлебопашеством и торжествует ли над природой, мне неизвестно. Товары, привозимые в Березов, состоят в хлебе, битой говядине, разных железных вещах, сетях, лыках, мочале, простом холсте, крестьянском сукне, нанке и полуситцах. Вывозят оттуда кедровые орехи, мягкую рухлядь, как-то: лисьи и оленьи кожи, медвежьи, волчьи, бобровые, собольи, беличьи, горностаевые, заячьи, песцовые, росомаховые и выдровые шкуры; птичий пух, мамонтовую кость, разного рода соленую и сушеную рыбу, икру и некоторое количество бобровой струи. Все сии произведения получаются со всех сторон Березовского округа от инородцев4, равно как и ввозимые в Березов промениваются ими же. Почти все жители Березова, не исключая и казаков, доставляют себе пропитание посредством торга с инородцами, которым на упомянутые произведения променивают разные русские изделия. Месяцы декабрь, генварь, апрель и май суть самые удобные для покупки мягкой рухляди, потому что в сии времена года инородцы возвращаются из лесов, и березовские торговцы, спеша выменивать и покупать у них меха, рассеиваются по лесистым и диким местам. В покупке бывают медвежьи, бобровые, лисьи, собольи, волчьи, беличьи, заячьи, горностаевые и частью бурундучьи шкуры; песцы разных сортов, как-то: голубые, синие, белые, «кратоватики», норники; из прочих росомахи и выдры; лосиные и оленьи кожи и кедровые орехи. Все сии мелочные торговцы распродают в городе и приезжающим иногородним купцам, а зажиточные, которых находится человека 4, отвозят сии товары на Ирбитскую ярмарку. Кедровых орехов в посредственный год урожая закупают до 10 000, а в самый хороший 20 000 пудов. По недостаточному же в настоящих годах лову зверей число шкур в покупке бывает: медвежьих 50, бобровых 50, лисьих 5000, собольих 800, волчьих 200, беличьих 100 000, заячьих 500, горностаевых 10 000, песцовых голубых 40, песцовых других сортов 15 000, росомаховых 30, выдровых 40, лосиных 300, оленьих 10 000, всех же ценою на 106 000 руб. Промысел рыбою начинается со времени разлития вод, и именно в последних числах мая торговцы отправляются на судах, поднимающих тяжести от 7 до 10 и 15 тысяч пудов, внутрь инородных селений по реке Оби, где или сами упражняются в рыбной ловле, или откупают оную у инородцев. Рыбу же, бывающую в улове, как-то: «осетрину», нельму, муксуна и сырка – и икру их, посолив на месте, а щучину и язей, высушив и, закупорив в кади, рыбий жир частью сплавляют для продажи до Тобольска, наиболее же продают в самом Березове приезжающим иногородним рыбопромышленникам и купцам. Впрочем, надобно сказать, что в сем промысле участвуют наиболее иногородцы, как-то жители городов: Тобольска, Ирбита и Туринска, а потому оная и не приносит здешним торговцам тех выгод, какие бы можно было получить от сего важного занятия; причиною же тому то, что у жителей нет ни достаточного числа работников, ни состояния, чтобы весь этот промысел удержать за собою. В улове и покупке березовских торговцев бывают: осетрины 800 пудов, нельмы 1009, осетровой икры 100, муксуниной 600, жиру 400, сухой рыбы сырков и щучины 500, муксунов счетом 50 000, сырков 100 000; продают же пуд осетрины по 3 р. 50 к., нельмины по 3 р.50 к., икры осетровой по 12 р., муксуниной по 4 р., жиру рыбьего по 5 р., сухой рыбы по 2 р. 50 к.; муксунов продается счетом тысяча по 200 рублей, сырков тысяча 40 р. Все сие сбывается торговцами на Ирбитской ярмарке, где березовскими торговцами закупаются разные мелочные товары, как-то: простые ситцы, полуситцы, бахта, нанка; наиболее же нужные для инородцев вещи, которые продаются в самом Березове и развозятся по ярмаркам в его округе. Достопамятности Березова В числе достопамятностей города особенного внимания заслуживают хранящиеся в церквах утвари и облачения для священников и церковнослужителей, принесенные в дар знаменитыми несчастливцами Меншиковыми5. Ризы до сих пор в целости, только нашитые на них орденские звезды от долгого употребления или лежания так испортились, что нельзя видеть, какого они ордена; должно, однако ж, полагать, что Андрея Первозванного. За ручьем на высоком холме, окруженном прекрасным леском, показывают место, где был дом знаменитого изгнанника. Этот лесок, в котором не более 100 деревьев, известен с давних времен, и признаки древности оного доселе весьма приметны. Во время идолопоклонства остяки поклонялись в нем маститым деревам, которые встречаются в виде трех «отрослей», от одного корня восходящих; при соединении сих «отрослей» жрецы выдалбливали место и закрывали оное потом доскою, оставляя отверстие, в которое жертвоприносители опускали дары свои. Сии жертвоприемные места еще видны, и таинственные деревья, едва ли не самые высокие во всем Березовском округе, и поныне в полной своей красоте. К одной стороне сего леса примыкает церковь, при которой находится городское кладбище. На месте нынешней церкви Рождества Богородицы была прежде церковь деревянная, сооруженная иждивением князя Меншикова, которая сгорела в 1808 году. Тело его погребено возле церкви Вознесения Христова близ алтаря и подле гроба дочери его княжны Марии, бывшей обрученною невестою Петра II; над могилой в недавнем уже времени сделан деревянный палисад попечением бывшего городничего г. Андреева. Могилы же прочих членов сей фамилии неизвестны. Сколько известно, Долгорукие в Березове жили по смерти Меншиковых в том же самом доме; но имели ли собственный – того никто не знает6. Дорога в Обдорскую крепостцу От Березова прямо к северу по течению реки Оби на пространстве 600 верст лошадей уже не употребляют, а начинается путь на оленях нижеследующими остяцкими станциями: Усоль, Картым, Тегин, Качегат, Тюгут, Кеват, Лепекуль, Вайкар, Шуришкар, Викуль и Собек, а за ними село Обдорск, или так называемая Обдорская крепостца. Дорога летом обыкновенно водою, а замою, так же как и выше сказано, для сокращения путей прокладывается берегом и реками. Здесь повсюду встречается дикая природа, везде болотистые, снегом покрытые поля, ни гор, ни даже пригорков, изредка мелкий сосновый лес и тальниковый кустарник; это мертвое однообразие томит путешественника и наводит на его душу мрачное и неприятное чувство. Единственная новость, встречаемая им на сем пути, есть та, что, покидая русскую зимнюю кибитку, он пересаживается в нарту, запряженную быстроногими оленями. Вокруг живота обтягивают их кожаным шириною в ладонь ремнем, от которого проведена снизу веревка к нарте, а чтобы запряженные в ряд олени не расходились, надевают на них тоненькие уздечки и у крайнего из них с левой стороны прикреплена к сей уздечке вожжа. Проводник погоняет их шестом вроде бильярдного кия в 21/2 арш. Чтобы остановить оленей, проводник бросает перед ними шест, и они, поворотясь к нему головами, до тех пор не тронутся с места, пока шест опять не подымут. Несмотря на рога и широкие двойные копыта оленей, которыми они очень сильно лягаются, животные сии так смирны, что можно около них ходить и делать с ними что угодно. Однако ж, будучи всегда на свободе, в лесах, они сначала очень дики в упряжке, и приучать их к оной (что бывает обыкновенно не ранее их годового возраста) гораздо труднее, нежели лошадей, и потому самых неукротимых обыкновенно никогда не выпрягают. Питаются олени не одним мохом и хотя могут есть траву и сено, однако ж очень слабеют, а иные даже умирают от них, а потому для их пастбищ выбираются места самые обильные мохом.
Запряжка в три оленя Обдорск7 Прежде назывался острог, основан в 1595 году в 7 верстах от Обской губы на горе, у подошвы которой протекает речка и где прежде была остяцкая деревня Обдорский городок. Окрестности сего города очень приятны; недалеко от него течет Обь со множеством протоков и впадающих в нее рек: с правой стороны Вахом, Трялом, Юганом и Пымом, а с левой Сосьвою. Весною все они, выходя из берегов, сливаются в одно необозримое море, из-за которого вдали синеется снежный хребет Уральских гор, и самая высокая из них, называемая Павдинский Камень, в ясный, солнечный день кажется совершенно огненною от отражения солнечных лучей в ледяных кристаллах; между рек и гор рассеяны во множестве разного рода лес и кустарник, что все вместе представляет прекрасный ландшафт. По покорении сей страны царь Иоанн Васильевич приказал название оной внести в царский титул. Обдорск очень невелик, в нем одна деревянная ветхая церковь, дома все деревянные. Жители состоят большею частью из проживающих временно иногородних купцов и мещан. В нем живет отдельный земский заседатель, при котором находятся несколько казаков, служащих переводчиками в сношении с инородцами и постоянно в Обдорске живущих. Переводчики сии так хорошо знают остяцкий и самоедский языки, что весьма трудно различить их от природных жителей. В генваре месяце иногородцы сбираются в Обдорск для внесения ясака; в это же время съезжаются русские торговцы и бывает ярмарка, которая продолжается около месяца, а иногда и более, смотря по тому, как соберутся иногородцы. Если они приходят все в одно время, то ярмарка менее продолжается, в противном случае долее, что большею частью зависит от самоедов, известных под именем низовых и которые кочуют по правому берегу Обской губы и Туруханскому уезду. Бывая в Обдорске только однажды в год, инородцы выменивают на сей ярмарке все, что необходимо в их домашнем быту, как-то: муку, печеный хлеб, чугунные котлы, железные, медные и другие русские изделия для хозяйства. Остяки и самоеды весьма недоверчивы, с товарами своими обращаются они обыкновенно к знакомым купцам, которым и продают за сходную цену или отдают за долг; если же по какому-либо случаю знакомых им купцов на ярмарке не случится, то идут уже в другие лавки, держа товар всегда под полою своего платья; все они ходят с пустыми руками, между тем как под платьем их таятся дорогие меха. Остяки, живущие к северу от Березова, во многом отличаются от обитающих по дороге к Березову. Первые во всем сохраняют обычаи своих предков, тогда как другие, живя между русскими, много отступили от прежнего рода жизни, сделавшись пронырливыми и хитрыми. В Березовском округе считается остяков мужского и женского пола 15 885 душ, известных под именем кочующих инородцев. Дальнейший путь от Березова В Березове надлежало расстаться с покойною кибиткою и продолжать путь в нарте. Представьте себе сколоченный из досок длинный и узкий ящик, укрепленный на полозах и вмещающий только одного человека. Ящик сей имеет не более полутора аршина вышины, и для входа в оный сделаны дверцы с левой стороны ближе к ящику. Таким образом, осужденный ехать в сей гробовой повозке не иначе может в нее вобраться как, сев в дверцы задом и втиснувшись в оную, опрокинуться сначала боком, потом растянуться на спину, и в сем-то смертном положении путешественник, лежа на спине, должен совершать путь взаперти от станции до другой, не имея никакого сообщения ни с небом, ни с землей. Но делать было нечего, я залез в ящик, окутавшись медвежьею шубою, остяк мой запер наглухо дверцы, и два ретивые коня, запряженные гусем, понесли меня во весь опор без роздыху на расстоянии 23 верст до первой станции. Не могу равнодушно вспомнить о сих первых минутах моей пытки. Нарта, беспрестанно раскатываясь с боку на бок по узким и извилистым улицам Березова, ударялась об углы домов, и каждый удар нещадно отражался мне в голову. Как ни старался я кричать: «Сара-мана, сара-мана!» (постой, остановись), просьбы мои, запертые вместе со мною в долгий ящик, тем менее могли дойти до ушей моего остяка, что голова его была окутана капором из оленьей кожи, ограждающим сих северных степняков от неистовства вихрей и морозов. Выехав из города, я думал найти себе отраду на чистом поле, но первый толчок об пень вывел меня из сего приятного заблуждения, и последовавшие затем другие стычки с пнями и кустарниками совершенно меня расстроили так, что, несмотря на 34 градуса по Реом., меня бросило в пот. На половине дороги я наконец опомнился, собрался с духом, посмеялся антистоическим моим ощущениям, позавидовал Диогену, сидевшему спокойно в бочке, и после тьмы размышлений, благоприятствуемых темнотою ночи, прибыл на рассвете с моим товарищем в Усоль, на первую станцию, где уже, вместо лошадей, ожидали нас быстроногие олени. Остяки немедленно пошли за ними в ближний лес, где они паслись, быв заранее приготовлены для проезжающих. Мы пошли вслед за остяками. Здесь удивила и вместе тронула меня необыкновенная покорность к человеку сих столь красивых и величественных животных: на крик остяка сбегаются в одно мгновение целые стада оленей и, как бы готовые наперерыв один перед другим служить грубому дикарю, толпятся перед ним, преклоняют головы и как бы ожидают его велений. Остяк набрасывает петлю на рога тем, которые ему нужны, без труда ведет их за собою и с дикою бесчувственностью отгоняет шестом остальных оленей, которые, по справедливости, доставляют ему все необходимое к его существованию – жилище, пищу, услугу, притом почти без всякого с его стороны о том попечения. Езда на оленях сколько спокойна, столько же и безопасна: дорога ровная, нарты легкие, раскатывающиеся, но никогда не опрокидывающиеся. Самую большую нарту везут четыре оленя, которых запрягают в ряд, наискось одного от другого; если же понадобится остановиться, остяк бросает перед ними шест или косвенно втыкает его в снег, и тогда, хотя бы сии животные остались и без присмотра, некоторый инстинкт внушает им такое повиновение человеку, что они не смеют пошевельнуться, ожидая сигнала к бегу. Остяк правит только первым с левой стороны оленем, прочие же три поворачиваются, останавливаются и ускоряют свой бег по движениям первого. Однако ж на сей станции я не решился опять лазить в свою глухую нарту и, посадив в нее своего слугу, сам сел в открытую нарту и всю дорогу до следующей станции (26 верст) любовался столь новым и приятным для меня зрелищем – легкостью и неутомимою быстротою оленей; не менее того занимали меня и управление их шестом, и странные крики остяка, моего кучера. Олени бегут не слишком скоро, медленнее всякой почтовой лошади; решительно можно сказать, что они бегут в час от 8 до 10 верст; но если расстояние станции на 10 часов (что нередко бывает), то олень сохраняет свой бег от начала до конца одинаковым образом, чего лошадь сделать не может. Проскакав несколько верст, припадает на колени, схватывает снегу и минуты через 3 опять пускается бежать, дыша всем ртом, а не одними ноздрями, как лошади. В теплое время они бегут шибче, в большие морозы медленнее, а сильный ветер совершенно останавливает их. Черные живые глаза, выразительный взгляд, розовые губы, гордый очерк головы, быстро движущиеся уши, ветвистые бархатные рога, полная грудь, поджарый круглый стан, тонкие красивые ноги и неутомимость оленей, особенно покорность к человеку делают их пленительными животными. Инородцы, чуждые образованности, при столь жестоком климате были бы самые несчастные в мире существа без сих животных, которые, сверх пищи, жилья и одежды, способностью бегать по снегу целиком часто избавляют их от замерзания и нередко сохраняют от смерти людей, которые во время сильных буранов ложатся между оленями. Приехав в Картым, вторую станцию, мы нашли остяков гораздо оригинальнее, которые молча осматривали нас с любопытством. На вопрос, нет ли у них поесть, хозяин принес дурной провесной рыбы; чай пили мы с замерзлыми сливками, изрубленными кусками вроде сахара, попотчевали и хозяина, но он, отведав, сделал неприятную гримасу, беспрестанно морщился и с приятною улыбкою пожимал плечами; мы догадались, что он просит вина, и исполнили его желание, но он вдруг привел свою жену, почти нагую, которая, греясь у чувала, беспрестанно ворочалась и улыбалась. Когда мы ее попотчевали вином, то она, осушив бутылку, долго сосала и, смотрев с удивлением на прозрачность и форму стекла, поминутно вкладывала в горлышко бутылки палец, облизывала его и снова сосала. Между тем хозяин принес нам две большие стерляди и давал знать, чтобы мы взяли их с собою, а в обратный путь обещал еще приготовить. На 3-ю, Тегинскую станцию, расстоянием от второй около 10 верст, мы приехали ночью, где едва могли отогреться от 37 Реом. мороза, и, переменив оленей, были на рассвете на 4-й станции – Качегате, до которой считают 62 версты от Тегинской. Неудобство в пристанище, теснота и холод заставляли нас теснить к месту назначения. Здесь, долго ожидая оленей, я начал разговаривать с остяками о снедающей их болезни и, нашедши много пострадавших от оной, старался всячески узнать от них о времени, начале и следствиях болезни, но ответы их показали мне крайнюю ограниченность их понятий, по которым они малым отличаются от бессловесных животных. На 5-й станции – Тюгуте, в 10 верстах от предыдущей, окончив мое разыскание о болезни и записавши все достопримечательное в мой путевой журнал, я внимательно рассматривал внутренность юрты, в которой сидел, и приметил в углу закоптелый образ; всмотревшись в него прилежнее, я увидел, что то было распятие. На вопрос мой: «Какой это образ?» – хозяин и бывшие тут другие остяки, поговоривши между собою, отвечали: «Кола». т. е. св. Никола, русский Бог. «А где ваш?» – спросил я. Они показали на него же. Более я ничего не мог узнать у сих дикарей. Не встретивши ничего особенного на 6-й станции Кевате и 7-й Лепекуле и понуждаемые сильным морозом 38 по Реом., мы старались как можно скорее проехать оба сии 30-верстные расстояния. На 8-й 25-верстной перемене Войкарте мы нашли до 20 душ, живущих вместе. Посетив все юрты и не нашедши ничего особенного, мы были готовы уже опять пуститься в путь, как вдруг прибежал переводчик8 с известием, что бедный слуга мой Яков, оставаясь долго в поле по причине часто портившейся сбруи, ознобил себе ногу, почему, остановясь против воли на один час и [с]помощью холодной воды исцеля озноб, мы отправились на 9-ю станцию Шуришкар в 40 верстах от первой. Уже была ночь, поднялся ужасный буран, порывистый северный ветер беспрестанно опрокидывал наши глухие нарты; олени, изнемогая в усилиях против возмутившейся природы, падали без чувств и по получасу лежали на земле; неслыханный рев ветра, темная ночь, глухая бесконечная степь, чрезвычайно жестокий мороз, одиночество, глупость остяков, незнание их языка – все сие заставило нас страшиться, чтобы не замерзнуть среди сих необозримых пустынь. На часах моих пробило уже 2 часа пополуночи, а вьюга еще продолжалась. Во время падения опрокинутой вихрем нарты тщетно я кричал подымавшему ее остяку: «Варвар, отвори! Выпусти!»: рев ветра заглушал наши крики. Остяк, поднявши нарту, снова погонял своих оленей, казалось мне, слишком медленно; наконец в 6-м часу перед рассветом буран начал утихать, и вдруг остяки наши закричали своим оленям: «Лая! Лая!» (стой, стой). Этот сладостный для моего уха крик оживил меня. Мы приехали на 10-ю станцию Вандиас в половине седьмого часа. Угрюмый и полузамерзший остяк отворил мне дверцы и, пожимая плечами, повторял: «Неки, неки вадас, вадас» (холодный буран). Вылезши из своей тюрьмы, я подошел к нарте ехавшего впереди моего сопутника и, не видя, спрашиваю о нем у проводника. Остяк, отворив дверцы и не смея его беспокоить, указывал в нарту, а сам начал выпрягать оленей. Думая, что он уснул, я стал его будить, но, не получая ответа, начинаю сильнее шевелить его; наконец, не замечая ни малейшего в нем движения, силою вынимаем его из нарты, и я, к величайшему моему ужасу, нахожу его без дыхания; вносим в юрту, раздеваем и после долгой разного рода помощи и оттирания приводим его в чувство. По словам его, еще с полуночи начинался с ним сей глубокий обморок от утомления, холода и беспокойного положения в нарте, но как никоим образом нельзя было остяка остановить, то думать должно, что от медленного усыпления последовал наконец обморок. Сей несчастный случай заставил нас пробыть на сей станции 5 часов. Отдохнувши, я разведал о больных, которых нашел 16-ть человек обоего пола сильно зараженными и 24 человека менее страдавшими, которые были довольно веселы, но очень робки и слабосильны. На вопрос мой у старшины: «Почему многие из них одеты беднее жителей Шуришкарских юрт?» – отвечал он: «Они городские». «Почему так?» – спросил я. Переводчик, выслушав длинную его речь, рассказал мне, что места, где жили прежние их князцы и владельцы, назывались городами и отличаются как изобилием рыболовства, так равно и тем, что к названию таковых мест прибавляется слово «кар», что значит город, как-то: Шурышкар, Вайкар, Карымкар и многие другие юрты выше и ниже Березова, которые все были прежде городками, нынеже считаются на ряду с юртами и ничем, по-видимому, от них не отличаются. В 12 часов объявили нам, что олени готовы, и мы, опасаясь встретить опять такую ночь, какая была накануне, поспешили из Вандиас в Собские юрты и проехали 25 верст не более как в 21/2 часа. В Собских юртах не нашел я ничего примечательного. При выезде из оных в 3 часа поднялась вьюга, и мы, отъехав верст 10, остановились в первых встретившихся нам на пути юртах, чтобы переночевать. Лишь только мы успели выйти из нарт, как вдруг окружила нас толпа остяков. Эта небывалая еще с нами встреча изумила нас, спрашиваем, чего они хотят, и узнаем, что это свита остяцкого князя Тайшина, который, желая почтить проезжающих гостей, всегда сам выезжает к ним навстречу в сии юрты со множеством оленей для перемены. Князь этот платьем и ужимками нимало не отличается от своих подданных. Он подошел к нам и, пожимая плечами, хлопал в ладоши, приветствуя нас грубым криком «Дорова, дорова, дорова, брат, дорова!», и, несмотря на все отдаваемые ему приветствия, повторял свое «дорова» до тех пор, пока не сказали ему, что олени готовы; тогда, затопав ногами и вскричав: «Иски, иски!» (мороз, холодно), побежал он к оленям и вскочил на открытую нарту, сев поджавши ноги; потом, ухватя шест, визгнул и в одно мгновение умчался из виду. Дикая, но приятная ловкость его восхитила нас. Мы пустились за ним вслед и менее нежели через полчаса приехали в Обдорск, где опять встретил нас князь Тайшин и указывал на своих бегунов, посматривая на нас с веселым видом. Пришед с нами на отведенную нам квартиру, он объявил, что рад нас видеть, и, сидя с окружающею его свитою на полу, пристально смотрел нам в глаза и беспрестанно качал головою, пил с нами чай, только едва теплый, почти без сахару, и, не умея держать в руках чашки, за каждым глотком нагибался к скамье, на которой она стояла, прихлебывал каждый раз в три приема. Он объявил, что на другой день приедет к нам в жалованном платье, и пригласил нас прийти к нему посмотреть на его жену и детей, потом сказал, что он предпочитает чаю вино, которым греются русские, и при сих словах, качая головою, стучал рука об руку, говоря: «Иски, иски». Мы хотели попотчевать его ромом, но хозяин нашей квартиры, обдорский мещанин Александров, отсоветовал нам, потому что князь не перенес бы крепкого рому без привычки, почему мы и потчевали его рассиропленным спиртом, подцветивши его канцелярским семенем, что ему очень понравилось, и он беспрестанно похваливал то нас, то вино. Мы потчевали и свиту его, 3-х пожилых остяков, неподкрашенным вином, и такое отличие ему чрезвычайно полюбилось. После сего он ходил к нам раза по 4 в день, не отказываясь от потчевания, и всегда с приятностью удовлетворял все наши вопросы. На другой день нашего приезда в Обдорскую крепостцу с 10 часов утра поднялась ужасная вьюга, но в 12-ть опять все утихло, небо очистилось и время сделалось прекрасное. После сего 6 дней сряду возвращалась буря постоянно в 10-м часу, и всегда не более как на 2 часа; в это время в двух шагах невозможно было видеть человека и холод возвышался до такой степени, что ртуть в термометре переставала действовать; влитая же в глиняный сосуд замерзала в течение 19 минут так, что можно было брать ее в руки, как твердый металл. Я сам, делая 4 дня сряду сии опыты, уверился в этой истине, которую считал прежде только за любопытный рассказ. В продолжение сих 6 бурных дней ежедневно в 1-м часу, по прекращении бури, ходил я на ярмарку, устроенную на Северной горе, на площади длиною версты в полторы. Красивые нарты с разными мехами, увязанные и накрытые оленьими кожами, стояли в длинных рядах; олени и упряжь отличались особенною красивостью. На многих нартах сидели жены богатых старшин, одетые с большою приятностью. Платье их украшалось пестрыми, но правильно вышитыми каймами, в которых ярко блистали понсовый, голубой и оранжевый цвет. Множество колокольчиков и гремушек, нашитых на локтях и рукавах, беспрестанно издавали звук, ибо холод заставлял разряженных женщин делать невольные движения, дабы согреться; на головах их надеты были шапки из росомах, похожие на капоры, только с широкими отложными полями и разноцветными, из сукна тулейками. На заплетенных косах привешены разного вида кружки, медные деньги и колокольчики; пояс из красного ремня, густо усаженный пуговками разной величины и цвета, а спереди большой медный круг наподобие пряжки величиною в четверть аршина вжимает живот и делает чрезвычайно стройную талию.
Грудные дети тут же лежат на нартах. Матери, подходя к ним очень часто, дыханием согревают их личико и, наклонясь над нартою, кормят грудью своих малюток или, разжевав выменянный мужьями пресный хлеб, кладут им в ротик. Мужчины сбывают свои товары скрытно: сначала идут толпами от нарт и, подошедши к маленьким амбарам, входят в оные тогда только, когда никого нет, и то к знакомым купцам, заслоняют спиною дверь и, вынимая из-под платья товар, торгуются с купцом наедине так, что никто не знает, кто из них что и за какую цену продал. В это время старшины и старики, сбираясь толпою, сходились к моему товарищу и, рассевшись по-азиатски на полу, скамьях и сундуках, отворили дверь и начали беседовать с ним о данном г. Шармбергу поручении уговорить самоедов давать оленей мичману г. Иванову для измерения берегов Ледовитого моря, приступных только зимою. У них, как и у просвещенных народов, есть люди, пользующиеся особенною доверенностью в обществе. Мнение их уважается более мнения самих князей, однако ж надо заметить, что они очень упрямы в своих суждениях, часто бессмысленных, и что упрямство их большею частью побеждается только вином, чем и в этот раз г. Шармберг успел получить от них обещание давать оленей и оказывать всякую помощь, в удостоверение чего каждый из старшин поставил на законной бумаге своего рода знак, которым каждое семейство замечает все вещи, ему принадлежащие. В бытность нашу в Обдорске по представлению гг. гражданских губернаторов присланы из Кабинета его императорского величества 3-м старшинам самоедов за хорошее управление и срочное доставление ясака по кортику в серебряной оправе с орлиною головою на эфесе. Один из них, вынувши кортик из ножен и рассматривая оный, с важностью заметил: «Жаль, что ножик не остр, а то хорошо б было им рыбу скоблить». Когда начнет смеркаться, остяки и самоеды разъезжаются по своим подвижным юртам, располагаемым верстах в 20 от Обдорска. Ярмарка начинается обыкновенно в первых числах генваря и продолжается до внесения старшинами всего ясака. Происхождение остяков Остяки, отысканные прежде всех по покорении Ермаком Сибири, добровольно в 7102 году приняли подданство России. Название их происходит от татарского слова «уштяки», т. е. невежды, дикие люди, которое они получили от владевших тогда Сибирью татар и которое было принято и русскими с переменою слога «уш» на «ос». Остяки северные сами себя называют «кондихо», что на их языке значит человек. «Конди»9 происходит как от реки сего имени, так и от слова «хо» – человек, почему в сложности наречие «кондихо» значит кондийский человек, откуда и происходят настоящие остяки. Южные же остяки сами себя называют «асьяхами» от реки, на их языке Ях именуемой. Самоеды их называют «таг», что также значит человек енисейский. Вогуличи, по сущему невежеству и безразличию понятий, соседей своих, остяков, называют тем же именем, как и самих себя, манси – люди. Более ничего нельзя вывести о происхождении слова «остяк»; происхождение же самих остяков все историки согласно выводят от финнов10, хотя первые не имеют ни малейшего сходства с предполагаемым своим корнем, различествуя от финнов и физически, и морально. Язык же их не только не сходствует с языком последних, но даже ни с каким из европейских и восточных ни в выражениях, ни в значениях, ниже в звуке. Язык остяков, по-видимому, должен быть им одним свойствен и чрезвычайно беден выражениями, так что остяки, живущие по соседству с русскими, беспрестанно принимают русские слова и выражения, которые на их язык совершенно нельзя перевести. Даже самые остяки, живущие в большом между собою расстоянии, часто не понимают друг друга, и, вероятно, нужда заставила каждого из них понимать и выражаться согласно его понятию. Что же касается до трех так именуемых родов остяцкого поколения, то они решительно друг друга не понимают, ибо каждое из них имеет особый свой язык. Происхождение енисейских остяков производят от кочующих там аринцев и коттов, а обдорских и березовских причисляют к финскому поколению… […] Местопребывание остяков Все кочующие инородцы различествуют от скитающихся известным своим местопребыванием; к числу оных принадлежат остяки. Пространство занимаемой ими земли начинается от Томского округа Тогурского отделения до Обдорской крепостцы и за оную на 150 верст к северу, примерно на 3 тысячи верст по одному направлению. В зимнее время живут они в лесах поблизости рек и протоков, в оные впадающих, в земляных юртах расстоянием друг от друга в 10-ти, 20-ти, 40-ка и более верстах. В одном месте бывает от 4-х до 20-ти юрт в 20-ти, 30-ти и 40-ка саженях между собою расстоянием; летом же или в начале весны переходят они со всем семейством к большим рекам, где, смотря по надобности, разбивают временные юрты. Жилища и строения Инородцы строят зимние юрты свои следующим образом: выкопав на ровном месте обширную яму, опускают деревянный квадратный сруб, коего часть выводят и на поверхность земли, вышиною от 1-го до 21/2 аршин; на сем срубе со всех четырех сторон утверждают стропила, обрешечивают мелким лесом, покрывают оные берестою или травою и обкладыают земляным дерном. В самом верху, посредине крыши, сделано круглое отверстие, а сбоку – четырехугольное, в оба вместо стекол вставлены льдины. Пред юртою строят род сеней, особо пристроенных, из тальникового кустарника; низенькая дверь ведет во внутренность. Однако ж многие юрты бывают и без сеней; в таком случае во внутренность их входят прямо несколькими ступенями вниз. Потолков совсем не бывает, даже и полы не во многих юртах найти можно. На левой стороне при входе, у самых дверей, сделан из глины чувал с выведенною вверх трубою. Вся юрта внутри разгорожена на несколько отделений, похожих на стойла (забранные тесом), длиною около 3-х, а шириною 21/2 аршин; на самой средине юрты сии перегородки подняты от земли на пол-аршина; внутри оных настилается толсто трава пырей, а сверх оной плетенный из камыша ковер, что служит постелью для каждого семейства. Иногда в одной юрте помещаются по сим отделениям до шести семей. Хозяин каждого отделения привязывает подле оного собаку, спутника своего и товарища в трудах. Пол юрты выровнен и устлан также травою, а иногда бывает из досок, просто намощенных без всякой между собой связи. В верху одного угла накидано на перекладинах несколько жердей, на которые кладут остяки дрова и вешают свои платья, а внизу под оными ставят разные домашние вещи, как-то: кадки с водою, котлы и проч. Пылающий беспрестанно в чувале огонь служит им как для теплоты, так и для приготовления пищи. Другого строения у остяков почти нет. Только некоторые имеют небольшие амбары для поклажи рыбы, утвержденные на высоких столбах и покрытые с обеих сторон берестою и оленьими кожами; вход в оные сверху [с] помощью подставной лестницы к отверстию, закрываемому сетью. Летние временные юрты обыкновенно строятся остяками подле рек на высоких местах. Утвердив несколько кольев, концами кверху соединенных, обшивают оные берестою очень плотно; однако с другой стороны покрывают оленьею кожею, что и составляет летнее жилище остяков11. Наружный вид, физические качества и умственные способности остяков Мужчины роста среднего и очень нестатны, худощавы, слабы, вялы и неповоротливы, лицом желто-бледны, старообразны, бород не имеют, а дергают или стригут волосы, которые обыкновенно бывают черные, глаза маленькие, нос широкий, губы посредственные, пальцы на руках довольно правильные, ноги небольшие. Женщины также роста среднего, цвет лица имеют бледный, волосы черные, глаза небольшие, нос широкий, в лице несколько полнее мужчин, ноги и руки посредственные; нежности, свойственной прекрасному полу, совсем не имеют, напротив того, все черты лица и весь их состав весьма груб; к тому же болезни, свирепствующие между ними, не только изменили естественный вид, но даже совершенно обезобразили их наружность. Остяки исчисления времени более как до десяти лет не знают и знать сие считают за излишнее, бесполезное и даже вредное для спокойствия, ибо, почитая прошлые времена геройскими и счастливейшими для их предков, они всячески стараются удалить воспоминание о минувшем счастье, дабы оное не рождало в них сожаления и зависти. Время года остяки разделяют на 13 месяцев и считают новый год с новой луны между 14 и 21 числами октября; лунные течения замечают по перемене в рыбной ловле, для них очень понятной; также многое основывают на перелете птиц. Дальнейших же понятий решительно ни о чем не имеют. Язык Остяцкий язык отличен от всех европейских и азиатских и даже никакого явного сходства не имеет ни с каким из восточных, а потому и нельзя определить, от какого именно он происходит. Остяки, живущие в одном и том же округе, но разделенные пространством земель, между ними лежащих, составили три совершенно различные наречия, из коих каждое имеет особенное свойство и, имея одинаковое произношение, заключает в одних и тех же словах совершенно различные значения, так что остяки из разных мест совершенно не понимают друг друга. Язык их очень беден и только имеет одни названия вещей, употребительных между ними; с принятием же новых понятий от русских, принимают и слова русские. Письмен у них никаких нет. Нравы Простота нравов, издревле сохранявшаяся между остяками, достойна примечания. Они скромны, тихи, молчаливы и хладнокровны. Будучи добрыми соседями, они любят домашнюю жизнь, честны, верны и дружелюбны. Ссоры между ними весьма редки и прекращаются без всякой вражды и злопамятства. Хотя, подобно всем восточным народам, и остяки ревнивы, но ревность их напрасна, ибо к чести их жен должно сказать, что они чужды соблазна и ни за что не изменят своим мужьям. Самая величайшая их слабость есть пьянство, которому они предаются до чрезвычайной степени, и, к удивлению, могут выпивать весьма много, не сделавшись пьяными. Может быть, сия крепость происходит от того, что они с детства начинают пить вино, ибо родители сами приучают к тому своих детей. Сей порок тем более заставляет сожалеть о них, что, разгоряченные винными парами, они затевают между собою ссоры, хотя и маловажные. Местное начальство строго запрещает ввоз хлебного вина к остякам, а потому у них нет нигде кабаков. Но редкая и отличная черта их нравственности есть дружелюбие. Во время голода, при неуспешной рыбной ловле или в ином несчастном случае, те из остяков, которые имеют какую-нибудь возможность достать дневное пропитание, всегда разделяют оное со всеми живущими в одних юртах с ними; если же нет в той же юрте человека, который бы мог помочь прочим, то они без всякой робости обращаются к своим соседям, будучи уверены, что им не откажут в пособии. Одежда Одежда и обувь остяков состоит из оленьей кожи, которую они сами выделывают и шьют так называемые «малицу», «парку» и «гусь». Первая надевается наподобие сорочки, шерстью к телу, а сверх оной парка шерстью наружу. Малицу и парку подтягивают кожаным ремнем, шириною в ладонь, с разным украшением из меди, пуговиц, блях и пр. В жестокую же стужу сверх сего платья надевают «гусь» также шерстью наружу. «Достаточные» носят зимою дома «ягу», обувь составляют «чижи» и «пымы». Волос никогда не чешут, а подстригают оные спереди в скобку или заплетают в косу. Женщины носят такую же одежду и обувь, как и мужчины, но когда бывают дома и сидят в юрте, то надевают весьма длинные рубахи из крапивного холста, с стоячим воротником. Рубахи сии напереди сверху донизу по подолу и рукавам очень искусно вышиты разноцветною бумагою, а воротник унизан стеклярусом; волосы заплетают в две или три косы, сзади висячие, и надевают длинные холстинные покрывала подобно татаркам. На шее носят разного рода шнурки, низанные из бисера и стекляруса, надевают кресты и ладонки. Ни мужчины, ни женщины не шьют более никакой зимней одежды, да и по суровости климата иной иметь невозможно. Летом мужчины носят также рубахи из крапивного холста, но короче женских и без всякого украшения; некоторые ходят в армяках и чекменях, приобретаемых от русских; ходят же они летом всегда босые. Образ жизни и свойственные оному занятия Образ жизни остяков, столь близкий к природе, доказывает, что они жили во всей невинности нравов, чуждые лукавства и обмана. Ныне же причиною некоторого отступления их от прежних невинных нравов – русские поселенцы. Чем просвещеннее народ, тем порочнее! Горькая истина!. Однако ж остяки и поныне во многом хранят святой обычай старины; не удаляются от своих жилищ, разве при необходимой надобности; не ездят ни в город, ни по деревням и без крайней нужды не посещают даже своих соседей. Остяки очень услужливы и были бы гостеприимны, если б крайняя бедность не подавляла в них сей свойственной им добродетели. Что они любят гостеприимство – в том нет никакого сомнения, ибо на лице каждого хозяина изображается живейшее удовольствие при виде проезжающих. Нельзя сказать, чтобы остяки были деятельны и любили занятие. Ограничиваясь промыслами, необходимыми для существования их, они нерадивы ко всяким ремеслам, а потому и нет у них собственных изделий. Они очень беспечны и неопрятны, и в юртах их нестерпим дурной запах, который происходит от сырой рыбы, мяса разных животных и собак, с которыми едят и пьют из одной и той же посуды. Пищу их составляет большею частью сушеная рыба, которую едят обыкновенно сырую и нередко протухлую; зимою же мерзлую, разрезывая оную тонкими ломтями наподобие древесных стружек, отчего сие и называется по-сибирски строганиною. Более же всего любят сырое оленье мясо. При сем нельзя не заметить редкую черту их добродушия: домашних оленей своих они не бьют, а ожидают, пока они умрут от изнеможения или болезни (и у них нет для сего особых боен, как у просвещенных народов). Пользуясь мукою из казенных магазейнов, варят «салым». Хлеба не пекут, а вместо оного месят лепешки из непросеянной ржаной муки или из рыбьей мякоти, обращенной в муку; разводя оную в теплой воде и приправляя рыбьим жиром, кладут в горячую золу; варят также похлебку из сырой рыбы без муки и соли; летом прибавляют к оной головки сараны (Lilium martagon); похлебка сия по-остяцки называется «коткей» и служит пищею одним богатым, которые потчуют ею гостей на свадебных пирах. Упражнения и промыслы Рыбная и звериная ловля, частью же и птичья охота составляют единственное их упражнение, а потому все годовые времена расположены у них соответственно сим занятиям. По вскрытии рек остяки оставляют зимние свои юрты и отплывают на лодках со всем семейством по рекам, заливам и протокам, где, как выше сказано, устраивают свои балаганы и проводят лето, занимаясь рыбным промыслом, а по временам ловят и птиц. Рыбу просто сушат на солнце, оставляя часть оной на зимнее продовольствие; прочую же продают или променивают. Осенью, в октябре месяце, возвращаются с добычею в зимние юрты, и в том же месяце или в начале ноября, по малому снегу, вообще все остяки (даже некоторые с своими семействами) отправляются в нартах по лесам для ловли зверей, как-то: зайцев, лисиц, выдр и сим занимаются до глубокого снегу, а потом ловят соболей и белок. В генваре приходят опять в юрты и немедля по замеченным уже прежде местам отправляются толпами на медведей, коих стреляют пулями из винтовок весьма искусно; многие же имеют приученных собак, с помощью которых убивают сего зверя рогатинами. Против медведей остяки употребляют те же самые средства, как и крестьяне в российских губерниях, занимающиеся сим промыслом. В марте месяце отправляются одни мужчины за оленями, коих нередко ловят живыми, но большею частью убивают их стрелами, также и из винтовок пулями. При наступлении оттепели приезжают обратно в юрты, привозя с собою оленье мясо, и тогда ожидают покойно вскрытия рек. В отсутствие мужей жены их ловят рыбу по близким и мелким протокам, заготовляют на зиму дрова, шьют или починивают платье для себя и мужей, ткут из крапивы холст, а из камыша плетут ковры, служащие им вместо постелей. Женщины во всех сих рукоделиях отменно искусны. Не имея возможности подобно русским крестьянкам украшать себя материями и ситцами, заменяют наряд свой оленьими кожами собственной их выделки. Платья, шитые из сих кож, чрезвычайно тонки и мягки и так прочны, что по шву никогда не разорвутся, несмотря на то что их шьют короткими, из грив оленьих волосками; для большего же щегольства испещряют оные разноцветными кусочками той же кожи. Забавы Остяки не знают никаких игр, и все увеселение их состоит в пляске, довольно смешной и похожей на прыганье молодых оленей, жеребят, козлят и других животных, но и сей род забавы весьма редок. Музыка их состоит в двух инструментах, называемых «дернобор» и «гульбра» или домбра, на коей играют по кишечным струнам маленькою плоскою дощечкою, припевая песни, весьма заунывные и всегда однозвучные; но, не имея понятия о мере и согласии звуков, они музыкою и припеванием своим до того оглушают, что вовсе отнимают охоту себя слушать. Другой их инструмент, «дернобор», походит несколько на арфу (по-сибирски «лебедь», а по-остяцки «хотол»), имеет 8 струн. Орудия, употребляемые при промыслах Лов зверей производится у остяков петлями, «кляпцами», капканами, отравой12, стрелянием из лука и «тамарами», самострелами и огнестрельным мелким оружием; птиц ловят «плетцами», «скопцами», а иногда стрелянием из лука и ружей, по большей же части – «перевесами». На рыбной ловле употребляют неводи, сети, «морды», «колыданы», переметы, самоловы, «копцы», остроги и нередко бьют из лука. Богатства Вообще остяки бедны, однако ж есть между ними и «достаточные». Богатство их состоит в одних оленях, сберегаемых ими с крайнею осторожностью и величайшею заботливостью; у кого есть от двухсот до пяти тысяч оленей, тот называется богатым. Не имеющие оленей действительно очень бедны, ибо животные сии доставляют остяку все платье, пищу; продавая же или променивая свой излишек, он достает вещи другого рода, столь же для него необходимые. Невозможно, однако, назвать сие истинным богатством по той причине, что, как бы велико число оленей у остяков ни было, он не улучшает своего состояния, живет в одной и той же юрте, употребляет такую же пищу, как и все прочие, т. е. рыбу и мясо издохшего оленя. Одна крайность заставит его убить оленя для утоления голода, и то только богатые решаются на таковое пожертвование; бедные же голодное время питаются одним подаянием. Государственные налоги Платимая остяками подать состоит в так называемом ясаке и сорокачетырехкопеечном сборе. То и другое вносят они разного рода звериными шкурами, которые принимаются от них по цене, установленной правительством еще при начальном обложении сего народа ясаком; от всех же других обязанностей: рекрутского набора и разных повинностей – они изъяты, исключая, однако, живущих среди русских, ибо таковые, имея всю оседлость, обязаны, наряду с русскими, выполнять обывательскую и почтовую гоньбу, из коих первую отправляют натурою по очереди, а за последнюю вносят деньги. Родоначальники Имели ли остяки прежде какое-нибудь верховное правление – не известно, но до покорения их Российской державе у них были старшины, именовавшиеся князьями, коих роды впоследствии времени перешли уже в простое состояние. Ныне, будучи рассеяны на чрезвычайно обширном пространстве, остяки разделяются на несколько сотен и каждая сотня имеет своего особенного старшину. Звание старшины не наследственное, но избирательное. Смерть старшины, или другой какой случай, или самые неудовольствия на правление старшин часто служат поводом к перемене сотенного начальника. Впрочем, старшины сии не имеют никакого права и власти входить в разбирательство тяжб или жалоб своих подчиненных: вся обязанность их состоит в сборе ясака. Кроме же сих избирательных старшин, остяки имеют над собою верховного главу, носящего звание князя, принадлежавшее некогда роду Тайшиных и переходившее от отца к сыну. Один из предков нынешнего Тайшина был возведен царем Алексеем Михайловичем в княжеское достоинство; грамота его доселе хранится в целости, но в ней не упомянуто о потомстве. Дед Тайшина в царствование императрицы Екатерины II-й удостоился вновь получить грамоту на княжеское титло, но о потомстве также ни слова не сказано. По сему случаю прислана была ему одежда, состоящая в бархатном малиновом кафтане, обшитом галунами, такое же исподнее платье, камзол белого атласа, вышитый золотом, с блестками, обыкновенная русская рубаха тонкого полотна, шейный шелковый голубого цвета платок, красные, золотом шитые сафьянные сапоги, малинового бархата шапка, обложенная золотыми шнурками, и пестрый пояс; на поясе висит кортик средней величины с изображением на рукоятке орлиной головы. Остяки, не имея истинного понятия о законном праве потомственного княжеского достоинства, почитают и нынешнего наследника Тайшина также князем, а сей, признавая себя таковым по домашней привычке, надевает платье, присланное его деду, и во время съезда остяков при сборе ясака представляется им в полном убранстве. Не одни остяки оказывают почтение Тайшину – еще более уважают его самоеды, у которых хотя с недавнего времени свой особенный старшина, но как они повиновались прежде тем же князьям Тайшинам, коих род происходит от самоедов, а не от остяков, с которыми они приняли только святое крещение, то и по сие время князя Тайшина предпочитают своему старшине Пайголу. Нынешний князь Тайшин роста хотя малого, но статен, лицом не так дурен, как вообще все остяки, белокур, бороды не носит, сложения довольно крепкого, природного ума имеет очень много, чрезвычайно горд, самолюбив и скуп до крайности. Семейство его состоит из двух взрослых сыновей и трех дочерей, которые все выданы в замужество хотя и за простых остяков, но самых богатых. Сам князь весьма богат: у него более пяти тысяч оленей и около двадцати тысяч рублей наличными деньгами, остающимися мертвым капиталом без всякого употребления. Образом жизни он ничем не отличается от простых остяков и, несмотря на богатое состояние, не только не улучшает пищи и одежды своей, но еще едва ли не равняется в том с самым беднейшим из своих подчиненных, а потому и отличить его от простого остяка невозможно. Судопроизводство Из преданий об остяцком и самоедском народах начиная с IV века известно, что они имели (и поныне имеют) владетельных князьков, пользующихся, по мнению инородцев, правом наследия. С пресечением же мужского колена, избирается князем достойнейший, к которому и прибегают прочие на совет в важных случаях; впрочем, князья их ничем не отличаются от простолюдинов: они так же необразованны, носят то же платье и занимаются теми же промыслами, только зажиточнее прочих, хотя ничего не получают от своих подданных. Есть еще у инородцев старшины, которые избираются народом и утверждаются правительством и которым поручается для управления каждому по одному участку или округу. Должность их состоит в исчислении народа и сборе ясака в своем округе. У старшин есть помощники, называемые мировщиками, которые обязаны все неважные ссоры в народе решать мировою сделкою. В важных же происшествиях, доходящих до земской полиции и требующих усовещения, или в сомнительных случаях приводят, по словам Палласа, к идолопоклоннической, сходной с их понятием присяге, что происходит таким образом: приносят божка (деревянного болвана) и, сперва напомнив о том, чему преступник или лжесвидетель может, присягая против своей совести, подвергнуться, велят ему отрезать у сего божка нос или как-нибудь изуродовать, причем он должен за толмачом произносить следующие слова: «Если я в сем споре неправо клянуся, то чтоб равным образом мне не иметь своего носа, чтоб быть топором в лесу изрублену, медведем изорвану и всяким несчастием быть гониму». Таким же образом заставляют присягать свидетелей. Остяки никогда не присягают ложно, и если случится, что остяк присягнет неправо (чему очень мало примеров), то от страха и угрызения совести действительно впадает в несчастие, что и приписывает ложной клятве и раздраженному божку. При восшествии на престол государя императора собирают остяков для присяги вместе, кладут посредине топор, медведя или медвежину, потом дают каждому с ножа кусок хлеба, причем он должен произносить следующее: «Если я моему государю до конца жизни моей верен не буду, своевольно отпаду, должного ясака не заплачу и из моей земли уйду или другие неверности окажу, то чтоб медведь меня изорвал, чтобы куском сим, который ем, мне подавиться, топором сим да отрубят мне голову, а ножом сим, чтоб мне заколоться». Если их поставят на колени на медвежьей шкуре, то по совершении присяги каждый из них должен откусить медвежины, причем многие для оказания ревности зубами выщипывают шерсть. Подобные присяги, где главнейшую роль играет медвежина, в употреблении у большей части полудиких сибирских народов. Религия Остяки, как известно, начали принимать греко-российскую веру в царствование царя Алексея Михайловича, с 1652 года. Но образ жизни их не дозволяет им следовать вполне уставам церкви. Так, напр., продолжительные отлучки за звериными промыслами не дозволяют им посещать церкви более одного или двух раз в год, у исповеди же и причастия бывают еще реже, и притом, истощая в это время все свои запасы, принуждены бывают по постам есть мясо убиваемых зверей. Должно заметить, что при крещении каждому остяку дается крест и рубашка, почему ради сей обновки часто некоторые из них приходят по нескольку раз просить святого крещения, следовательно, и метрические книги об остяках не могут быть верны. Однако ж крещение принимают только одни взрослые, а малолетних детей прячут в кочевьях, которые для священника отыскивать весьма трудно. Впрочем, большая часть остяков, живущих на Севере, несмотря на принятое ими крещение, сохраняет прежнее свое идолопоклонство и совершает свои обряды13 в сокровеннейших местах отдаленных лесов, куда приходят зимою по окончании своих промыслов. Таким образом обеспечивают жребий богов своих от всяких покушений со стороны русских, не знающих ни времени, ни места их идолослужения. Кумиры у остяков выливаются иногда из олова и меди и изображают большею частью волка, лисицу, соболя, особенно же медведя, которому дикари сии оказывают не менее странные, как и любопытные знаки верования. Когда попадается остякам в добычу сие четвероногое божество, то меткая рука их не дрогнет пустить стрелу в него, но, убивши медведя, они подходят к нему с сокрушением и, держа его за уши, просят в одно ухо о милосердии к ним, в другое же о споспешествовании в добычах. Пример уважения их к сему зверю я заметил на моей медвежьей шубе. От самого Березова до Обдорска на станциях остяки никогда не допускали меня положить ее на место, но держали в руках нараспашку до тех пор, пока я опять надевал ее. Тщетно просил я их положить ее куда-нибудь до времени. Наконец убедясь неоднократными опытами, что просьба моя оскорбляла простодушных остяков, я перестал их тревожить и не без удивления наблюдал, с каким благоговейным вниманием рассматривали они смертную оболочку своего божества и, похаживая около моей шубы, нашептывали, вероятно, молитвы. На жертвенники, образуемые в средине трехдревесного дупла, остяки и самоеды приносят в дар богам лучшие из шкурок, добываемых ими на охоте. Стрелы, служившие им удачнее других во время звериного промысла, вонзают из лука в дерево; также обертывают сии деревья после обильной рыбной ловли любимым неводом, коего ветхость свидетельствовала бы его заслуги. Кроме того, неподалеку от Обдорска, между тремя пригорками, инородцы с давнего времени совершают жертвоприношение, состоящее в опавших оленьих рогах, коих ежегодные насыпи составили две довольно высокие горы. По уверению обдорских простолюдинов, имеющих с остяками сношения, близ Белого острова находится песчаная отмель, где остяки и самоеды пристают в своих проездах для отправления другого обряда: они купаются для сообщения с водяными божествами и, вышед из воды, бросают в оную кусок меди или медные деньги, получаемые от русских; богатые же приносят своему Нептуну обильную жертву из оленей, которых топят со свойственным им благочестием. Еще есть у них в глуши божницы14 наподобие юрт, в которых шаманы их совершают идолослужение в известное время; там же хранятся безобразные их кумиры, вылитые из олова и меди, большая же часть вытесанные из деревянных чурбанов. После удачной звериной ловли остяки, соревнуя друг другу, приносят сим богам в жертву по шкурке, переменяя ежегодно старые жертвы новыми. Если ж, на беду сих богов, постигнет остяков неудачная охота, то, чтобы отомстить настоящим виновникам своей неудачи, они выносят сии чурбаны из капищ и, в ярости разрубив на мелкие кусочки, раздают по рукам своих старейшин. Истребя сею короткою расправой недостойных своих кумиров, они заменяют их новыми и в простоте сердца возлагают всю надежду на могущественное покровительство сих новосозданных богов.
Идолы и религиозные и священные предметы Пусть мыслители решат, каким образом согласовать непритворную веру остяков с столь преступною мстительностью богам своим за мнимое их неблагоприятство; я же думаю, что или каждый кумир у остяков почитается условным и частным лицом, осуществленным и освященным их шаманами, или они признают идолов только предстателями у своих благих богов и потому при общих неудачах, уверенные в ничтожестве их предстательства, сокрушают их, как недостойных. Не так легко объяснить их верование в покровительство убиенных ими медведей. Одним словом, остяки веруют в бытие земных и водных богов, покровительствующих их промыслам; они приносят им различные жертвы, и заповедные леса их с жертвенниками горным и древесным богам напоминают древних друидов. По свидетельству же Миллера15 и Палласа16, самоеды поклоняются солнцу и луне, даже самым звездам, которые в неизмеримых степях служат им путеводителями. Кроме того, помянутые путешественники уверяют, что самоеды веруют в бытие создателя всех существ17. Но так как, по мнению их, сие верховное божество ими не занимается, то и они считают излишним ему поклоняться, или, иначе сказать, так как они считают себя недостойными внимания всевышнего, то и утруждать его молениями своими не дерзают. В 1826 году г. гражданскому губернатору Бантыш-Каменскому прислан был от березовского исправника Лебедева найденный русскими в остяцких лесах кумир, изображающий старика, с длинною бородою и разительными чертами, вылитый из красной меди, весом в 7 фунтов. Хотя Паллас с достоверностью указывает место торжественного кумиропоклонения и описывает самые кумиры, их убранства и всю бывающую при том церемонию, что, может быть, в его время и существовало, но как в настоящее время мы ничего особенного о том узнать не могли, то и помещаю его описание (79 стр.). Ныне главнейшее для идолослужения место у обских остяков и соседственных самоедов имеется подле Воксарских юрт, 70 верст ниже Обдорска. Оно находится в лесу, и остяки наивозможнейше хранят и все дороги закрывают, чтоб русские оного не проведали. Остяки собираются туда в великом множестве для приношения жертвы; там имеются два болвана, один в мужском, другой в женском платье одеты. Оба по остяцкому манеру с особенным великолепием убраны разными материями и шубами украшены; платье окладено разными медными и железными из блях фигурами, всяких животных изображающими; на голове же имеют по серебряному венцу. Каждый стоит при одном избранном дереве в особливой будке. Дерева украшены разными сукнами и другими материями, вверху обиты белою жестью, и привешен колокольчик, который, от ветру мотаясь, звонит во всякое время. При мужском болване висят на дереве колчаны, луки, а на около стоящих деревах бесчисленное множество навешено оленьих и из других зверей шкур, а от прежде принесенных жертв множество всякой остяцкой домовой посуды: котлов, уполовников, чашек, на жертву принесенных рогов с табаком и тому подобных вещей. Мужчины молятся только одному мужскому болвану, а женщины, собравшись под предводительством шаманки, женскому болвану приносят дары свои и жертву. Есть еще и другие места, где остяки в лесах деревам божескую честь отдавали и множеством кож и других шкур украшали; но, узнав, что проезжающие казаки от ветра и тления добрые и к другому делу полезнейшие кожи без угрызения совести спасать стараются, начали они из таких дерев делать большие обрубки, кои, одаря, украся, хранят в сокровенном месте». Остяки и самоеды свято хранят все свои обряды, что поддерживается хитростью их шаманов. Легковерность сих дикарей до того простирается, что, проезжая водою мимо святых мест, они всячески стараются держаться средины рек, чтобы веслом не коснуться до берега и не разгневить тем божества. Томимый жаждою остяк не смеет напиться воды из реки, обтекающей святое место, а тем более вырвать траву или сломать деревцо. Для освящения же какого-нибудь места немного нужно условий: стоит только несколько лет сряду производить на нем удачную ловлю зверей; дерево же, на котором несколько лет орел вьет гнездо, также делается священным. Сверх того каждый некрещеный инородец, не исключая и женщин, имеет по идолу, просто вырезанному из дерева, на которого навесивши разных разноцветных лоскутков, хранит в корзине у своей постели. Каждый остяк, отправляясь на охоту или возвратившись домой, отправляет перед идолом Пенатом разные обряды; пришедши домой с добычею, он поднимает перед идолом кверху руки, напевает ему из всей силы свою благодарность, потом, падая на колени и держа в руках дары, потчует ими бога своего, крича громко и весело: «Кушай! Кушай!», пачкает весь болван жиром и, намазав им несколько раз ему губы, начинает сам есть за здоровье своего безмолвного бога. Сказавши о частных жертвоприношениях, следует упомянуть о всеобщем, которое редко можно встретить, и только при неожиданных всенародных бедствиях, как-то: при общей неудачной охоте и при разглашении шаманами ложного слуха о проезжих чиновниках или какой-либо перемене, предпринимаемой правительством для их же пользы. В этом случае шаманы прибегают к богатым людям, рассказывают и истолковывают ложные сны, угрожают гибелью всему народу и, пользуясь легковерностью своих единоземцев, соглашают их на большое жертвоприношение, которое состоит в следующем. Богатые с целыми стадами, а бедные просто без всего сходятся на определенное место к подвижной божнице (юрте), разводят большой огонь, а шаманы с бубнами в руках, прокричав напевом во все горло вместе с предстоящими общую просьбу к божеству, начинают при беспрестанном крике жертвоприносителей неистовствовать, кричать, биться, стучать в бубен и кататься в исступлении по земле; в это время жертвоприносители держат одни оленей за рога, другие стоят с натянутыми луками, третьи с заостренными кольями, и как скоро шаманы подадут знак ударением палкою оленя в голову, то стрелки в мгновение пускают стрелы в сердце оленей, а другие спешат добивать бедных животных, ибо в скорейшем умерщвлении полагают большую приятность для идола. Хозяева павших жертв тотчас выпарывают из убитых оленей сердце, выжимают кровь и потчуют ею болвана; выпущенную же кровь из всего тела сами пьют, мясо едят, а остальное разделяют между всеми жертвоприносителями, которые и развозят оное по домам для угощения своих семейств; что же касается до кож, то оные развешиваются на окружающих жертвенное место деревьях. Шаманы во все сие время не перестают неистовствовать, пока, совершенно выбившись из сил, упадают без чувств на землю. При сем у остяков до того разгорячается воображение, что им представляется, будто из шаманов выходит голубой дым, и сие воображаемое явление служит знаком сношения шамана с злым духом и приятной жертвы для идола. Кроме того, у остяков и самоедов есть бесчисленное множество предрассудков, к которым шаманы их беспрестанно вновь приучают. Как напр., в каждой юрте на противоположной стороне дверей стоит высокий шест, высунувшийся несколько в верхнее отверстие кровли: шест сей, представляющий, по их обычаю, хозяина юрты, неусыпно заботящегося о доме и целом семействе, в таком у них почитании, что никто из женского пола, исключая детей до 8-летнего возраста, не смеет пройти перед ним ни днем, ни ночью; в случае же необходимой надобности должны обходить стороной вокруг разложенного и неугасаемого огня посредине юрты. Женщины остяцкие никоим образом не смеют перейти оленям дорогу, а должны либо переждать, пока они проедут, либо переползывать под упряжью между нартой и оленями. Во время обыкновенного периода у женщин они не только не смеют спать с мужьями, но даже и прикасаться к их одежде, между тем как в обыкновенное время отправляют для мужей своих все услуги; касаться же до охотничьих орудий или подходить близко к оным женщинам во всякое время запрещается, равно как и дотрагиваться до дощечки на передней части нарты, чрез которую проведены вожжи. О шаманах Шаманы у остяков, у самоедов «табыбы» заменяют сановников духовных и народом свято уважаются; доверенность народа ко всем их обманам и рассказам так велика, что не только никакое убеждение, ниже страх поколебать их не могут. Для достижения сего духовного почтенного сана требуется многое, из главных достоинств: проницательный ум, твердый характер, мечтательное воображение при скором самоуверении, также правильность телосложения, которая при отличных душевных достоинствах большею частью заключается в посредственном росте, быстрых глазах, в гибкости членов как необходимость ко всем неистовым, доходящим до исступления и бесчувствия телодвижениям, в чем и заключается таинство шаманов и шаманок. Достоинство и знание шаманское18 не рождается по назначению; «выродки» между инородцами, как, вероятно, и между прочими народами, гении по душе и чувствам, не находя для духа своего пищи в обыкновенном быту, сначала толпятся, а наконец пристают к людям, разыгрывающим необыкновенную сию роль, всматриваются пристально и при малейшем ощущении в себе к тому способности упражняют ум и тело, начиная с трудов и поста, состоящего в одном воздержании ничего не есть при людях до времени жертвоприношения; труды же заключаются в беспрестанном следовании за разными шаманами и в присутствовании на всех жертвоприношениях, между тем как во время скитающейся жизни, прислушиваясь к лукавым рассказам и нелепому толкованию шаманских снов, с юных лет отравляют превосходные способности мечтательными взорами, а при случае и за отсутствием своих наставников, пользуясь слабоумием народа, предпринимают всенародно кривляния молодым телом. Мало-помалу, занимая ум и чувства зрителей, снискивают легко и прочно любовь и доверенность народа. Не удивляйтесь! Мы видим ежедневно это самое и между просвещенными. Шаманы и шаманки, проводя всю молодость свою в упражнениях, раздражающих ум и чувства, напоследок делаются до того чувствительны, что, при малейшем желании представить шаманскую фарсу, приходят в мечтательное исступление, в котором, сначала кружась на одной ноге, делают до усталости всевозможные движения всем телом и в бесчувственном полоумии бьют себя в грудь и голову, падают на землю, кувыркаются и до того не перестают биться, пока, потеряв все чувства и силы, не уснут от расслабления, продолжающегося иногда около двух дней. Шаманы и шаманки во время своих фарсов и при жертвоприношении являются в особом, им одним свойственном платье с бубном в руках, в который ударяя, возбуждают свои силы, часто не расположенные к шаманским трудам. Платье шаманское сшито из оленьей кожи, длинного покроя, с рукавами. Достоинство оного состоит в количестве металлических крючков, колец, бляшек и погремушек, которые большею частью бывают железные и так густо унизывают весь наряд, что даже невозможно бывает заметить, из чего сделано платье. Женщины во время шаманства бывают с открытою, растрепанною головою; мужчины же иногда надевают шапочку из разноцветных суконных лоскутков; нередко же надевают на голову железный обруч для показания, что без оного череп от сильного чародейства может развалиться. Многие из знатнейших шаманов и шаманок знают фиглярские штуки: колоть себя ножом в живот безвредно; выворачивать нижние и верхние веки, что также немало обезображивает их сумасбродное состояние; иные, проводя тесемку из оленьей кишки чрез нос в полость рта, связывают ее концами наподобие петли и при усталости заставляют себя помощникам и старейшинам в народе таскать около жертвоприношения; иные умеют глотать десятками железные кольца и согнутые гвозди; иные, наложив на горло из веревки петлю, заставляют себя душить четырем и даже шести человекам и, притворясь на время умершими, вскакивают и еще с большим неистовством продолжают начатые фарсы. Простодушный народ, взирая с умилением на беснующихся безумцев, по обыкновению всех диких народов, отдает первенство свирепейшему из шаманов, и у них глупый, но дерзкий и отчаянный шаман или шаманка берет верх над другими. Свадебный обряд, родины и похороны Самоеды и остяки, не исключая и крещеных, при свадьбах следуют обычаям предков своих и свято соблюдают их. Развитие органических способностей, а с тем вместе и желание жениться мужчины на севере получают не ранее 20 лет. Возмужалый дикарь, задумав жениться, собирает своих товарищей и отправляется с ними к отцу невесты, который, встретивши гостей, угощает их; потом жених уезжает и, остановясь в нескольких саженях от юрты, посылает свата осведомиться, как велик калым за невесту; стараясь уменьшить требуемое, вторично посылает с объявлением, сколько он может дать. Будущий тесть обыкновенно сначала упрямится, мало уступает, наконец соглашается, и жених со свитой уезжает; готовит половину калыма, доставляет оную будущему тестю и назначает невесте срок, чтоб быть готовой; в этот срок доставляет остальную половину платы, дарит родителей невесты платьем и велит матери стлать постель, на которую сперва ложится сам, а потом и невеста, погася огонь, приходит и ложится, но сначала на другую, рядом постланную постель, чем и оканчивается обряд свадьбы. Наутро, если молодой доволен своей женою, дарит тещу новым платьем и оленем – в противном же случае отдаривает оными жениха теща. Кожа, на которой молодые спали, изрезывается мелко и разбрасывается по полю. Надо, впрочем, заметить. а) Что жених до свадебной ночи едва ли один раз видит невесту и ни слова с нею не говорит. b) У невесты же не спрашивают о согласии ни родители, ни жених. с) Она должна быть совершенных лет и от другого рода, на родной же, даже и дальней, дикари ни за что не женятся. Впрочем, все из другого рода происходящие у них не считаются роднею, почему, в случае смерти старшего брата, младший, если ему жена его нравится или у ней есть дети, охотно на ней женится. d) Чем отец невестин богаче, тем более требует за нее выкупу (калым), который простирается от 3-х и до 150 оленей, причем нередко требуют от жениха и русских изделий, необходимых в кочующем быту, как-то: котлов, топоров, ножей и проч., и, пока жених по условию всего не выплатит, до тех пор ему невесты не отдают, отданную же на срок уплаты не достающих по условию вещей отец к себе возвращает, а зятю до малейшей малости (честнее многих просвещенных европейцев) возвращает забранный у него калым, что самое соблюдается, если муж не пожелает иметь жены, хотя бы по истечении 10-ти лет, чего, впрочем, никогда не случается. е) В случае скорой смерти жены после свадьбы тесть обязан возвратить жениху весь калым. Надо также заметить, что инородцы женщин не только не считают в числе людей, но даже почитают их нечистыми тварями, почему женщины у них в большем пренебрежении, нежели где-либо у прочих народов, что самое и заставляет их покупать себе жен, как невольниц, и обходиться с ними по-варварски. Между тем как жены их очень ласковы и услужливы, они невольнически исправляют все житейские нужды и даже безрассудные требования своих мужей: переносят по надобности с места на место юрты, окладывают и разбивают оные, шьют платье, искусно вяжут из камыша ковры, ловят рыбу и птицу, варят кушанье, носят воду, рубят дрова, вялят рыбу, вяжут из ниток (делаемых из крапивы и тальниковой коры) невода и даже запрягают оленей. Несмотря на то, хладный ленивый остяк часто по недели не удостаивает даже и неласковым словом жену свою, все делает без ее совета и при малейшей с ее стороны неисправности жалуется тестю и с его позволения нередко бьет ее – без воли же на то ее отца не смеет того делать. Самоедки и остячки не плодородны. Чему приписать сие: хладности ли их мужей грубой ли пище или тому, что, выходя замуж против воли, они проводят всю жизнь свою в неудовольствиях, недостатках и трудах? По недостатку горячности мужей к женам и ревности между сими племенами почти нет, чему доказательством служит у них следующее обыкновение. На исходе беременности муж с повивальною бабкой делают жене исповедь. Настращав ее сначала жестокими муками, уродливостью будущего младенца и самою смертью, если бы она хотя что-либо утаила, требуют у нее искреннего признания, не участвовал ли кто-либо в ее беременности, и бедные инородки, опасаясь угроз, а того более смерти, сознаются простодушно в своем прегрешении и называют даже, по обыкновению, поименно своих соблазнителей, если они не родные, родных же имен не говорят. Впрочем, муж на жену за неверность ее не сердится, соблазнитель же наказывается немалым штрафом. По сему самому и привязанность родителей к детям у инородцев слишком ограниченная, что можно приписать также и легким родам их жен. Новорожденного младенца обыкновенно берут все окружающие родильницу на руки, целуют и передают друг другу. Еще до рождения младенца отец приготовляет засушенную оленью жилу для перевязки пупка и хороший ножик, который и остается в подарок повивальной бабке. Необмытого новорожденного кладут в корзинку, набитую либо пухом из тростника, либо мягким мохом, либо пушистой травой, либо толченым гнилым деревом; из этой корзинки, за неимением белья, детей не вынимают, а только вытаскивают из-под них по временам верхний слой подстилки, что продолжается до тех пор, пока дитя не дойдет до самого дна корзинки; тогда его вынимают и, снова набив корзинку упомянутой подстилкой, кладут его опять в оную. Инородцы и взрослых детей никогда не моют. Матери, находясь беспрестанно в работе, повсюду таскают их с собою в корзинах по сырости и холоду, отчего дети редко переживают первый год своей жизни, что и объясняет причину медленного размножения инородцев. Имена дают детям не ранее 5 лет, которые, впрочем, сохраняются ими только до 15-летнего возраста и переменяются уже постоянными, сохраняемыми до самой смерти. Притом каждый род или поколение имеет свои собственные имена, даваемые по назначению родных или в память покойных, присвоение же имени из чужого рода и без согласия считается величайшею обидою, и дело оканчивается не иначе как дракой. Имена, раздаваемые после 15 лет, определяются отцом. У остяков, принявших святое крещение, берутся имена от святых и более прочих повторяются Никола, Иван, Кирила, Алексей. Самоеды же заимствуют свои имена от птиц, дерев, зверей, одежды и тому подобных вещей (что замечает и Паллас), как напр., Ханхара (сани и лиственница), Нерм (прорубь), Лаача (ушка), Лакур (неровная земля), Наймал (ломаная нога), Пальма (ножны), Мо (сук), Халевугой (тараканья нога), Хайдыо (дикий), Варити (сумасброд), Тугуй (женский убор), Ентугай (гусиная лапа), Ендычо (горбатый), Панытабой (лоскутная шуба), Удази (слаборукий), Ганзи (слабоногий), Подора (лес), Ламбой (лыжа), Поя (ольха). Жены мужей называют у остяков не по имени, а словом «гаг» (мужик), а мужья жен «ими» (баба); самоеды же называют жен «не» (баба), а жены мужей «хазово» (мужик). Особенных же имен женщины ни у остяков, ни у самоедов не имеют. Остяки называют их общим именем «Еви», а самоеды «Ини».
Смерть По преданиям, верят в переселение душ19, и при смерти остяка сбираются родные и знакомые и, севши вокруг покойного с печальным видом, плачут и стонут; причем женщины находятся поодаль. Умершего одевают в любимое платье, кладут на постель, а вокруг него нужное для остяка орудие: лук, стрелы, нож, топор, ковш, и рожок с табаком, и вырезанное из дерева огниво, и кремень. Обложенное таким образом тело перекладывается в лодку, у которой корма; несут на кладбище («халасами»), по обыкновению, на возвышенном месте, которое бывает всегда постоянным. Причем наблюдается, чтобы тело мужчины несли мужчины, а женщину женщины. Гроб сопровождается всегда множеством народа, и родные покойника ведут сзади трех лучших из всего стада его оленей, запряженных в сани. Гроб опускают в могилу, глубиною в аршин, головою к северу; потом, с криком и воплем закопавши оную, заключают печальный обряд в честь усопшего жертвоприношением. Приведенных оленей раздирают за задние ноги надвое и вбивают им в бока 4 заостренных кола. Таким образом умертвивши, оленей оставляют на кладбище, а сбрую зарывают над могилой в кучу хвороста, которая покрывается санями. У самоедов отправление сей церемонии отличается только в том, что у них присутствует при ней «табыб» (шаман), который во всем облачении и с бубном в руках умоляет душу усопшего, чтобы она переводила к себе других из семейства и уступила бы им места удачные для ловли. Кроме того, у самоедов надевают на покойника все платья его одно на другое, сколько бы он ни имел; если же нельзя уже надевать которое, то завертывают вместе с орудиями в старую от юрты крышу, делаемую обыкновенно из оленьих кож; а чтобы душа, по разрушении тела, могла где жить до своего переселения в другое тело, надевают покойнику на голову котел. После этого тело не выносят, как у остяков, а вытаскивают за голову в поднятую в юрте крышу с противоположной стороны дверей, согласно их мнению, о котором мы уже и упомянули: опасаясь, дабы душа умершего не вздумала за собою и других потащить, то как будто бы она сама приподнять крышу не смеет, а в двери, согласно их понятию, она не имеет свободного входа. У самоедов нет определенных кладбищ, и они хоронят покойников на возвышенных местах, закапывая летом поверхностно в землю, а зимою окладывая изрубом и засыпая хворостом. Поверх могилы кладут убитых оленей в сбруе, на поминки делаются обеды: убивается олень и остальное мясо от потчевания гостей развозится ими же по домам для поминовения усопшего тем, которые не были на похоронах. У инородцев, как и у европейцев, есть обычай носить по смерти родных траур; только у нас состоит он в цвете платья, а у них совершенно в полной одежде; так, жены по мужьям носят третью косу, которую оставляют на правом плече незаплетенною, а мужья по женам ходят несколько времени не подвязавши сапог и платья, что соблюдается и при смерти взрослых детей, сестер и братьев; по прочим же родным и по престарелым20 родителям траура не бывает. Болезни Из всех болезней между остяками свирепствует природная оспа, против которой все врачебные пособия безуспешны, не исключая и самого прививания коровьей оспы, ибо суровость климата, уничтожая существенную силу оспенной материи, препятствует ее действию. Прибавьте к сему неудобству кочующую жизнь остяков, сырую пищу и безрассудную их отважность, влекущую их за промыслом и в лес, и в воду, вопреки угрозам жестокой стужи, и вы поймете, почему все старания опытных и заботливых врачей не приносят никакой пользы сим несчастным. Даже в летнее время ежегодно прививаемая коровья оспа хотя и производит на некоторых остяцких детях видимую сыпь, но, вместо того чтоб наблюдать надлежащий свой ход, сыпь сия воспаляется, зреет и засыхает в течение не более 5-ти дней. Сию неправильную преждевременность не должно относить к недействительности или худому качеству коровьей оспы. Я собственными опытами убедился, что причину тому должно искать в другом месте. Лучшая оспенная материя (vaccina) снятая была неоднократно мною и прививаема в одно и то же время детям, рожденным от остяков и от русских, недавно туда прибывших. Прививка оказала на сих последних желаемый успех, совершив обыкновенный ход свой. На остяцких же детях неправильное ее течение не принесло никакой пользы и нимало не предохранило бедных малюток от нападения природной оспы: все равно пали жертвою ее свирепства. Плачевные сии примеры очень нередки, их видеть можно из сравнения поименных оспенных ведомостей, в которых означается, когда какому младенцу привита коровья оспа с успехом и когда кто делался добычею природной оспы. Чему приписать столь неправильный ход и столь слабое действие коровьей оспы на сих полудиких жителей Севера и почему, после хорошего на их действия оспенной материи, они не предохраняются даже и на короткое время от влияния природной оспы? Не разрешая положительно сих вопросов, я замечу здесь, что многих из остяков во время оспенной эпидемии, одержимых жестоким жаром, обливают по нескольку раз в день холодною водою и продолжают сии обливания до уменьшения жара и высыпания самой оспы. Опыт сей часто бывает удачен: оспа высыпает гораздо меньше и нагноение бывает малоколичественнее. Жаль только, что немногие следуют сему в крайности спасительному опыту. В числе причин, препятствующих распространению сего предохранительного лечения против свирепства повальной оспы, полагать можно, во-первых, грубое их невежество, коего закоснелость соразмерна с отдаленностью остяцких жилищ от больших дорог и редким сношением их с русскими. А во-вторых, безрассудная нетерпеливость и презрение жизни, сродное необразованным племенам, ибо при начале болезни остяк оказывает всю готовность к выполнению советов врача и повинуется всем его предписаниям, но, не видя на другой день ожидаемого им исцеления, негодует, делается строптивым и недоверчивым и всячески старается избегнуть надоедающих ему забот и попечений (и с охотою прибегают к суеверному способу лечения, которым нередко занимаются их шаманы). Хотя болезнь сия является у остяков не ежегодно, но так как она свирепствует по большей части зимою, то нередко опустошает целые селения, как алчный тигр, вторгнувшийся в беззащитное стадо. Касательно кори и скарлатины, по свидетельству живущего между остяками священника и наблюдениям посещавших северную страну врачей, болезни сии встречаются весьма редко. А совершенное равнодушие остяков к болезням сего рода заставляет думать, что смертность от оных невелика. Другого рода накожных сыпей, лишаев и проказы в народе незаметно. Главное место между недугами до 1816 года у них занимали болезни, соответствующие свойству климата: весною, летом и осенью перемежающиеся лихорадки, гнилые горячки, простуда, а более всего ревматизмы и ломота в членах (arthritis), и жители утверждают, что множество пожилых людей страдало ломотою в ногах и вялыми язвами бледного цвета на берцах21. Цинга (scorbutus), которую можно причесть к болезням климатическим, признается у них коренною (но не опасною) до непостоянного осеннего времени, в которое случается худой лов рыбы и мало зверей. Полагать должно, что сей недостаток в свежих съестных припасах, сопряженный с нестерпимою суровостью климата, во всякое время года, постоянно препятствуя развитию телесных и душевных сил, составлял достаточную причину, подобно прочим приморских и болотистых мест жителям, к угнетению жизни во всех ее видах. Из остяков большая часть страдает воспалением век (blepharophthalmitis) от неопрятности курных юрт, а более всего от беспрестанного сидения у огня. Сифилитическая зараза К довершению гибели злополучного сего народа завезена к нему в 1816 и 1817 годах сифилитическая зараза22, которая с такою ужасною скоростью распространилась между остяками, что нет почти ни одного человека, который бы не был заражен ею. Сие быстрое распространение болезни нимало не удивительно, ибо как в начале ее появления, когда еще не было им известно губительное свойство оной, так равно и много лет после сего северные жители Березовских стран не принимали никаких мер к прекращению оной. Характер пагубной сей болезни на севере еще более сделался злокачественным, соединясь с врожденным худосочием цинги (scorbutus) и климатическим расположением к ломоте, составил особенный род худосочия… Одержимый страдалец язвою помянутого худосочия приличнее назван быть может живым мертвецом, нежели больным человеком: мертвая бледность утомленного его лица со впалыми, тусклыми, а чаще гноящимися глазами, с вонючею раною, истекающею из гниющего носа, с синими губами и с облезлою кожею от медленно точащегося гноя из острупелых углов рта, гугнивый голос от выгнившего неба и окружающих его частей. Смрадное дыхание от гнилостного брожения соков, если можно сказать, в живом теле. Истощение всего состава, вялость мышц, бледный цвет малочувствительной кожи, на которой местами то бугры от холодных опухолей, то скопившиеся ихорозные мокроты из созревших под кожею худосочных отложений (tumor albus); у многих же, от долгого гноения без всякой помощи и опрятности, кожа на разных частях тела большими местами совершенно отделяется. Таковы неимоверные следствия сей ядовитой заразы, не оставляющей и следов образа человеческого на своей жертве, нередко встречал я на пути своем, о чем отдельно в 1827-м году мною было издано подробное описание под названием «Lues Asiatico borealis beresowiensis». Народ сей, еще и поныне не освободясь от снедающей его скорби, благодаря малочувствительности органического состава, ходит и упражняется в свойственных ему занятиях, невзирая на малосочащиеся язвы, нередко без носов, ушей, губ, с вылезлыми волосами и странно сиповатым голосом (детородные же части никогда у них не страдают), и в этом-то положении, не чувствуя ни малейшего отвращения к безобразию друг друга, женятся и бывают виновниками страдальческого существования невинных детей. Местное начальство прилагало все меры к пресечению сей болезни, которая коль скоро появилась в 1816 году, тогда же и отправлен был в Березов штаб-лекарь Шавров для узнания и определения рода оной. Найдя сию болезнь на малом числе жителей, Шавров, как видно из его рапорта, назвал оную скорбутом, свойственным стране и климатическому преобразованию его обыкновенных форм по причине смешения цинги с ревматизмом. В 1822 году по случаю усиления болезни отправлялся туда инспектор врачебной управы доктор Альберт – опытный и искусный врач. После долгого изыскания причин и затруднительного разбора смешанных форм болезни, он уподобляет ее болезням, известным в Шотландии под именем сиббенс (the Sibbens), в Канаде же – новой или немецкой болезни23. После поездки инспектора Альберта началась деятельная переписка с высшим начальством, и с этого времени почти ежегодно на несколько месяцев отправлялся туда инспектор Альберт и по мере возможности подавал помощь инородцам. В 1824 году заботливостью г. гражданскому губернатора Александра Михайловича Тургеньева на сделанное воззвание к московскому аптекарю г. Ауербаху прислано тот же год медикаментов на несколько тысяч рублей для Березовского края, и с того времени по настоящий 32 год г. Ауербах, как истинный друг человечества, не перестает жертвовать ежегодно на многие тысячи. «Да не оскудеет рука подающего!» (Сирах, сын Ис.). В исходе 1825 года гражданский губернатор Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский первый определил отправлять по очереди уездных лекарей с учениками в Березов и Обдорск для подавания помощи как страждущим инородцам, так равно и жителям Березовского округа, каковая очередь во всю его бытность соблюдалась неослабно. Он же, г. Бантыш-Каменский, отправил туда в 1825 и в 1826 годах г. Альберта с необходимыми лекарствами и предложил губернскому Тобольскому совету заняться учреждением больниц, но дело сие не могло в бытность его губернатором получить желаемого успеха, и он принужден был ограничить свои действия рассылкою, как выше упомянуто, врачей с достаточным количеством медикаментов, высланных ему г. Ауербахом по первому его письму. Таким образом он успел уменьшить число больных обоего пола до того, что в Березовском округе, где по последней ревизии считают жителей двадцать одна тысяча двести двенадцать человек, из сего числа больных к началу 1828 года оставалось не более 611 человек обоего пола. Он второй из тобольских гражданских губернаторов (после г. Корнилова) был в Обдорске, вошел со всевозможною подробностью в положение северных жителей, испросил им у августейшего монарха освобождение от повинностей и так успел ласкою и благородным обхождением привязать к себе сей дикий народ, что самоеды со свойственною им простотою сказали ему: «Большой Дмитрий хорош, и малый Дмитрий хорош»24. В начале 1828 года, прибыв в назначенное место, нашел я полное собрание двух народов, и, пользуясь данным нам предписанием от начальства, не встретили ни малейшего затруднения как в разыскании всего мною сказанного, так равно и в подробнейшем исследовании всех видов и изменений существующей между ними болезни, которую, подробно исследовавши, должно назвать смесью любострастной болезни с климатическими недугами, почему и название ее приноровлено мною истинному гению существующей скорби (Lues Aziatico-borealis). Остяки Березов-ского округа на своем наречии ее называют аатом мир муш, что значит злокачественная всенародная болезнь; остяки же Сургутского округа, различествующие от прежних одним только наречием, ином ях пиульц кантяко, что значит народная язвенная болезнь. Представя начальству рапорт по медицинской части и изложа мое мнение насчет предохранительных и коренных мер к избавлению народа от гибельной болезни, я утешаю себя мыслью, что, исполняя обязанность, службою на меня возложенную, и волю попечительного начальства, я содействовал некоторым образом к облегчению страждущего человечества. Река Обь Обь25, величайшая из сибирских рек, берет свое начало от соединения двух рек, Бии и Катуни, течет на север с лишком на 3000 верст, увеличиваясь постепенно от впадающих в нее 35 рек, из коих судоходны и известны по величине своей с правой стороны Том, Чульем, Юган, Пим, Кет и Вах, а с левой Иртыш, имеющий свое начало вне российских границ, в Калмыцкой или Зюнгорской земле, оттуда протекает большое озеро Зайсан, сперва по пределам Колывани, а потом чрез Тобольскую и Томскую губернии на пространстве 1800 верст. До впадения своего в озеро Зайсан Иртыш называется Верхним, а потом просто Иртышом; от крепости Каменногорской река сия судоходна и принимает в себя множество важных рек, каковы: Ишим, Вагай, Конся и преимущественно Тобол. Далее впадают в Обь Сосва, Аган, Балын, Салым, Вогулка, Куноват, Сын Вайкар, Саб, Полуй, Казым, Харава, Щуча, Дым и проч. Протекши прежде бывшее наместничество Колыванское – Тобольскую и Томскую губернии до устья Иртыша, Обь разделяется на два рукава, с которыми снова соединясь, впадает в известную под именем ее губу Ледовитого моря. Река сия от соединения ее с Сосьвою, разделяясь на многие протоки и рукава, образует большие острова, так что в иных местах между крайним и ее берегами считается с лишком 30 верст. По течению Оби и впадающих в нее рек на север инородцы рассыпав свои кочевья, щедро награждаются богатством вод их: весною при половодье несчетные стада рыб всякого рода, подымаясь из моря в Обь, наполняют собою все реки. Остяки и самоеды ловят их безо всякого труда, перегораживая протоки и небольшие речки неводами, запирая двери сетями, называемыми возанами, колыданами и коренными; также острогами, мордами и стрелами на каждом шагу добывают множество рыбы. Что касается до множества рыбы, которая весною, подымаясь из моря в Обскую губу, наполняет реки, должно думать, что не одно противоборство стремлению вод влечет их в устья рек, но, вероятно, и инстинкт для безопасного метания икры в тихой воде, равно как и качество воды и речного грунта, ибо в разных реках, как замечают тамошние жители, водится и различная рыба; так, например, омуль (salmo autumnalis), семужка (salmo criox) водятся только в Енисее, Ангаре, Амуре, в Карском заливе и по Югорскому берегу, в Обскую же губу, имеющую иловатое дно, никогда не заходят, что самое замечено и с семгою (salmo salar), которой никогда в Оби не встречают; напротив того, чир (salmo nasus), по-остяцки кегхул, бывает только в Оби и никогда не заходит в южные реки; равномерно и Восточная Сибирь изобилует разного рода форелями (salmo fario, s. alpinus), которых в Оби вовсе нет, а взамен того есть во множестве осетры (accipenser sturio) и стерляди (accipenser ruthenus), из коих последние бывают иногда до трех пудов весом и которых, кроме Оби, нигде нет; однако ж, по причине иловатого дна реки, она не так вкусна, как стерляди рек с каменистым дном, что самое и о прочих рыбах заключить должно. Но трут (salmo trutta) и хариус (salmo thymalus) более встречаются в восточных реках, нежели в Оби и впадающих в нее реках, хотя и те, и другие имеют одинаковое дно, но различное свойство воды, которая в восточных реках несравненно жестче. Сверх исчисленных родов рыбы, Обь изобилует множеством других пород, которых в прочих сибирских реках никогда находить не случалось, как-то: нельма, муксуны, пыжан, шокур, налимы, енышемы и сырки, или сороги; также есть в ней щуки, караси, окуни, ерши и ряпушка. Нельма совершенно походит на белорыбицу, только не так вкусна. Муксун (salmo lavareto afinis), по-самоедски скомбунга, жирная вкусная рыба, в Сибири в большом употреблении, равно как и икра ее. Пыжан, по-самоедски полкур26; шокур, по-остяцки чогор27, по-самоедски гиржа; налимы (cadus lota), сырки, или сороги (salmo vimba), по-самоедски пай, принадлежат собственно Оби, равно как и между белорыбицею находятся многие роды корегонов (coregoni), одной Оби свойственных. В устье сей реки нередко, гоняясь за рыбою, заходят целыми стадами дельфины и бывают28 добычею искусных самоедских рыболовов. Из прочих родов рыб, свойственных всем рекам Сибири, Обь изобилует щуками (esox lucia), карасями (cyprinus carassus), окунями (perca fluv), ершами (perсa cornua), судаками (lucia perca) и ряпушкой ( salmo albula), подустью (cyprinus barbus), лещами (cyprinus brama) и золотыми чебаками (cyprinus auratus). Замечено также, что рыба из рода семги, свойственная Карскому заливу, кунжею называемая, нередко ловится и в Оби, равно как… (pleuronectes glacialis), камбалы (coltus seorpius), камша и маленькие семужки (salmo arcticus) нередко попадаются рыболовам. Самоеды Самоеды обитают далее к северу от Обдорской крепости. Они различествуют от остяков как наружным видом, так равно и языком; в отношении же к религии самоеды различествуют от остяков только тем, что никогда не принимали св. крещения и явно держатся шаманской секты, от которой, однако, и остяки по сие время совершенно отстать не могут. Вообще же между сими двумя народами столь много общего, что я для избежания повторений старался во всех случаях при описании остяков о том заметить. Народонаселение По сметам, составленным в начале поступления сего народа в подданство России29, и при первом обложении его податью самоедов считалось мужского и женского пола 6786 душ. Повальные болезни, истребляющие несчастных остяков, нисколько не распространились на самоедов, и потому должно думать, что число их не только не уменьшилось, но еще увеличилось. Но так как самоеды никогда не имеют постоянных жилищ и живут рассеянно, то невозможно ни сверить, ни определить положительно их народонаселение. Самоеды сами себя называют нинечами (людьми); название самоед, если выводить его из финского языка, должно быть ближе всего произведено от слова соома, что значит болото, а как обитаемая самоедами страна вся состоит из болот, то неудивительно, что и народ мог получить сие название. Религия Самоеды хотя идолопоклонники30, признают однако всемогущего Бога и называют его сам нум, но как его изобразить не находят возможности, то и поклоняются малым божкам в виде кукол и имеют для сего свои кумирни и своих шаманов. Идолы, ими почитаемые, – медведь и волк; но, кроме того, имеют и других кумиров, изображающих зверей и птиц, коим поклоняются, равно как и первым, предпочитая, однако ж, медведя и волка, как злых богов, наносящих вред им и их оленям. Идолы у самоедов сделаны гораздо искуснее, нежели у остяков: у первых вылиты они из меди и олова, у последних же они просто деревянные и не иное что, как обыкновенная палка, на конце коей торчит звериная голова, вырезанная столь безобразно, что едва ли можно распознать, какое животное она представляет. Самоеды, впрочем, столь мало почтительны к своим богам, что по окончании обрядов обращают кумиры в обыкновенные вещи и, нередко употребляя вместо простой палки, бросают куда ни попало. За несколько лет пред сим можно было видеть их обряды, но три года тому назад самоеды вообразили себе, будто правительство приняло намерение обратить их в христианскую веру, и начали отправлять идолослужение свое тайно от русских. Два обстоятельства еще более утвердили сей народ в мысли, которую они сами между собою распространили: 1-е. государственная Адмиратейств-коллегия отправила из города Архангельска комиссию для описания берегов Ледовитого моря и Обской губы31; по сему случаю офицеры были вынуждены неминуемо иметь сношение с самоедами, которые, находясь при описи, почли оную за измерение земель, ими обитаемых32; 2-е. по учреждению об управлении сибирскими губерниями губернатор лично сам или чрез избранного им чиновника обязан обозревать инородцев, входить в их положение, осведомляться о их нуждах, оказывать пособие и отвращать всякое притязание, могущее произойти со стороны земской полиции, непосредственно ими заведывающей, а как прежде сего губернские чиновники никогда не являлись в их край, то они и вообразили себе, будто цель его приезда клонилась к тому, чтобы убедить их к отступлению от своих древних богов и обрядов. Хотя опыт и должен был их убедить в неосновательности их опасения, но при всем том сомнение столь сильно в них вкоренилось, что если завести с ними разговор касательно обрядов их идолослужения, то они не только не дадут никакого понятия об оных, но еще будут всячески стараться прервать оный, почему и нет возможности определить, какого рода идолопоклонство у самоедов, и видеть обряды их бракосочетания, погребения и проч. Однако все о сем предмете переданное почерпнуто из вернейших сведений от самовидцев-купцов и старожилов Обдорска, которые лет пять тому назад сами многократно присутствовали при сих обрядах. Места, обитаемые самоедами Инородцами-бродягами называются те из сибирских народов, которые, не имея постоянных жилищ, переходят с одного места на другое и весьма короткое время остаются на одном месте. В разряд бродячих инородцев помещены и самоеды. Они кочуют от остяков далее на север к Ледовитому морю, на правом и левом берегу Обской губы. Пространство земли, ими занимаемое, совершенно неизмеримо; известно только то, что их кочевья начинаются от 65 град. широты и простираются по правую сторону до Енисея33, а по левую до Архангельской губернии. Удобными местами для кочеванья почитают они тундреные, т. е. изобилующие мхом, нужным для их оленей, также и рыболовные и лесные, необходимые для их промыслов. Самоеды вообще не живут большими кочевьями, а более стараются быть уединенными. У них нет домов или юрт, как у остяков, зимою и летом живут в чумах. Примечание. Самоеды между собою называют один другого не поименно, а просто общим названием для всего народа хазова. Слово «хаз» значит сам, а «ово» значит один, что и составит сам один или сам един, соответствующее их наименованию хазово. Итак, не очевидно ли, что название самоед есть искаженное из переводного их имени – сам един? Не подтверждается ли сие и тем, что они живут обыкновенно не обществами, а поодиночке? Что же касается до производства их названия от сам и ед, я считаю совершенно излишним доказывать эту нелепость, ибо никакие предания не доказывают, чтобы они друг друга пожирали. Жилища Мы сказали пред сим, что самоеды живут в чумах. Чум есть палатка в виде конуса и строится следующим образом. Несколько тонких жердей, напр. от 30 до 60, толщиною не более одного вершка в диаметре, связываются вверху, но не соединяются вместе; внизу же на пол-аршина и более оставляются промежутки, коих «обвостренные» концы утверждены в земле и потом обшиты внутри и снаружи весьма плотно невыделанными оленьими кожами вверх шерстью; многие богатые сверх первого ряда с обеих сторон обтягивают точно так же и в другой раз. Вверху между концами жердей оставляют отверстие, служащее окном и трубою. Вышина чума от земли более трех, а окружность около десяти саженей. В средине чума, против отверстия, вырыта яма для огня, у которого согреваются самоеды и варят себе пищу. По сторонам чума настилают внизу несколько жердей и досок и устраивают на оных свои постели из оленьих кож, которые служат им и одеялами. Для входа в чум сделано маленькое отверстие, завешенное оленьею кожею, в которое можно взойти не иначе как ползком. Снаружи подгребают к чуму как можно более снега вышиною в пол-аршина и крепко оный уколачивают, дабы не проницал в него холод. В таком чуме очень редко живут два семейства, но более сего уже никогда; почти всякий семьянин имеет свой особенный. Чум сей очень удобно складывается и снова устанавливается: на таковой случай достаточно трех человек и двух часов времени; возят же его в особо сделанной нарте, весьма длинной, но чрезвычайно легкой. Это летнее и зимнее жилище самоеда, впрочем, несравненно лучше остяцкой юрты: в нем гораздо теплее, воздух чище и здоровее. Других жилищ самоеды не имеют, и все их имущество хранится в обозе, который во всякое время находится подле чума на открытом воздухе. Обоз сей состоит из десяти нарт и более.
Самоедские чумы из оленьих шкур Наружный вид и сложение Самоеды роста среднего, однако ж многие вышиною двух аршин десяти вершков; сложения очень крепкого, сильны, бодры и проворны; лица плоски, широки и не очень смуглы; голова большая; волосы черные; глаза черные, небольшие, навыкате; нос прямой, на конце широкий с отверстыми ноздрями; щеки полные, губы тонкие, подбородок вперед, рот и уши большие, оклад лица похож на тунгусский, руки и ноги небольшие, туловище длинное. Вообще же образование всех частей тела правильное, а строение мышц совершенное показывает, что народ сей мужествен и способен переносить всякие нужды, не опасаясь ни малейшего вреда. Женщины роста среднего, но очень пригожи собою, лицом полны, белы и румяны, волосы только на голове, и притом темно-русые34; глаза посредственные, черные; брови темные и довольно густые; нос правильный, руки и ноги маленькие, груди плоские и около оных (Discus areola) черные кружки… Вопреки уверениям многих писателей, детей рожают очень рано, судя по северному климату: в 12-ть лет много из них бывает матерей. Но зато не очень плодородны: с тридцатого года перестают рожать, оттого и немного распложаются. Чему сие приписать: холодности ли мужей или климата? В них много живости, проворства и столько силы, что во всех трудах и занятиях помогают своим мужьям. Самоеды не могут быть по справедливости признаны за красивый народ. Наречие, употребляемое низовыми самоедами, не имеет никакого сходства с языком каменных самоедов35, еще менее с их соседями-остяками и подобно остяцкому не походит ни на какой из восточных языков; письмен у них также нет. Хотя язык их гораздо полнее остяцкого, но в выговоре грубее и для слуха очень неприятен. Нравы Самоеды еще добрее остяков, умны, рассудительны, тверды и несколько упрямы; они не предаются пьянству, и весьма немногие из них пьют вино, большая часть совсем оного не употребляет. Они не ревнивы, и жены их имеют полную свободу. Не было примера, чтобы они оставляли своих мужей или мужья своих жен; напротив того, они очень любят и привязаны друг к другу. Женщины так много ими уважаются, что по смерти мужа брат покойного обязан взять жену его; если же нет брата, то сын вступает в права супружеские хотя бы то с родною матерью; одним словом, женщины совершенно обеспечены на всю жизнь свою, о них пекутся от рождения до самой кончины. Достойно замечания, что женский пол у самоедов, тунгусов и якутов с младенчества до того раздражителен и пуглив, что малейший свист, стук, а паче нечаянное прикосновение приводит их в бешенство и отымает все чувства, повергая испуганных на землю. В чем искать причину сего на севере несовместного по всеобщей теории сочувствия и чему приписать причину такой раздражительности чувств в грубых телах? По-моему, суеверие, поддерживающее рассказами юный ум в беспрерывном страхе, достаточно может раздражить все чувства на целую жизнь. Старики у них в большом почтении, дети уважают своих родителей до высочайшей степени, хотя, впрочем, женатый сын или замужняя дочь, выходя из семейства, нередко разлучается с ними навсегда. Черта, отличающая характер самоедов от остяков, состоит еще и в том, что хотя они незлопамятны, но вспыльчивы, однако ж без всяких худых последствий. Смертоубийства никогда еще не случалось, а воровство считают они за величайший стыд и бесчестье. До сих пор известно только одно подобное происшествие, случившееся у самоедов. Один из них ездил по лесу за промыслом, подъехал к месту, где паслись олени других его соотчичей; ему пришла гибельная мысль украсть оленя, которого тотчас он поймал. Бывшие поблизости на то время два хозяина стада увидели сие и пустились в погоню; вор, не желая лишиться добычи, решился бежать, но не мог уйти и был настигнут. Защищаясь, взмахнул он топором и столь сильно ударил одного из гнавшихся за ним, что тот, вскричав, упал. Сколь ни был ожесточен убийца, но, испугавшись, бросил оленя и ускакал на своей нарте от преследователей. Приехав же домой (как потом рассказывали его родные), надел на себя лучшее платье, взял ружье со всем снарядом и, запасшись пищею, вышел в лес, выбрал лучших оленей из всего своего стада и, уезжая, сказал своим родственникам: «Прощайте, мы не скоро увидимся». Происшествие было в начале осени, которая, равно как и зима, наступила без всякого о нем известия. Противники его, из которых один только был сильно ранен и выздоровел, довели сие до сведения земской полиции, но все поиски остались тщетными. По вскрытии же рек нашли тело сего несчастного далеко от его жилища, выкинутое на берег, и, по всем признакам и замечаниям самих самоедов, он утопился, вероятно, не имея сил перенести угрызения совести от двух преступлений, столь постыдных среди самоедов. Однако и самоеды, хотя в полном смысле дети природы, но также имеют слабости. Важнейшая страсть их – курить табак, который они выменивают у русских и запасаются оным в довольном количестве. При сем введено у них странное обыкновение. Трубка, сделанная из мамонтовой кости и моржового зуба, так мала, что в нее помещается не более двух щепоток табаку. Самоед, покурив раза два, передает трубку другому, и таким образом оная переходит из рук в руки до последнего. Немного спустя накладывает другой, и точно так же трубка обходит всех сидящих в кругу, что продолжается до тех пор, пока они не разойдутся. Одежда Самоеды носят ту же самую одежду, какую и остяки, сделанную из оленьей кожи, и в платье нет никакого различия между ними; женщины носят исподницу из толстого крестьянского сукна, почти всегда красного цвета; сверх юбки надевают они род кофты, длиной до колена, из шкуры какого-нибудь зверя, как-то: белки, лисицы, выдры и бобра; перетянувшись кожаным ремнем, шириною в четверть аршина, довольно туго, выказывают свой стан. Сверх сего надевают еще малицу, также различную от мужской и вышитую разными лоскутами оленьей кожи. На ногах носят, как и мужчины, чижи и пымы, но еще более испещренные. На голову надевают бобровые и росомаховые шапки, украшенные разными погремушками, колокольчиками, медными бляхами и пуговицами; под таковой шапкой видны три или четыре косы ниже пояса, туго заплетенные с такими же на концах привесками, как и на шапке. Если природные их косы не столь длинны и густы, то они пришивают к шапке поддельные. На шее носят также разные медные вещицы на бисерных или стеклярусных шнурках. Чем более таких погремушек, тем красивее почитается их наряд, а чем пестрее одеяние, тем оно щеголеватее и показывает более их богатство. По звону колокольчиков и металлических вещиц можно слышать вдали идущую самоедку. Такого рода украшения привешивают самоеды к рогам оленей, запряженных в нарте, прибавя еще к тому кусочки разного цвета сукна или кожи. Образ жизни Самоеды хотя и видят преимущество в образе жизни русских, но нимало оному не завидуют и переменять своих обычаев никакого желания не оказывают; напротив того, они столь привязаны к своим обыкновениям и образу жизни, что страшатся отступить от оных, и, как ни ограничены их потребности, они почитают себя довольными и счастливыми36, хотя самоеды, как и остяки, не заботятся о чистоте в своих жилищах и не наблюдают ни малейшей опрятности. Хотя собаки, вернейшие их друзья, и разделяют с ними жилье и пищу, но по крайней мере у них не бывает столь нестерпимого запаха, как в остяцких юртах. Частые же переходы с одного места на другое не дают времени накопляться нечистоте, и, сверх того, число живущих в чуме гораздо менее, а потому и можно сказать, что они в образе жизни опрятнее своих соседей. Что ж касается до наружности самоедов, то они держат себя несравненно чище и одеваются опрятнее остяков. Пища Пища самоедов состоит обыкновенно из рыбы сушеной, вареной, а большею частью сырой, свежей. Они также употребляют мясо оленей, которых нарочно бьют, но не иначе как уже в то время, когда совершенно ничего другого достать не могут. В случае же нужды едят охотнее звериное мясо разного рода, но подобно остякам не станут есть падали; также не едят собак, белок, кошек, горностаев и змей. На Обдорской ярмарке самоеды обменивают свои добычи на печеные хлебы, коими они запасаются на весьма короткое время; из муки же, (которую, впрочем, употребляют редко) варят салым и пекут лепешки. Достойно примечания между самоедов то, что они не имеют никакого понятия о деньгах, и если каким-нибудь образом попадут оные к ним в руки, то они тот же час стараются их сбыть и меняют на вещи даже для них ненужные; впрочем, медные деньги служат им иногда на пользу: из оных выделывают какую-нибудь вещь или женщины привешивают к своим косам подобно еврейкам и цыганкам. Упражнения, промыслы и орудия, при оных употребляемые Главнейшее упражнение самоедов состоит в звериной ловле, которой занимаются они в продолжение целого года; время же, употребляемое ими на ловлю рыбы, необходимой для их пищи, весьма непродолжительно. Ежели рыбы наловят столько, что достаточно будет на суточное продовольствие семейства, то и лов прекращается. Для сего промысла самоеды не имеют больших орудий, как-то: неводов и пр., но употребляют морды и сети. Обыкновенно рыбною ловлею у них занимаются женщины. Важнейший их промысел состоит в оленях, которых они стараются разводить как можно более и тщательно за ними смотрят; а так как в местах, ими обитаемых, очень много диких оленей, то самоеды ловят их, приучают к своим домашним или бьют, употребляя мясо их в пищу, а кожу для одежды. Для звериной ловли имеют те же самые орудия, как и остяки. Самоеды ловят в большом количестве песцов, которых считается четыре рода: голубые, белые, крестоватики и норники. Впрочем, и другого рода зверей у них очень много. Богатства Бедность между самоедами не известна, нищета еще менее; от первого до последнего, все они чрезвычайно довольны своим состоянием и никогда не знают недостатка. Скорее, можно их назвать богатыми, ибо, чуждые роскоши и прихотей, они ограничиваются одним необходимым, которое каждый из них имеет, а потому и не заботятся о избытках и приращении оных. Многие из них имеют до 10 тысяч, а самый беднейший более ста оленей. Государственные налоги Самоеды платят ясак по тому же самому установлению, как и остяки. Ясак взимается от них звериными шкурами. При обложении самоедов сею податью было утверждено, чтоб они вносили по два песца с души (исключая старшин, которые платят более против простого самоеда), что и продолжается доныне; в случае же недостатка сего рода зверей им дозволено вносить ясак другими шкурами, ценою соответственными. Более сего не исполняют они никаких повинностей и свободны от всех налогов. Родоначальники Самоеды и остяки имели над собою одного и того же главного начальника, но в царствование императора Александра I предоставлено было каждому из сих племен избрать своего собственного, чему они повиновались, но, как кажется, не очень охотно, ибо избранный у самоедов старшина Пайгол не слишком ими уважаем и выбор сей, как полагать должно, пал на него по той только причине, что поколение Пайгола считается многолюднейшим среди самоедов, от чего самого и было более голосов в его пользу. Впрочем, легко быть может, что и маститая старость Пайгола благоприятствовала его выбору в князья. Впрочем, самоеды разделяются на многие сотни, и каждая из них имеет своего собственного старшину. Старшины у самоедов избираются и сменяются ежегодно по их произволу, с ведома, однако, князя. Обязанность старшин состоит в обсуживании и самопроизвольном решении споров и обид, которые очень редко случаются между самоедами; важнейшие же дела поступают на суд их князя Пайгола и земского заседателя. Старшин называют аркагомир парте – человек большого ясака, потому что они вдесятеро более прочих самоедов платят, т. е. от 10 до 20 песцов. Некоторые из сих старшин при сдаче ясака стараются передавать оный князю Тайшину37, а не своему Пайголу (что им дозволено), и сим доказывают они, сколь великое уважение питают к упомянутому князю, как к прежнему своему родоначальнику. Приверженность же самоедов к своим сотникам очень похвальна; они им слепо повинуются, кочуют всегда поблизости их и переходят с места на место тогда только, как старшины сии найдут нужным, а в сборе и рассуждении о чем-нибудь согласуются вообще с их мнением; старшины решают все по своей воле и пользуются совершенною покорностью самоедов. К. Пайгол, главный их старшина, роста среднего, ему с лишком 90 лет, сед, но, несмотря на лета, очень крепок и здоров. Жена его, женщина лет уже сорока, но при виде ее нельзя сказать, чтоб ей было более двадцати пяти, собою очень пригожа, говорит отлично …по-русски и служит у самоедов переводчиком. Семейство Пайгола довольно большое, но от сей жены у него детей нет. Болезни Слишком здоровый наружный вид самоедов доказывает, что болезни им не известны. Чуждые неги и сластолюбия, сего вредоносного яда, столь пагубного для людей образованных стран, приобыкшие к климату, находясь в беспрерывных трудах и занятиях, употребляя умеренную и всегда одинаковую пищу от самого младенчества, они истинно наслаждаются здоровьем и проводят жизнь, определенную каждому свыше, не изнемогая подобно просвещенным народам от расслабления, и, удрученные страданиями, преждевременно не умирают. Болезнь, иногда бывающая у них одна токмо природная оспа, которая столь же гибельна и смертоносна между самоедами, как и между остяками, но средств к прекращению сей тяжкой болезни или к облегчению оной имеют они еще менее своих соседей, а как она притом и заразительна, то в таком случае самоеды принимают единственные, решительные, но прежестокие и даже варварские меры. Когда оспа постигает одного из целой семьи и знаки оной ясно окажутся, то живущие с ним родные собирают свой чум и немедленно убегают [с]сего рокового места, оставляя больного без всякого призрения и предавая его в жертву всем напастям. Злополучный страдалец умирает среди жесточайших мук от болезни, голода и стужи. Избавясь от заразы и переменив местопребывание, прочие остаются невредимы и доживают нередко до глубокой старости, Сколь ни бесчеловечно сие средство, однако ж гибелью одного человека сохраняется жизнь нескольких по меньшей мере, а нередко и всего кочевья, состоящего из двенадцати и более семей. О занятиях остяков и самоедов относительно звероловства Остяки и самоеды домашнего скота и птиц не держат как по неудобствам кочевой жизни, так равно и потому, что, по причине болотистых мест, не имеют никакой возможности к заготовлению 8-месячного зимнего корма. Притом же край их так богат разного рода животными, что они никогда не имеют ни малейшей нужды в домашнем скотоводстве, и потому остяки наиболее заботятся о том, что служит к усовершенствованию их промыслов, как напр. о собаках, коих породу они стараются поддерживать и, можно сказать, более берегут, нежели жен своих: кладут их с собою спать, подстилают им оленьи кожи и сами заботятся об их корме: толкут кости и варят из оных студень или кормят рыбою и мясом, чего дикарь никогда не сделает для жены и детей своих. Породу собак их можно сравнить с видом обыкновенной гончей собаки (Canis Lepopario afinis)38. Они служат им для звериной и птичьей ловли. Другая же порода, которую можно отнести к породе овчарок (Canis Domesticus)39, в случае надобности заменяет лошадей и оленей, но, по причине… бессилия, их редко употребляют для дальней езды. Из породы сих собак часто удаются очень смышленые для звериной ловли и нередко заменяют породу пуделей. Во время птичьих промыслов легко плавают и исправно достают из воды дичь и упавшие в оную стрелы; многие из них отлично следят зверей и удачно их останавливают. Всех прочих домашних животных заменяют ветвисторогие олени из породы (Cervus Tarandus), которые для дикарей северного края столь же необходимы, как и воздух, которым они дышат. * Белявский Ф.И. Поездка к Ледовитому морю. С. III, VII. 1 Уездный город Тобольской губернии 2 Обитающие на пути народы. Между Денщиковской и Самаровской волостями живут частью остяки, коих описание следует ниже. Промыслы их те же, какие и у русских крестьян, но в сравнении с прочими остяками, живущими вниз по реке Оби, они гораздо образованнее. Дома у них очень хорошие; лошадей и коров у них множество, и весь домашний быт сходен с образом жизни русских крестьян, почему между ними есть очень много достаточных, чего не найдешь у прочих остяков, кроме разве живущих на самом севере и называемых кочующими, коих имущество, однако ж, совсем отлично от состояния остяков, обитающих между русскими. 3 Сведения сии о Кондийске, равно как о и заложении города Березова, взяты из бумаг, хранящихся в Кодийском монастыре; но, к сожалению, дальнейших подробностей о том в сем архиве не находится. 4 Инородцами называются те из сибирских племен, кои со времени изданного учреждения о управлении сибирскими губерниями известны под именем «ясашных». 5 Генералиссимус князь Меншиков в 1727 году был сослан в Березов, где и жизнь кончил в 1729 году. 6 Княжна Елена Долгорукая по возвращении из Березова прислала в храм Спасителя псалтырь, часовник и прочие церковные книги с подписью собственной ее руки на поминовение родителей. Книги сии сохранены в целости и употребляются во время служения. 7 Обдорск – по-остяцки Полноват-ваш, а по-самоедски Сале-Харп. 8 Переводчиками служат здесь казаки, поселенные между инородцами с тою единственно целью, чтобы можно было посредством их объясняться с сими народами. По настоянию хозяина юрты Кирыла Сюртова, как называют его русские в списках, Яков мой, помазав ногу свежим рыбьим жиром, завернул в заячью кожу. 9 Река Конда, от которой в 1572 году, по причине стараний епископа Стефана об обращении язычников в христианскую веру, многие из пермянов и зырян переселились на север для избежания святого крещения. 10 Карамзина «История о Северных народах». 11 Хотя на землях, обитаемых остяками, произрастают в достаточном количестве разного рода леса, как-то: сосна, ель, осина, береза, пихта и лиственница, но достойно примечания, что, по неудобности оного к строению, жители употребляют величественный кедр, коим природа щедро места их обогатила. 12 Отрава составляется по большей части из мелко наскобленной челибухи (Nuv-vomica). Употребляют также и сулему (Oxymurias Hudrargyri); но, так как от последней, если она долго и в большом количестве в звере находится, вылезает шерсть, потому и предпочитается первая. 13 Штаб-лекарь Шавров в своих записках об остяках и об обрядах богослужения говорит. Обряды богослужения. Остяки собираются по временам отправлять свое богомолье с 8-го часа вечера и продолжают оное до 2 часов ночи. Сначала дети, для призыва к богомолью подбежав к каждой юрте, как испуганные, весьма дико кричат разными голосами; потом остяки собираются в назначенную юрту. Входящий туда остяк вертится по три раза перед кумиром и потом садится на правой стороне юрты на нарах или на полу, разговаривает с своим соседом, и вообще каждый занимается, чем хочет. Левая же сторона нар бывает закрыта занавескою, за коею помещаются остячки, которые при входе так же вертятся. Когда все соберутся, тогда шаман гремит железными саблями и копьями, заблаговременно приготовленными пред кумиром на шестах. Каждому из предстоящих (исключая женщин, закрытых занавескою) дает саблю или копье, а сам берет по сабле в обе руки, становясь к кумиру спиною; по получении обнаженных сабель, остяки становятся вдоль юрты рядами и вертятся вдруг по три раза, держа перед собою сабли и копья. Шаман ударяет саблями одна о другую, тогда остяки как бы по команде вдруг поднимают на разных голосах крик и, качаясь с одной стороны на другую, кричат то редко, то часто, отставая один от другого, и при каждом повторении «Гай!» переваливаются на сторону, осаживают свои оружия то книзу, то кверху. Крик сей и движение продолжаются около часу. Чем более остяки в это время кричат и качаются, тем более приходят в исступление так, что наконец нельзя смотреть на них без сожаления. После сего, умолкнув, вертятся по-прежнему, отдают свои орудия, которые шаман кладет на прежнее их место. Тогда остяки садятся на нары и по полу; занавес открывается, остячки выходят, и начинается пляска и музыка. Чрез несколько времени потом шаман снова раздает сабли и копья, и начинается снова качание и крик, при каждом разе слово «Гай!». В заключение стучат своими оружиями по три раза в пол, отдают их шаману и расходятся по домам. 14 Г. Шавров, бывший несколько лет березовским окружным лекарем, имел случай чрез своих знакомых видеть как храмы (кумирни), так и богослужение остяков, и в записках его находится о том весьма любопытное и довольно подробное описание, ниже сего следующее. Основание их идолопоклонничества и самим остякам неизвестно; можно, однако ж, полагать, что они скрывают его от сведения русских, потому что на вопрос: «Для чего вы почитаете этот кусок дерева, который сами же обточили?» или «Почему отдаете божеское почитание медведю и волку, коих убиваете?» другого ответа получить нельзя: «Отцы наши их почитали и нас учили то же делать». С другой стороны, нельзя не сомневаться, что слабое сие доказательство есть точно то, которое они имеют и для собственного своего уверения в истине их богослужения, ибо властолюбивые шаманы (священники), уважающие свои выгоды, весьма бы были нерасчетливы, когда бы позволили им иметь лучшее понятие о вере. Они проповедуют о мщении богов за дерзкое любопытство или за подобное тому; имеют верный способ крепко держать на глазах повязку и угнетать при малейшем усилии понятия простодушных и доверчивых остяков. Они понимают богов имеющими ограниченную власть делать людям добро и зло, а потому у них одни суть боги добрые, а другие злые. Добрый бог, властитель вселенной, называется Торым; его почитают остяки верховным богом, не изображают ни в каких видах и небо полагают постоянным его местопребыванием. Признают ли его существующим от вечности или имеющим начало своего существования, а также посвящают ли имени его храмы – неизвестно. Впрочем в честь других богов в глухих местах устраивают храмы и обогащают их лучшею рухлядью. Остяки, кроме верховного бога, имеют множество других богов, из коих главные. Ортик, коего почитают другом и во всем помощником Торыма. Кумир сей так устроен: голову составляет деревянный отрубок, к коему приделано лицо, выбитое из самого чистого серебра; туловище есть мешок, набитый туго рухлядью, ему посвящаемою; руки состоят из суконных рукавов, один на другой надетых; ног не имеет; весь же чудный состав кумира одет в суконный кафтан; поставлен в переднем углу храмины на возвышении, в виде стола сделанном, и окружен копьями и саблями, воткнутыми в стол. Богу сему приносят всякие жертвы и приходят к нему со всякими просьбами. Когда же бывает дурной лов зверя, остяки берут у него взаем рухлядь для положения в ясак. Лонг, неизвестно, почему еще остяки называют его Мастер-лонг. Бога сего почитают помощником Ортика, посланником вышних богов, также и богом здравия. Он должностью и свойствами своими весьма походит на баснословного Меркурия, но кумир Лонг с кумиром Меркурия никакого сходства не имеет. В переднем углу храма, посвященного Лонгу, стоит большой мешок, набитый туго разного рода рухлядью и весьма крепко завязанный; посредине мешка сего привязана серебряная тарелка дном к мешку, а углублением к наружной стороне; привязка сия представляет пояс, и этот-то мешок есть сам Лонг. Больной, требующий от него исцеления, непременно должен сшить ему новый мешок холстинный, суконный или из шелковой материи; шитый же из кожи не принимается. Усердные кладут ему также серебряные деньги и вещи; рухлядь же ему не посвящается. Елял. Бог сей почитается прислужником высших богов; он сделан из деревянного отрубка, на коем вырезано лицо, голова, островатая, прочая же часть отрубка неизменна, а только очищена или оскоблена. Кумир сей ни рук, ни ног не имеет и ставится или просто без покрышки куском дерева , или обертывается весь, кроме головы, в сукно. Голову его иногда убирают в шапочку из собачьей шкуры. Приходящие к нему вешают кольца, пуговицы, металлические вещи, сукно и закалывают ему в жертву оленей. Мейк. Бог зла; он делается из дерева и одет в бобровую парчу; кроме сего убора, в другой уже не наряжают. Заблудившиеся в лесу или степи просят его покровительства и защиты, обещаясь ему всякие жертвы, какие только угодно будет принять. Бог сей также имеет у себя многих помощников и прислужников. Сверх многих всеобщих высших и нижних богов, коих кумиры имеют остяки, делают еще после всякого умершего в семействе в честь покойного деревянного болвана, выделанного руками женщин, которые в продолжение трех лет имеют его своим Пенатом и отдают все почести, принадлежащие божеству. За всяким обедом и ужином подают ему все, что у них приготовлено, и оставляют пищу сию перед ним на столько времени, чтобы можно было ее употребить; потом берут и едят сами или отдают бедным. По прошествии же трех лет хоронят болван сей. Ежели же умирает шаман, то в честь памяти его также делают болвана, но уже не одни женщины его рода, а также и мужчины, знакомые им, и из рода в род поклоняются как божеству. Остяки почитают также своими божествами медведя и волка. Должно думать, что таковое почитание происходит оттого, что сии звери, сильнее всех им известных опустошая стада оленей, часто не щадят и властителей. Других важнейших причин, кои могли бы внушить к ним уважение, отыскивать невозможно. Остяки священным и страшным делом почитают присягнуть медвежьей или волчьей шкуре – не осмелятся солгать и нарушить присягу. Но кто может сообразить благоговение их к сим зверям с тем, что они не считают за грех убивать, отравлять, ловить их в капканы и употреблять в пищу их мясо? Но еще страннее и непонятнее то, что они, убив медведя или волка, собираются исправлять принадлежащие им почести. Снявши шкуру, набивают сеном; сперва ее щиплют руками и рвут зубами, топчут ногами, плюют на нее и употребляют при сем разные насмешки на тот счет, что такой сильный зверь позволил себя обмануть капканом, что не мог устоять против меткой стрелы остяка и что он им теперь никакого вреда сделать не может; пляшут, поют разные ему песни в насмешку и наконец ставят в переднем углу юрты задними ногами на сундук и тогда уже благоговеют, как пред божеством. Такие, одна другой противоположные церемонии над шкурой продолжаются неделю и более, смотря по состоянию того, кто одержал победу. 15 Le solcil et la lune leur tiennent encore licu de diviniles subalternes, par l’entremise desquelles ils croient que l’etre souverain leur fait part deses faveurs; mais ils ne leur rendent aucun culte, aussi peu qu’a ces idoles qu’ils portent sur eux en conformite des conseils de leurs Koedesniks. Ils semblent meme faire peu de cas idoles, et s’ils s’en chargent, ce n’est que par l’attachement qu’ils temoignent avoir pour les traditions de leurs ancetres dont les Koedesniks sont les depositaires et les interpretes. 16 Равным образом остяки оказывают свое почтение горам и деревьям, заключающим в себе что-нибудь особенное, возбуждающее в них благоговение и что признано их шаманами за святыню. Сии места ни один остяк не проедет мимо, без того чтобы не выстрелить сперва из лука в то место, где находится святыня, чем и оказывается у них богопочитание. 17 Ils admettent l’existence d’un Etre supreme, createur de tout, souverainement bon et bienfaisant, qualite qui, suivant leur facon de penser, les dispense de lui rendre un culte ou de lui adresser des prieres, parce qu’ils supposent, que cet Etre ne prend aucun interet aux choses d’ici-bas, et qu’ainsi il n’exige aucun culte et qu’il n’en a gueres besoin. Ils joignent a cette idee celle d’un autre Etre eternel et invisible extremement puissant, quoique subordonne au premier, enclin a faire du mal; et c’est a cet Etre-la qu’ils attribuent tous les maux qui leur arrivent dans cette vie. Cependant ils ne lui rendent aucun culte, quoiqu’ils le craignent extremement, et s’ils font quelque cas des conseils de leurs Koedesniks ou Tadebes, ce n’est qu’a cause des relations qu’ils croient que ces gens-la ont avec cet Etre malin, se soumettant d’ailleurs avec une espece d’insensibilite a tous les maux qui peuvent leur survenir, faute de connaître les moyens de les detourner. 18 Штаб-лекарь Шавров в своих записках о Сибири так говорит о шаманах. Шаманы – так называются служители алтарей. Они от богомольных просителей принимают приношения, относятся с ними к кумиру и, от него получив ответ, объявляют просителям, угодна или нет их просьба и какие они должны принести жертвы. По исполнении обрядов жертвоприношения, снова объявляют просителям, достаточна ли для кумира приносимая жертва или требует новой; ежели достаточна, то он сказывает ответ о, исполнении желания просителя с наставлением, как достигнуть оного. Искусство приносить жертвы, дар пророчества и сан свой шаманы по наследству передают своим детям, но в сем случае не уважается права старшинства, а одни только способности. Бездетные уступают сие друзьям или воспитанникам своим, известным дарованиями. Шаманы весьма неглупы и, как кажется, пользуются особенным уважением и неограниченною к себе доверенностью остяков, а потому неудивительно, что располагают по собственному произволу их чувствами, и немудрено, что вместе с тем их состоянием. 19 On trouve aussi chez eux quelque idee de l’immortalite de l’ame et d’un etat de retribution dans une autre vie, etc. (Muller. Pag. 79). 20 У остяков редко встречаешь 70-летнюю старость, и большая часть из них по причине слабого сложения умирает прежде 55 лет. У самоедов же, которые гораздо крепче телосложением и чужды всяких болезней, многие живут лет по 90, чему пример встретил я в самоедском князе Пайголе, который на 79 году и имея уже двух жен женился еще на европейке, случайно туда попавшейся. Несмотря на маститую его старость, со всеми тремя разделяет брачное ложе. 21 Язвы и раны остяки лечат древесною смолою с звериным жиром, а от запора пьют рыбий жир; на места же, одержимые ломотой, кладут зажженный березовый провяленный трут и держат его до тех пор, пока от жара поморщится кожа; более средств лечебных никаких не употребляют. 22 Жители Березовских стран удостоверяют, что болезнь сия завезена туда в упомянутое время казаками и купеческими работниками, наводняющими, так сказать, сию страну для торговых оборотов. 23 Подобная болезнь березовской в недавнее время замечена в Норвегии. 24 Большим Дмитрием они называют бывшего в Обдорске земского заседателя г. Скорнякова, большого роста, любимого остяками и самоедами за ласковое обхождение и бескорыстие, а как и гражданский губернатор г. Бантыш-Каменский, спрошенный самоедами: как тебя зовут, отвечал сходно их понятию: «Дмитрий», то они в знак их уважения сказали: большой Дмитрий хорош (видя, что губернатор небольшого роста) и малый Дмитрий хорош. 25 По-остяцки Аес. 26 Описаны в прибавлении путешествия Палласа по России под № 44-м. 27 Описаны в прибавлении путешествия Палласа по России под № 42-м. 28 Русские их называют белугою. О них подробно писали Гмелин, Миллер, профессор Крашенинников и в Хронологической ист.: путешествия в северные полярные стороны. Часть II. 29 При царе Феодоре Иоанновиче. 30 Les samoyedes ont dans leur moral des singularites aussi grandes qu’en physique. Ils ne rendent aucun culte a l’Etre supreme; ils approchent du Manicheisme on plutot de l’ancienne religion des Mages en ce seul point, qu’ils reconnoissent un bon et un mauvais principse (Dictionnaire des Sciences. 1765. Pag. 603). 31 Вследствие окончания сей комиссии в скором времени издается географическая карта с исправлением всех неверностей в чертежах и описаниях о северном крае Сибири, поныне существующих, в ожидании чего и я не прилагаю обыкновенной карты описываемой мною страны. 32 Начальник отряда штурман г. Иванов рассказывает, что когда ему должно требовать оленей для перевозки разных инструментов с места на место, то самоеды всегда делают ему возражения: зачем тебе туда идти: там ничего нет, та земля никуда не годится, там не растет даже мох для корма оленей. Или начинают пугать его болотами, но, видя, что сие нимало не помогает им, с величайшим неудовольствием повинуются и исполняют его просьбы, но очень грубо с ним обходятся, не причиняя, однако ж, ни малейшего вреда ему и его спутникам. 33 Ce peuple est repandu de differens cotes, jusqu’ aux principales rivieres de la Siberie, comme l’Oby, le Jenice, la Lena et l’Amur, qui vont toutes se decharger dans le grand Ocean etc (Dictionnaire des Sciences, 1765. Pag. 604). 34 Les hommes et les femmes n’ont de poil que sur la tete, le mamelon tst d’un noir d’ebene (Dict. des Sciences. 1765. P. 605). 35 Ils parlent des langues differentes: car ceux qui habitent la cote de la mer, et ceux qui demeurent aux environs d’Archangel, sur la Dvina, n’ont pas le meme langage (Dictionnaire des sciences. 1765. Pag. 604). 36 Quoique leur maniere de vivre paraisse triste aux Moscovites, ils la goutent par preference a toute autre, et leurs deputes dirent au Czar, que si sa Majeste Imperiale connaissait les charmes de leur climat, it viendrait sans doute l’habiter par preference a Moscou. 37 Само собою разумеется, что сии два князя не могут любить друг друга, ибо Тайшин лишился первобытного своего права над самоедами и Пайгол негодует за оказываемое князю Тайшину почтение прежними его подчиненными. Но неприязнь сия нисколько не опасна и последствий иметь не может, ибо они видятся один раз в году, а потом и самый слух о их существовании исчезает. 38 Порода сих собак близко подходит к породе гончих. В них находим все те отметины над глазами, бровями, ушами, носом и под брюхом, каковые бывают и у самой чистой породы гончих собак; разница состоит в слишком остром шилообразном окончании верхней и нижней челюстей, а чрез то и в сужении носовых полостей и в необыкновенной поджарости стана. Лаем они также отличны от собак гончей породы: голос их до того тонок и слаб, что на не привыкшего к нему наводит уныние, он походит на вопли утомленного болезнью дитяти, что, вероятно, происходит от недостатка мясной пищи, которая одна свойственна собакам, между тем как их кормят дома одною сырою рыбою, а во время промыслов студенью, приуготовляемою из одних сушеных, толченых в муку рыбьих костей, которыми дикари, отправляясь на промысел, запасаются в большом количестве, и в случае надобности разваривают оную (муку. – Сост.) в носимых с собою котелках, из коих и сами едят, и собак кормят. 39 Порода дворовых собак, употребляемых для езды по всему северному краю Западной Сибири, одна. Животные сии хотя ростом несколько и пониже гончих собак, но несравненно крепче, ноги у них толще, а голос грубее, шерсть темная, и, хотя за избытком оленей в дальний путь их не употребляют, однако ж ездят в случае надобности верст за сто и более, но для сего их не иначе употребляют, как продержавши наперед дней 6 взаперти и давая весьма малое количество пищи, отчего они делаются несравненно легче, крепче, послушнее и избавляются от опухоли и трещин на подошвах, которые происходят от тучности (а может быть, и от несродной собакам рыбной пищи?), и опухоль с болью до того часто усиливается, что собаки делаются вовсе не способными к бегу. Упряжь их состоит в широком мягком ремне, к сшитым концам коего прикреплен узкий, но крепкий ремень, который, проходя между задних ног, привязывается к блоку поперечного ремня нарты и сим заменяет обыкновенную нашу постромку; широкий же, кольцом сшитый ремень надевается чрез задние ноги на поджарую часть туловища, где он наподобие нагрудного ремня, что в шорах, плотно обхватывает сверху поясницу, а с боков передний край подвздошных костей и, будучи натянут между ножным ремнем вниз и назад, делает самую удобную и покойную упряжь, лучше которой желать невозможно. В одну нарту собак запрягают обыкновенно от 3-х до 11-ти для перевоза тяжестей, для скорой же езды обыкновенно не более 5-и или 7-и собак, которых запрягают в легонькую нарту и управляют, так же как и оленями, шестом; передовая собака (по-сибирски проводник), хорошо дрессированная, ценится очень дорого; от нее зависит поспешность езды и самая безопасность ездока, ибо иногда, встречая на дороге дичь, собаки не могут оставаться спокойными, бросаются стремглав, несмотря на свою усталость, и тогда весь экипаж с ездоком падает в овраг, в таком случае одна надежда на ученую собаку: на голос хозяина забывает она приятное ощущение дичи, бросается в противную сторону и, останавливая тем порыв прочих собак, останавливает нарту. Девять таких собак могут везти 40-ведерную бочку, наполненную водой, не только по ровному месту, но даже и в гору, а 5, иногда и 4 везут большой воз сырых дров. Бегают они довольно скоро: хорошо выдержанные собаки пробегают свободно с отдыхом до 120 верст в сутки Езда на них вовсе была бы не неприятна, если бы только их можно было отучать от хитрой уловки часто останавливаться при пролете птиц и встрече проезжих: при каждом сего рода случае все они садятся на задние ноги и минут по 10 лают, чем очень много теряется времени и замедляется поспешность езды. Белявский Ф.И. Поездка к Ледовитому морю. М., 1833. С. 1–3, 11–62, 64–179. Абрамов Н.А. Описание Березовского края Н.А. Абрамов – автор многих работ о Сибири. Более 7 лет (с 1842 г.) он плодотворно служил в березовском уездном училище, при нем не только увеличилось количество учеников в училище, но и среди них появились дети коренных жителей. Штатный смотритель березовского училища Н.А. Абрамов неоднократно назывался в документах в числе особо отличившихся учителей. Одновременно с учебной работой он изучал архивные документы Березовской воеводской канцелярии, старинные предания, вел этнографические наблюдения. «Описание Березовского края» – это основательное научное исследование, в котором соединяются материалы по истории, географии, этнографии обширнейшего северного края. Н.А. Абрамов в своем труде использовал исторические архивные документы, личные этнографические исследования, народные предания. В фокусе внимания автора жизнь и аборигенов края, и русского населения, а также город Березов. Н.А. Абрамов в Березове оказывал помощь М.А. Кастрену в изысканях последнего, целью которых было изучение финно-угорских наречий. Причем беседы с Кастреном, плохо владевшим русским языком, велись по-латыни. Население […] Коренные жители Березовского края – остяки и самоеды. К ним, по покорении Сибири, присоединились русские: казаки, крестьяне, класс торгующих, духовенство и чиновники. Остяки В древних актах при упоминании народов, населявших обе стороны Северного Урала, нигде не встречается имени остяков, между тем как о сопредельных им племенах – самоедах, юграх и вогулах – есть свидетельство ранее XIII столетия. Надобно положить, что остяки разумелись у нас с древности под именем югры, хотя Югрия, между Обдориею и Кондиею, была только среднею частью остяцких владений, где ныне волости Ляпинская и Сосьвинская, по рекам Сыгве (Ляпину) и Сосьве1. Остяки говорят, что в древности они назывались аръяхи – многолюдье: ар – много и хо – человек. И действительно, народ этот в древности был очень многочислен; имел несколько отдельных «княжеств», которые между собою вели войны, что доказывается и сохраняющимися у остяков преданиями. Войны эти были, между прочим, из-за разных оскорблений, из видов корысти, а нередко из-за красивых женщин и девиц. Впоследствии остяки начали называть себя хондихо; они уверяют, что это имя они присвоили себе после лишения своей самостоятельности и из раболепной преданности страшным покорителям их – татарам. Хон – хан, царь и хо – человек – хон-хо или хондихо означает ханских людей, ханских подданных. Другие говорят, что хондихо просто значит человек с р. Конды. Но гордые повелители их, татары, или, как остяки их называют, хотаны, называли остяков уштяками. Это презрительное название на языке татарском означает людей грубых, невежественных, подобно тому как римляне называли некоторых покоренных ими народов barbarus. С названием уштяков, переформованных русскими в остяков, они вошли в состав Российского государства при покорении Сибири. Ни один народ, сопредельный с ними, не называл и не называет их остяками, кроме татар и русских. Самоеды называют их тагами. По преданиям остяков, они очень долго находились под властью хотанов. Это сведение может подтвердиться влиянием татар на остяков в разных отношениях. Сии последние много переняли от них в образе жизни. Хижины остяков строятся подобно татарским с нарами и чувалом; амбары для поклажи разных вещей и съестных припасов – на высоких стойках. Хлеб называют по-татарски нянь, табак – шар, курительную трубку – ханзя. Женское одеяние и наряды остячек совершенно татарские. Голову и лицо они всегда закрывают платом, как татарки. Некоторые из почетных остяков жалованы были от татар мурзами и тайшами; обдорские князья до настоящего времени имеют прозвание Тайшиных, даже остаются до настоящего времени татарские названия некоторых мест, например Османовогородище. Несмотря на то что остяки около 270 лет находятся под Русской державой, русское влияние менее заметно на них, чем татарское. При построении Березова первые воеводы были из бояр, и потому остяки всех чиновников называют бояре. Своих прежних правителей, называемых татарами тайшами, начали называть по-русски князцами, а мурз – старшинами. При обращении в христианскую веру у остяков вошли имена: поп, священник, церковь, образ и проч. От русских перешло к остякам вино, чай, сахар, самовар.
Казымские остяки с р. Казыма Остяки занимают пространство, начиная от Тогурского отделения Томской губернии, по р. Оби и впадающим в нее другим рекам, за 150 верст далее Обдорска; остяцкие селения расположены одно от другого в 20, 30, 40 и более верстах. В одной деревне бывает от 3 до 20 юрт (хижин). Зимой живут в лесах поблизости рек. Хижину их составляет изба с сенями, а нередко и без сеней. В углу, близ дверей, по примеру татар находится глиняный чувал, в котором весь день стоймя горят дрова; возле стен нары с разостланными на них сплетенными из травы тагарами (рогожами); одно окно, в которое у некоторых, вместо стекол, вставлена льдина. В одной хижине живет семейств по пяти, и для спанья каждому сделаны особые из досок перегородки, похожие на конские стойла. Неопрятность в сих жилищах крайне отвратительна. Для поклажи рыбы и других съестных припасов подле хижины находится амбар на высоких стойках. Лишь только весною откроются реки, в начале июня, остяки, собрав все свое имущество, складывают его в две продолговатые и глубокие лодки, вместе спаромленные, и отправляются на берега Оби и других больших рек. Там живут в берестяных чумах (палатках) до сентября, занимаясь рыбною ловлею. Остяки сложения слабого, вялы, видом старообразны, цвет лица желто-бледный, глаза узкие, большею частью загноившиеся; лицо круглое, плоское, нос широкий, волосы черные и у мужчин большею частью висят вокруг головы космами (впрочем, кодские и сосьвинские завязывают их в пучки шелковыми шнурками); бород нет; если же у кого начнет пробиваться волос, то его выщипывают. Женщины ничем не красивее мужчин и гораздо неопрятнее их, особенно севернее Березова. Но остячки сосьвинские опрятнее и красивее других. Язык остяцкий в Березовском крае разделяется на четыре совершенно различные наречия: обдорское, югорское (сосьвино-ляпинское), березовско-кодское и сургутское. В первое вошло немало слов самоедских и зырянских; во втором самая большая часть слов вогульских, потому что вогулы издавна смешались с здешними ляпинскими остяками и известны стали под именем сих последних; в третьем много слов татарских от близости их жительства и частых с ними сношений; в последнем, совершенно различном от прочих много слов, заимствованных от разных сопредельных племен и народов. Вообще язык остяцкий очень беден; для примера возьмем несколько слов их сформирования. Юх – дерево, тут – огонь, тут-юх – дрова (дерево для огня), кеу – камень, тут-кеу – кремень (камень для огня), мис – корова, инк – вода, мисизинк – молоко (коровья вода), торн – трава, сердта – резать, карты – железо, торн-сердта-карты – коса (для кошения сена). Письмен остяки не имеют. В делах для рукоприкладства ставят имеемую каждым родом тамгу, изображающую крест, зверя, птицу, дерево и проч. Долги купцам для памяти замечают вырезками на особой длинной палочке, которая раскалывается надвое: одна половина отдается заимодавцу, другая остается у должника. При выплачивании долга обе половины палочки складывают вместе для верности: сойдутся ли вырезки одни против других, нет ли подмены со стороны кредитора и насчитывания лишнего. Если долг уплачивается частями, то на сколько рублей сделано уплаты, столько отрезывается и рубцов от палочки. Пища остяков самою большею частью – рыба вареная, сырая, сушеная и мерзлая; оленье мясо, вареное и сырое, и летом перелетная птица. Хлеба они употребляют гораздо менее русских, делают из муки раствор и пекут в чувалах в золе пресные тонкие лепешки, варят салым, жидкую похлебку из ржаной муки, которую заправляют рыбьим жиром. У остяков лакомство составляют варка, т. е. рыбьи брюшки и кишки, уваренные догуста в рыбьем жиру; позёмы, т. е. хребты муксунов, летом прожаренные на солнце. Мужское и женское платье остяков имеет в себе много особенного. Оно состоит большею частью из оленьих шкур, как у всех полудиких северных обитателей Сибири, и только с некоторым различием в украшениях. Малица, главная их одежда, шьется из оленьей шкуры шерстью к телу, прямого покроя, в виде мешка, длиною по колени, с рукавами и пришитыми к ним рукавицами и отверстием для головы. Снизу к ней делается опушка из собольего или волчьего меха. Надевается прямо чрез голову. Малица подпоясывается довольно низко широким кожаным ремнем, унизанным медными пуговицами, как чешуею, и с большою напереди пряжкою, тоже медною. К этому поясу привешивается сбоку нож в кожаных ножнах и сумка кожаная с огнивом. Парка, во всем схожая с малицей, с тою только разницею, что шьется шерстью наружу. Сверх сих одежд в сильные холода в дорогах и лесах остяки надевают третью, из оленьей же толстой шкуры одежду, называемую гусь, шерстью вверх, с пришитою из той же шкуры назади шапкою, шерстью также вверх. Обувь зимою состоит из длинных чулок, сшитых из молодых оленьих шкур шерстью к телу, называемых чижами. Сверх них узорчатые пимы также вроде длинных чулок из черных и белых шкур с оленьих ног. Летом остяки носят сверх рубашки и ровдужных штанов так называемый гусь, подобный покроем зимнему гусю, из сукна ярких цветов; обувь, называемую неговаи, из ровдуги (выделанной оленьей кожи) наподобие чулок. Женская одежда состоит из холстяной, ситцевой или другой бумажной или шелковой материи однорядки, рубашки с воротником, унизанным стеклярусом, на груди и по подолу вышитой разноцветными шерстями. Волосы назади заплетают в две косы и к ним привязывают по покроме из сукна длиною до колен с нанизанными разными металлическими кружками, бляшками и побрякушками. Начиная с того времени, когда начнется периодическое женское отправление, до самой смерти женщины постоянно носят вороп (zona) подобно древним римлянкам. Это широкий пояс по голому телу с пропущенною сзади и спереди между ног настеженною холстинкою, которая спереди пристегивается к поясу. Сказать остячке слово «вороп» – значит сделать горькое оскорбление. Зимою женщины носят шерстью вверх оленью шубу наподобие капота с частыми завязками напереди, украшенными кисточками и побрякушками. Снизу эта шуба подбивается песцовым или заячьим мехом. Обувь та же, какая и у мужчин. Голову остячки всегда покрывают длинным и широким цветным платком, называемым вокшим, с длинными нитяными бахромами, закрывая им почти все лицо. Для щегольства татуируют, или испещряют, себе руки: накалывают иголкою разные фигуры птиц, зверей и проч. и затирают сажей. Остяки по примеру татар за невест своих платят отцу их калым, или установленную плату. Пока весь калым не будет уплачен, дочь остается у отца, но жениху не возбраняется приезжать к невесте и спать вместе с нею. Когда наступит время родов, то остячка из общего жилища отделяется в особую юрту и по рождении младенца проживает там до пяти недель; потом для очищения родильница разводит огонь и бросает в него или бобровую струю, или другое пахучее вещество, трижды перескакивает чрез тот огонь, окуривается и наконец возвращается к мужу. При погребении умерших остяки в знак сожаления о покойнике ногтями исцарапывают себе лицо до крови, дерут волосы и, окровавленные, бросают их на умершего, ибо верят, что душа его чрез несколько дней придет узнать о всех сердечных действиях к умершему. С покойником кладут в могилу все нужные в жизни вещи: одежду, лук, стрелы, топор, нож и проч. Нарту, на которой привозят покойника, оставляют на его могиле, а оленя приносят в жертву. Жена по смерти мужа, оболванив дерево наподобие человека, одевает его в одежду мужа и ставит на то место, где покойный имел обыкновение сидеть, потчует его тем, что более нравилось умершему, ночью кладет возле себя спать и целует его, веря, что душа умершего видит все эти ласки и угождения. Этот болван держат год и более, а потом зарывают в землю с плачем и сожалением. Простота нравов, издревле сохранившаяся между остяками, достойна примечания. Они добросердечны, услужливы, гостеприимны и честны. Нет из них ни воров, ни обманщиков, и между ними не случается убийств. Заимодавцам долги выплачивают не только за самих себя, за отцов, но и за дедов. Остяк скорее согласится поступить в работу к заимодавцу, чем не заплатить ему долга. Остяки, прежде покорения их Русской державе, имели свои княжества и владетели их назывались князьями. Главными из них были обдорский и кондинский, сосьвинско-ляпинский (югорский). Известные из сих князей были: обдорский Василий, крещенный в Москве в царствование Феодора Иоанновича и вскоре после того построивший в Обдорске церковь во имя св. Василия Великого; сын его, Мамрук, жил в царствование Бориса Годунова, Лжедимитрия и Василия Иоанновича Шуйского; Ермак, сын Мамруков, – при царе Михаиле Феодоровиче; Молюк – при царе Алексее Михайловиче; Гында, сын Молюка, – при царе Феодоре Алексеевиче. Тучабалда упоминается в делах 1706 года. Тайша, сын Гынды, в 1714 году крещен в Березове митрополитом-схимонахом Феодором и наречен Алексеем. Сын его – Василий Тайшин (1726 года). Василий Мурзин Тайшин крещен в Тобольске в 1742 году. Анда, сын Василия, – в 1750 году2. В настоящем столетии Матвей Тайшин. Дед его в царствование императрицы Екатерины удостоился вновь получить грамоту на княжеское достоинство, и с нею присланы ему алый бархатный кафтан с воротником и полами, обложенными золотым галуном, камзол из белого атласа, вышитый золотом с блестками, красные сафьянные сапоги, малинового бархата шапка, обложенная золотыми шнурками, и пояс с кортиком. В 1831 году сыну его Матвею Тайшину, за благонамеренные и полезные действия по управлению подвластными ему инородцами, высочайше пожалована золотая медаль на аннинской ленте с надписью: «За полезное». В настоящее время князем сын Матвея – Иван Тайшин. В Кондинском княжестве в 1599 и следующих годах был князем Игичей Алачев. Один из сыновей его, бывши в Москве, принял христианскую веру и наречен Петром. По возвращении его в Коду сам Игичей отправился в Москву и там крестился. В 1602 году в месте жительства своего, Коде, построил деревянную церковь во имя св. Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев. В 1603 году принял христианство и другой сын Игичея, Михаил. Он жил в Москве и, будучи стольником, женился на русской девице из знатной фамилии. Сын его Дмитрий, рожденный прежде сего брака от остячки, вызван в 1645 году по указу государя в Москву и находился в стольниках. Впоследствии ему дана в поместье волость Лена на реке Вычегде, близ города Яренска (в Вологодской губернии), а владение его, Кода, поступило в казну. С того времени князцы в ней прекратились и остяки кодские обложены ясаком3. В делах Березовского земского суда, переданных из бывшей тамошней воеводской канцелярии, упоминаются остяцкие князья: в 1693 году казымский Юзор Райдуков, в 1706 году ляпинский Шекша; в 1712, 1713, 1714 и 1715 годах казымский Дмитрий Юзорин, сын князя Юзора Райдукова; ляпинский Матвей Шекшин, сосьвинский Петр Османов. В настоящее время титло князя имеет только обдорский, а прочих волостей управители называются старшинами, хотя некоторых из них и ныне остяки и русские называют князьями: князь сынский (на реке Сынье), князь сосьвинский и князь казымский. В 1837 году, когда ныне благополучно царствующий государь император в бытность свою наследником престола осчастливил своим посещением Западную Сибирь, березовские князцы и старшины, вызванные в Тобольск, пожалованы от него кафтанами из алого сукна с золотыми галунами, нарядными шапками и кортиками. Остяки-язычники имели некоторое понятие о Боге, называли его Торым (добрый бог, властитель вселенной), почитали верховным божеством, живущим на небе, считали себя недостойными его внимания и не смели утруждать просьбами. По этой причине грубый материальный ум их изобрел низших божеств, которые, по их понятиям, имели ограниченную власть делать людям добро и зло и потому разделялись на добрых и злых. Некоторые из них в древнейшие времена вытесаны были шаманами из дерева, облечены в разные одежды и имели вид безобразного человека; другие, выплавленные из металла изображали птиц и зверей, особенно медведя. Остяки верили в бытие земных и водных божеств, покровительствовавших их промыслам, и строили им капища в сокровенных местах отдаленных лесов. Издревле в сем крае много было чтимых идолов; некоторые из них были собственного изделия шаманов, другие занесены сюда из России во время обращения ее в христианство при Владимире, а большею частью занесены из Пермии в XIV столетии, когда св. Стефан крестил пермян. Известнейшие из идолов были. Кумир, вылитый из золота; он сидел в чаше, в которую остяки вливали воду и пили в уверенности, что им не может приключиться никакого несчастия. Рача, славный идол в Рачевских юртах, ему с разных мест собирались дары для жертв. Близ нынешней деревни Белогорской, в 35 верстах ниже Самарова, была нагая деревянная женщина, сидевшая на стуле под березою. Остяки называли ее Большою богинею. При завоевании Сибири она приказала будто бы остякам схоронить себя4; по иным же преданиям, она сама бросилась в Обь. На устье р. Иртыша находилось капище с идолом, коего называли Обский старик – божество рыб. Он имел вид человека с безобразным лицом и рогами, жестяным носом и стеклянными глазами. На нем было несколько одежд и сверх их кафтан из красного сукна. Вокруг кумира лежали лук, стрелы, копье и кольчуга. По сказанию остяков, это божество их нисходило в бездны вод и вело войну с подводными божествами, проходило большие и малые воды и своею властью отпускало промышленникам столько рыбы, сколько кто заслуживал усердием в приносимых ему жертвах. Празднование Обскому старику было в мае месяце при открытии рек. По окончании первого рыбного промысла остяки, соревнуя друг другу, приносили идолу жертву: взяв самую жирную часть из лучшей рыбы, намазывали ею все лицо идолу, приговаривая: «Ешь, наш добрый бог, и на другое время дай больше рыбы». В Белогорских юртах, на берегу Оби, было капище, и в нем медный гусь – божество птиц. Седалище ему было устроено в виде птичьего гнезда. Остяки верили, что сей боготворимый истукан легким и скорым летанием загоняет птиц в те места, где чтители его занимаются птицеловством. В одном капище с ним был другой идол – самый главный у остяков и вогулов, но при обращении первых в христианскую веру в 1712 году он унесен на реку Конду к вогулам и там скрыт в отдаленности глухих лесов. В Шоркарском городке было капище, посвященное идолу Ортику, который имел серебряное лицо5, деревянную голову, вместо туловища мешок, набитый мягкой рухлядью; руки – суконные рукава, ног не было. Кумир был одет в суконный кафтан и поставлен в переднем углу капища на возвышении в виде стола. Его почитали другом и помощником Торыма. Мастер, или Мастерко, находился близ нынешнего села Троицкого. В переднем углу капища, посвященного этому идолу, стоял большой мешок, набитый мешками разной величины и сверху туго завязанный. Посредине мешка спереди была привязана серебряная тарелка: вот изображение Мастерка. Его почитали помощником Ортика, вестником воли высших божеств и божеством здоровья. Больной, просивший от Мастерка помощи, должен был сшить ему мешок из холста, сукна или другой ткани, но не из кожи. Усердные клали ему серебряные вещи и деньги; рухляди ему не посвящалось. Елянь, прислужник высших божеств, деревянный, с вырезанным лицом и острою головою, был обвернут в сукно, на голове у него была шапка из собачьей шкуры. Мейк – божество зла, деревянное, одетое в бобровую парку. Заблудившиеся в лесу или степи просили его помощи и обещали жертвы. Обдорский край имел своих идолов. Золотая баба (Zolota baba), высеченная из камня, которую почитали пермяне до своего крещения6. В 70 верстах ниже Обдорска находились два идола: один в мужском, а другой в женском одеяниях, с особенным украшением в остяцком вкусе: одежды их обложены были разными мелкими металлическими фигурами, на головах же было по серебряному налобнику. Каждый идол стоял в особом капище при одном избранном дереве. Сверх многих всеобщих идолов, каждый остяк и остячка имели у себя по идолу, вырезанному из дерева. Они были небольшие, обвитые разноцветными лоскутьями и хранились близ постели. Остяк, отправляясь на охоту или возвращаясь домой, отправлял пред пенатом разные обряды. Пришедши домой с добычею, поднимал руки пред идолом, напевая ему благодарность, потом, падая на колени, потчевал идола, крича громко: «Ешь, ешь!» – и намазывал идолу губы рыбьим жиром. Остяки оказывали благоговение горам и деревьям, заключающим в себе что-нибудь особенное, возбуждающее в них чувство уважения и что издревле признано шаманами их за святыню. Ни один остяк не проезжал мимо тех чтимых ими предметов без того, чтобы сперва не выстрелил в них из лука. Проезжая водою близ них, старался держаться средины реки, чтобы веслом не коснуться до берега и тем не разгневать божества. Томимый жаждою, не осмеливался ни напиться воды, обтекавшей обожаемое место, ни вырвать близ него травы, ни сломать деревца. Остяки приносили своим идолам в жертву лучшую мягкую рухлядь; стрелы, много раз убивавшие зверя; также серебряные деньги, тарелки и блюда, на сей предмет сделанные, с изображением на них шайтанчиков (идолов), птиц и зверей. При народных бедствиях, как напр. при повальных болезнях, при неулове рыбы и зверя, при падеже оленей и проч., были общие жертвоприношения. Главный шаман предварительно отправлялся к одному из идолов, входил в капище и вопрошал его о жертвах. После сего, обратившись, объявлял народу волю божества. Для исполнения ее богатые со стадом оленей, а бедные без всего сходились к капищу. Шаманы вместе с предстоявшими, громко прокричав идолу просьбу, начинали кричать, биться, стучать в бубен, кружиться на одной ноге и в исступлении кататься по земле. В это время при беспрестанном крике одни жертвоприносители держали оленей за рога, другие стояли с натянутыми луками, третьи – с заостренными кольями. Как скоро шаманы ударяли оленя палкою в голову, остяки, вооруженные луком, в мгновение пускали стрелы в сердца оленей, а другие, с кольями, спешили добивать животных, полагая, что скорая смерть будет угодна идолу. Хозяева павших жертв тотчас вырезывали из оленей сердца, выжимали в блюдо кровь и потчевали ею идола, намазывая ему лицо; потом сами пили выпущенную из тела кровь. Мясо обносили трижды вокруг капища, сырое ели, а остальное разделяли между всеми жертвоприносителями, которые развозили его по домам для угощения своих семейств. Кожи с оленей вместе с головою и ногами развешивали и оставляли на деревьях, окружавших жертвенное место. Шаманы во все это время не переставали отправлять своих действий и наконец, пришедши в бесчувственное полоумие и потеряв силы, падали на землю. При сем случае у находившихся здесь остяков до того разгорячалось воображение, что им казалось, будто изо рта шамана выходил голубой дым. Это воображаемое явление служило знаком сношения шамана с идолом о приятности для него жертвы и об исполнении желания жертвоприносителей. […] У остяков были разные идольские празднества. Ограничимся помещением здесь одного из них в честь идола Еляня. Остяки вечером собирались в одну юрту, где находился идол, и до двух часов пополуночи отправляли празднество следующим образом. Каждый входивший сюда остяк вертелся по три раза пред идолом и потом садился на правой стороне на нарах; левая же половина нар была закрыта занавескою, сюда сходились остячки, также при входе в юрту вертевшиеся по три раза. По собрании всех шаман начинал греметь железными саблями и копьями, заблаговременно приготовленными и лежавшими на шестах пред кумиром; потом каждому из предстоявших мужчин давал по сабле и копью, по получении коих остяки становились вдоль юрты и вертелись вдруг по три раза. Сам шаман, взявши в каждую руку по сабле, оборачивался к идолу спиною, и, когда начинал ударять одну саблю о другую, остяки как бы по команде, качаясь с одной стороны в другую, кричали разными голосами то редко, то часто, отставая один от другого. Потом при каждом повторении «Гай!» то поднимали оружие кверху, то опускали книзу. Крик сей и движение продолжались около часа, и, чем остяки долее ревели и качались, тем более приходили в некоторый род исступления. После сего, умолкнув, повертывались по-прежнему перед идолом и отдавали оружие шаману, который раскладывал его на прежние места. Окончив таким образом этот обряд, мужчины садились на нары. Тогда открывалась занавеска, скрывавшая женщин, и являлась новая сцена. Начиналась игра на домбре7, остяки с остячками плясали. Пляска эта длилась долго и была попеременно то дика, то забавна, то слишком неблагопристойна. После пляски шаман снова раздавал оружие, и повторялся предшествовавший обряд. В заключение остяки, стукнув в пол по три раза концами сабель и копий, отдавали их обратно и расходились по домам8. Шаманы и шаманки, служители идолов, приобретали себе это «почетное» звание или по наследству, или по личным своим способностям. Для получения имени шамана требовалось многое: проницательный ум, твердый характер, мечтательное воображение, также правильность телосложения и гибкость членов, необходимые в телодвижениях. Приготовлявшийся быть шаманом старался чаще следовать за старыми шаманами, пристально всматривался в их действия, прислушивался к их рассказам, толкованиям снов и прорицательным ответам. При ощущении в себе способности проводил молодость воздержно и упражнял свои способности в приобретении познания шаманских искусств, с усвоением которых до того раздражал ум и чувства, что пред отправлением шаманских обязанностей приходил в мечтательное исступление. Он падал на землю и вопрошавшим давал ответы, сообразно желанию каждого и личным выгодам. Таким образом, время от времени занимая ум и чувства зрителей, снискивал себе доверенность и получал звание шамана. Остяки почитали шаманов свыше вдохновенными и верили их предсказаниям, как воле божеств. Посему и обязанность шаманов состояла в том, чтобы принимать приношения идолам, относиться к ним и объявлять полученные от кумиров ответы, угодна ли просьба и приносимая жертва. Шаманы при жертвоприношениях носили особенное платье длинного покроя, сшитое из звериных шкур, которое украшалось большим количеством металлических колец, бляшек, колокольчиков, изображений птиц и животных; ими так часто и плотно унизывалось платье, что нельзя было знать, из чего оно сшито. Голову свою шаманы покрывали иногда железными шишаками, а в другое время шапочкой из разноцветных суконных лоскутьев. Шаманки носили такое же платье, но голову оставляли открытою и растрепанною. Принадлежностью шаманов бы еще бубен; ударяя в него колотушкою, обтянутою кожею, шаманы тем как бы возбуждали свои силы к нужным кудесным действиям. […] Самоеды […] Самоеды почти все росту малого, но крепкого сложения, широкоплечи и короткошеие, голова у них большая, лоб узкий, лицо круглое и плоское, цвет изжелта-смуглый, скулы выдавшиеся, как у монголов, глаза узкие, волосы черные и жесткие, рот и уши большие, губы тонкие, руки и ноги короткие. Женщины походят на мужчин и так же некрасивы. Самоеды с виду грубы, но в сношениях миролюбивы и честны, ловки и проворны на промыслах. Одежда как мужчин, так и женщин состоит из оленьих шкур подобно остяцкой. […]
Низовые самоеды Хлеба самоеды очень мало употребляют, но питаются рыбою и оленьим мясом. Время, в которое убивают оленя, для семейства самоеда, равно как и для остяка, составляет как бы праздник. Когда колют оленя, то льющуюся из него кровь тотчас же пьют чашками. Потом, когда олень будет ободран и вскрыт, все семейство толпится около него с ножами в руках и с жадностью вырезывают и едят теплое мясо, обмакивая его в дымящуюся еще кровь. […] Мясо глотают они кусками, почти не жевавши, и трудно себе представить, сколько каждый из них может съесть его. После мужчин приступают к уборке оставшегося мяса женщины. Они вытягивают зубами жилы и вместе с тем едят в свою очередь. Когда едят мужчины, тогда женщины ничего не смеют трогать, особенно если тут есть гости и почетные люди, коим предоставляется все лакомое. Ребятишки, перемаранные в крови, долго остаются на месте глодать кости и играть ими. […] Письмен у самоедов никаких нет. Этот народ по умственным способностям гораздо выше остяков. Самоеды умны, рассудительны, тверды, экономны. Обучавшиеся в березовском уездном училище с 1844 по 1849 год самоедские дети показали необыкновенные способности в учении, особенно в арифметике, рисовании и чистописании. Жаль, что этим мальчикам не представилось возможности продолжать учение в высшем заведении. […] При рождении и браках у самоедов нет никаких особенных обрядов, но погребение очень оригинально. Мертвое тело обмывают, одевают в лучшее платье и вытаскивают из чума не в дверь, а в особо сделанное отверстие против того места, где покойник умер. Потом тело отвозят на любимом олене умершего до могилы, заранее приготовленной. Спустив покойника в могилу, закрывают ее досками и засыпают землею; затем ставят оленя, на котором было привезено тело, задом к голове погребенного, и четверо самоедов, вооруженных дубинами, вмиг поражают ими животное в голову. Если олень умрет от сильных ударов без всякого движения, то самоеды радуются; но если он поднимет голову, то дикари начинают бегать и кричать: «Васиза! Васиза!» (горе, горе), считая движение оленя признаком скорой смерти еще одного из племени. После этого раскладывают на могиле огонь, бросают в него масло, сало, хлеб, табак и дымом от этой смеси окуривают свою одежду. Потом все присутствующие… берут хлыстики, переходят с ними один за другим чрез могилу, толкая землю пятою, и наконец втыкают хлыстики в насыпь над могилою; этим обряд погребения заканчивается. Самоеды березовские не только не приняли христианской веры9, но после крещения здешних остяков несколько лет грабили и убивали их за то, что они изменили вере своих отцов. […] Русские Русские выселены сюда вскоре по завоевании Сибири из губерний Вятской, Пермской и Казанской под именем ямщиков10 и поселились в селах: Троицком, Сухоруковском, Малоатлымском, Кондинском, Шеркальском, Чемашевском – и в деревнях Белогорской и Елизаровой, а также в городе Березове. Здешние крестьяне по большей части телосложения крепкого, росту выше среднего, лицом довольно красивы, волосы у них большею частью светло-русые. В селах и деревнях у них пространные дома и содержатся в опрятности; стены обиты шпалерами, передний угол преисполнен иконами суздальского или туринского письма; на стене зеркало, на нем белое из лучшего холста полотенце с вышитыми или выплетенными краями; стол накрыт белою, чистою скатертью или ковром; полы всегда чисты. Зимой по стенам в некоторых местах развешивают шкуры лисиц или соболей в доказательство, что хозяин – зверолов. Но при редком доме есть ограда; это доказывает, что здесь нет воровства. Конюшни, хлева и загоны для скота строятся за деревнею, и потому в деревнях улицы чисты. Мужчины летом занимаются рыболовством, зимою звероловством и извозами, и почти все живут очень достаточно. Пьянства, какое замечается в других сибирских местах, между крестьянами здесь нет. Крестьяне Березовского края очень опрятны в одежде и даже щеголеваты. Бороды бреют… […] Как мужчины, так и женщины веселого и живого характера, охотники петь песни и плясать под игру балалайки. Ко всему этому должно прибавить, что они хорошей нравственности, очень религиозны; раскольников из них нет ни одного. Женщины здоровы и сильны. Летом, когда мужья заняты рыбною ловлей, они сами отправляют подводы, в лодку проезжающих чиновников они для гребли садятся по нескольку человек и веселыми своими песнями сокращают нередко скучную дорогу проезжего, особенно против воды и в осеннее время. К русским жителям принадлежат также, кроме духовенства и чиновников, торговое сословие и казаки. Торговцы привлечены сюда выгодною торговлею с инородцами, а казаки – потомки тех, коих предки зашли сюда со времени покорения Сибири или присылаемы были впоследствии для охранения внутреннего порядка. […] Число населенных мест В Березовском крае находится один город – Березов. […] Образование юношества в столь отдаленном крае от центра России и от губернского города началось открытием в Березове уездного училища в 1820 году. До 1842 года учеников было не больше 60, но с этого времени по 1849 год число их доведено до 108 человек. Не бывало примеров, чтобы тамошние инородцы решались отдавать детей своих в училище для обучения грамоте, но с 1844 года по 1849 год проходили все предметы уездного училища из самоедов двое, из остяков 12 ч. […] В Березове купеческих лавок с разными товарами 8, погреб с винами 1, амбаров с мукою 37. Вообще здешние жители никакой особенной промышленности не имеют. Почти все они, кроме духовенства и чиновников, занимаются торговлею с инородцами. Набрав у купцов в долг муки и разных товаров «на инородческую руку», они отправляются в юрты остяков зимою на оленях, а летом на лодках, выменивают там рыбу, пушного зверя, орехи, птичье перо, сдают их приезжающим в Березов торговцам, расплачиваются с заимодавцем, потом вновь набирают в долг товаров, опять сбывают их инородцам и этими прибытками продовольствуются целый год. – На стр.12 после слов: «занимаются торговлею с инородцами…». Некоторые из жителей города содержат оленей от 10 до 50, от 50 до 100, а иные даже до 700 голов. Всех оленей, принадлежащих городским жителям, считается до 6000. Кроме того, в Березове жители содержат до 250 лошадей, до 260 коров, овец до 15 штук. Для огородных овощей в Березове есть 63 огорода. Горожане летом питаются большею частью рыбой и перелетною птицей, а зимой рыбою же, боровою птицею, оленьим и «скотским» мясом, из коих последнее доставляется туда из сел Самаровского и Демьяновского Тобольского округа. […] Березовский округ разделяется на пять русских обществ и девятнадцать инородческих волостей. Там к 1850 году было: русских сел, в том числе бывший город Сургут и крепостца Обдорск 17 деревень русских 6 ” остяцких 548 домов русских . 502 юрт, или хижин, остяцких 3049 самоедских чумов 100411 Число жителей Народонаселение округа представляет результат в прилагаемой при сем табели. Табель народонаселения Березовского округа к 1850 г. 12 Отделение I Мужск. Женск. Состояния, не включенные в ревизию Духовенство православное 1) Белого . 44 36 Их детей . 21 37 2) Монашествующих . 8 Итого . 73 73 Статские чины А) Губернское ведомство 1) Чиновников, членов присутствия 3 3 Их детей 2 3 2) Канцелярских служителей . 4 3 Их детей 5 8 Итого . 14 17 Б) Почтовое ведомство Членов присутствия . 2 1 В) Часть медицинская 1) Чиновников 2 1 Их детей . 2 2) Лекарских учеников . 5 5 Их детей . 4 2 3) Оспопрививателей 4 4 Их детей . 1 2 Итого . 18 17 Г) Военное ведомство 1) Отставных солдат 5 3 Их детей . Городовых казаков в составе Тобольского полка: 1) Обер-офицеров 3 1 2) Казаков служащих 204 155 Их детей . 131 126 3) Казаков отставных . 4 3 Их детей 7 2 Итого . 354 290 Не принадлежащих к состоянию служащих Личных дворян 2 1 Их детей 3 3 Итого . 5 4 Всего не включенных в ревизию 464 401 Отделение II Состояние податных 1) Городовые жители (в Сургуте) Купцов 3 гильдии 3 2 Их детей . 8 9 Мещан . 102 49 Их детей 22 30 Итого . 135 120 Монастырских служителей . 7 6 Их детей . 1 1 Итого . 8 7 2) Поселяне Крестьян государственных . 542 520 Экономических . 60 77 Итого . 602 597 3) Инородцы Остяков 8294 8821 Самоедов . 2585 181313 Итого . 10879 10634 4) Ссыльные На поселении 27 12 Водворенных 70 25 Их детей . 15 21 Итого . 118 58 Всех податных сословий . 11742 11416 Значит, вообще обоего пола жителей в округе 24023 души. Если к ним присовокупить жителей Березова 1186 (муж. 647, жен. 539), то получится полный итог народонаселения Березовского края в 25 209 душ. […] Правительственное устройство Прежнее управление. До 1782 года вся администрация Березовского и Сургутского округов совмещалась в лице воевод и их товарищей, а с сего времени Березов и Сургут были зачислены окружными городами Тобольской губернии. В 1804 году Сургутский округ уничтожен и вошел в состав Березовского. […] Общее число учащихся в Березовском крае (в 1849г. – Сост.): русских –209, инородцев – 87… Такое число учашихся относится ко всему народонаселению Березовского края, как 1 : 44. Земское управление. По уважению дальних расстояний и трудности сообщения, Березовский округ разделяется на три отделения: Обдорское, Кондинское и Сургутское. В каждом из них постоянно живет земский отдельный заседатель. […] Сельское хозяйство Земледелию в Березове пока отказывает сама природа, и жителям не предстоит еще особенной нужды трудиться над возделыванием земли14 при гораздо выгоднейшей промышленности – звериной и рыбной. […] Огородничество в Березове, южнее его и в Сургуте ограничивается преимущественно репой да картофелем. […] В 1848 году всех огородов в Березовском округе было до 400. Главную статью скотоводства в тамошнем крае составляют олени. […] При покорении Сибири лошадей в Березовском крае вовсе не было, но езда отправлялась на оленях и собаках. С водворением русских постепенно вводилось и содержание лошадей, особенно с того времени, когда переселены в Березовский край крестьяне из внутренних русских губерний под именем ямщиков. Впоследствии лошади разведены до самого Березова. Отсюда до Обдорска, остяки их не имеют. Обдорские русские жители содержат их для местного только употребления. В настоящее время всех лошадей по всему Березовскому краю до 6000. Русские и оседлые остяки имеют коров средней породы, число коих в настоящее время определяется до 3000. […] Южнее Березова и в Сургутском отделении у русских водятся овцы; есть они и в Березове, и даже с особенным попечением стараются развести и разводят их в Обдорске. Число овец в округе, преимущественно в южной и сургутской половине, простирается до 800. […] Свиней, как и овец, держат только русские в городе и русских селах, особенно при берегах Оби. Летом они питаются рыбными кишками. К зиме свиней убивают и оставляют только для приплода, потому что содержание их здесь зимою, за неимением хлебопашества, стоит значительного расхода. Число свиней к осени бывает до 200. К домашним животным Березовского края принадлежат собаки (canis sibirieus). Они употребляются как для звериных и птичьих промыслов, так и для езды в осеннее время, до выпадения снега, по гололедице, когда неподкованные лошади падают, и весною по мягкому снегу, когда они «проступаются». Всех собак в крае до 15 000. Домашнюю птицу здесь «не водят», кроме обыкновенных кур, имеемых только в русских селениях. Гусей и уток не предстоит здесь надобности содержать, тем более что их здесь кормить нечем и, сверх того, множество разных перелетных птиц доставляют жителям яйца, перо, пух и пищу. Домашние занятия остяков
Постройка обласов (челнов) на р. Вахе Мужчины делают лодки, нарты, лыжи, гимги, луки и другие вещи и орудия для промысла рыбы и зверей; летом косят сено. Остячки из крапивы приготовляют холст, из оленьих жил нитки, шьют для себя и мужей одежду, вяжут сети, колыданы, важаны, плетут из травы тагары, рубят дрова и помогают мужьям летом становить сено. Самоеды занимаются тем же, что и остяки, кроме сенокошения; умеют закаливать железо в сталь, из мамонтовой кости делают курительные трубки, варят клей из оленьих рогов; занятия самоедок те же, какие и остячек, но, сверх того, при перекочевках они обязаны расставлять и снимать чум. Промышленность Природа не производит здесь хлебных растений, вместо того наделила этот край с избытком многоразличными зверями, рыбами и птицами, промысел за которыми составляет главнейшее занятие здешних обитателей. […] В октябре месяце, лишь только падет снег, остяки отправляются в леса ловить зверей: соболей, лисиц, белку, горностаев, росомах, песцов и частью волков и медведей. Кроме того, некоторые охотятся за зверями и невдалеке от своих жилищ. В декабре большая часть ловцов возвращается из урманов с наловленными зверями, вносят ими ясак и продают русским торговцам, а некоторые остаются в лесах на всю зиму. В марте, до самой оттепели, остяки промышляют диких оленей и лосей. Самоеды же круглый год промышляют зверей… […] Рыболовство составляет вторую обширную отрасль промышленности. […] Березовский край с самой весны до осени наполнен неисчислимым множеством перелетных птиц… и потому ловля птиц составляет также замечательный промысел здешних жителей. Добытая птица потребляется ими самими и не составляет статьи в торговле, но сбираемые с птиц пух и перо в количестве до 1500 пуд. на сумму до 2000 рубл. сер. идет на продажу15.
Слопец для ловли тетеревов и глухарей. Игрим-паул на р. Сосьве 1909–1910 Российский этнографический музей. 1705–51 Кедровые орехи хотя не каждогодно, но составляют также немаловажную отрасль промышленности в южной и восточной стороне здешнего края, т. е. в Кондинском и Сургутском отделениях. В урожайные годы собирается орехов до 10 000 пудов на 6500 руб. […] Благодетельная природа наградила здешний край такими ягодами, которые составляют сколько подспорье в хозяйстве и лакомство здешних жителей, столько же и врачебные средства: брусница и клюква против горячки, морошка против цинги; прочие ягоды – рябина, голубица и черемуха. Брусницы сбирается до 2000 пудов на 400 рублей. […] Торговля Сбыт произведений, получаемых от звероловства и рыбного промысла, составляет торговлю Березовского края. Для облегчения ее оборотов учреждены ярмарка в Обдорске, торг в Березове и торжки в некоторых селениях. Обдорская ярмарка начинается с 20-х чисел декабря и продолжается до половины января. Сюда прибывают самоеды для взноса ясака и для торговли, остяки из округа и зыряне из Архангельской губернии. Первые два племени привозят сюда шкуры пушных зверей, оленьи шкуры и мясо, гагачий пух, рыбу, мамонтову кость и лодки, а зыряне коровье масло, семгу, моржовые ремни, железные поделки и медную посуду, также малицы, парки, гуси и пимы. Русские с лета «заплавляют» сюда муку и привозят табак, сукна ярких цветов, холст, ситцы, платки, легкие шелковые материи, стеклярус… также чугунную, железную и медную посуду. Доставляемые зырянами и русскими хлеб и прочие товары промениваются на произведения, привезенные самоедами и остяками. Под ярмаркою бывает занято 120 амбаров. Остяки и самоеды променивают свои товары скрытно. От нарт своих подошедши к торговым амбарам, входят в них только тогда, когда в них никого постороннего нет; являясь к знакомым купцам, заслоняют спиною дверь и, вынув из-под своей одежды мягкую рухлядь, торгуются с купцом так скрытно, что никто не знает, кто из них, что и за какую цену продал. […] По окончании Обдорской ярмарки, с половины января до первых чисел февраля, бывает торговля в Березове. Остяки окольных мест и самоеды съезжаются в город и привозят соболей, лисиц, белку, горностая, песцов и прочих зверей. Торг большею частью, как и в Обдорске, производится скрытно. […] Таким образом, незаметно никакого коммерческого движения и обыкновенных явлений ярмарки – деятельности, суеты и шума. Ценность денег остякам и самоедам мало известна. Общим мерилом для денег остается доселе у остяков белка и рыба муксун, а у самоедов белый песец. […] При вскрытии рек в первых числах июня приходит из Тобольска в город Березов до десяти рыбопромышленных судов с хлебом и разными товарами, состоящими в железных вещах, сетях, ситцах, холсте, сукне и проч; хозяева «задают» городским жителям и инородцам хлеб и товар и в то же лето получают за них рыбу, клей, икру и птичье перо. Кроме означенных ярмарки и торга, существуют в Березовском крае три торжка: 1) в селе Мужах Обдорского отделения 7 и 8 ноября (сюда съезжаются русские, остяки и из Архангельской губернии зыряне); 2) в селе Ларьятском Сургутского отделения с 22 по 30 мая и 3) в селе Юганском того же отделения с 8 по 15 июня. […] Пути сообщения Из Тобольска в Березовский округ ведут два тракта: первый на север до Березова и до Ледовитого моря; второй от села Самарова (в 500 верстах севернее Тобольска) к востоку до Сургута и до границы Томской губернии. Летом путь совершается водой, от Тобольска до с. Самарова Иртышом, а отсюда Обью; зимой же частью по берегам, а более по льду этих рек. От Тобольска на север 250 верст можно ехать на конях тройкой в ряд, а отсюда уже гусем узкой, малопроезжей дорогой до Березова и к востоку до Сургута. Зимняя дорога очень покойна: по ней мало ездят и оттого нет ни рытвин, ни раскатов. Неровности встречаются только на реках, когда в бурное время льдины, спершись между собою, образуют как бы окаменелые, вдоль по реке разметанные груды. […] 1 В бумагах, принадлежащих сосьвинскому старшине Османову и бывших у меня в 1844 году в руках, между прочим, сохранилось одно черновое прошение на имя царя Василия Иоанновича Шуйского, писанное от имени мурзы Тылыки Сапчина и других, как они называют себя «югрич». 2 Из разных справок, приведенных в старых делах бывшей Березовской воеводской канцелярии и по уничтожении ее переданных в земский суд, а также из сохраняющихся у князцов царских жалованных грамот. 3 Древн. Росс. Вивлиофик. Записк. о Сибири печ. 1775 г. под 7141, 1751 и 7153 год. 4 Описание Сибирского царства Миллера. Ч. 1. Стр. 124, 125, 126 и 131. 5 Журнал Минист. Народн. просв. 1851 г. № 12. Моя статья «О введении христианства у березовских остяков. 6 Гваньини в сочинении своем Rer. Polon. II, 79. 7 Домбра имеет вид лодки с натянутыми медными струнами, коих бывает три, пять и более. 8 Журн. Мин. Народн. Просв. 1851 г. № 12. – Моя статья «О введении христианства у остяков». 9 В «Статистическом обозрении Сибири» издан. г. Гагемейстера сказано (Ч. II, стр. 33), что тобольские самоеды крещены и что обитающие на Оби и Иртыше живут в деревянных домах; на Иртыше вовсе самоедов нет, и все они (самоеды) живут в подвижных палатках, или чумах, из оленьих шкур, а летом из бересты. 10 Из дел Березовской воеводской канцелярии видно, что, по переписи, произведенной в 1744 г. тобольским капитаном М. Бобановским, в Березовском крае было ямщиков 481. 11 Из дел Березовского земского суда за 1849 год. 12 Из дел Березовского земского суда. 13 Число самоедок должно немногим разниться от мужского пола, но по, бродячей жизни, верного числа женщин узнать не можно. Самоед на вопрос, сколько у него в семье женского пола, отвечает: на что знать баб, с них ведь ясаку нет. 14 Земледелие прекращается за 350 верст южнее Березова. 15 В Березовском крае птичий пух не отделяют от пера, но вместе с ним и с пером боровых птиц, с крыльями, с хвостами и часто даже с головками зашивают в кули и сдают купцам по дешевой цене. При превеликом множестве птиц летом некогда сортировать пух и перо, да остяки и не заботятся об этом. Абрамов Н.А. Описание Березовского края // Записки Императорского Русского географического общества. СПб., 1857 г. Кн. XII. С. 329, 330–345, 353–355, 358–361, 363–365, 381–383, 385, 387, 402, 405–407, 408, 412–413, 415–416, 418–419. Тверитин И.Я. Опыты разведения хлебов в Березовском крае И.Я. Тверитин, священник села Юганского, занимался просветительской, благотворительной и научной деятельностью. Особенно ценна его деятельность по внедрению хлебопашества в этом суровом краю. В Статистическом обозрении Сибири (1810 г.) читаем: «Весьма немногие только из них (вогулов. – Сост.) занимаются хлебопашеством, которое, впрочем, почти ничего не значит» (с. 106). Белявский Ф.И., член Тобольской врачебной управы, в конце 1820-х гг. проезжавший по Югре, направляясь на север в специальную командировку, отмечал: «Хлебопашества здесь совершенно нет, и крестьяне не имеют даже понятия о нем»1. Он все же отмечал отдельные попытки: «…в 1826 году березовский купец Нижегородцев посеял несколько десятин хлебом разного рода и по случившемуся тогда жаркому лету, что очень редко бывает, имел совершенный успех: семена взошли и жатва созрела»2. Подобные опыты делались и позднее. Например, вблизи Сургута в 1851–1853 гг. священником В. Кайдаловым, а в 1853–1855 гг. – есаулом Невзоровым. Прекрасный краевед А.А. Дунин-Горкавич писал: «Г. Альквист во время своего посещения Пелымского края в 1858 году нашел там несколько вогулов, занимающихся хлебопашеством. В вогульской деревне Масау, находящейся под 61˚ с. ш., он встретил одного вогула, который год от году расширял площадь посева и собирал запасы хлеба на всю свою большую семью; в хорошие годы он имел даже возможность продавать его»3. Однако И.Я. Тверитину принадлежит особая роль: именно ему удалось добиться устойчивых успехов. Начиная с 1855 г., когда он на полдесятине подготовленной под посев земли вырастил урожай зерновых, он около 20 лет продолжал этим заниматься, имея к середине 1860-х гг. хорошее хозяйство. Хлебопашеством И.Я. Тверитин занимался на земле, расположенной под 61˚ северной широты, в то время как тогда для этих территорий границей земледелия были 56–57˚. Он, ведя большую работу по акклиматизации ряда зерновых культур, пришел к выводу, что предпочтительнее в этих районах сеять озимые. Его дело по развитию земледелия в этих северных широтах продолжил, в частности, внук, тоже священник, отец Василий (Тверитин). Все же справедливости ради следует сказать, что и в конце XIX – начале XX в. эти югорские земли остались «неземледельческими», о чем свидетельствуют, например, такие важные отчетные документы, как «Обзоры Тобольской губернии», издававшиеся Тобольским губернским статистическим комитетом, в которых прямо говорится, что губерния делится на «два неземледельческих (Березовский и Сургутский.– Сост.) и восемь земледельческих уездов» (округов), а в приложения (таблицы, ведомости), посвященные земледелию, первые даже или не включались, или же в графах отчета, их касающихся, указывалось: «По суровости климата хлебопашества не производится». Долгое время хлебопашество известно было остякам, жителям Березовского края, только по слуху. Наконец 1855 год показал им, что это не простой слух, а действительность. Прихожане селоюганской Богоявленской церкви увидели тогда поле, разработанное на пространстве 1/2 десятины и заросшее разного рода хлебом: ячменем, овсом, гречей, рожью и пшеницей. Этот первый опыт был произведен мною и осенью того же года был вознагражден довольно крупными колосьями. Видя удачу, я нанял рабочих и начал продолжать в больших размерах свои опыты, хотя и сопряженные с немалыми трудами и на первый раз с убытками. Зато надеюсь, что они, хотя не скоро, могут принести посильное добро краю. Они наглядно убеждают жителей в возможности хлебопашества в Березовском округе и могут со временем вызвать их на земледельческую промышленность, которая будет более или менее обеспечивать край собственным хлебом и устранит монопольное влияние купцов на здешние рыбные и охотничьи промыслы. Впрочем, в настоящее время последователей моим начинаниям пока очень мало, да и нужно отдать бедняку-крестьянину справедливость: вся промышленность его состоит в ловле рыбы, которая продается здесь по очень дешевым ценам, а между тем он должен, начиная от хлеба до последней нитки и иголки, все покупать или на чистые деньги, или выменивать на рыбу по дорогим ценам. Так, в настоящее время цена на ржаную муку стоит здесь с лишком в 60 коп. сереб. за пуд. При такой скудости промыслов и дороговизне содержания здешний крестьянин употребляет все свои силы на занятия привычные, в большей или меньшей выгодности которых он уверен. Живя настоящим и кое-как добывая от своего промысла средства к существованию и на уплату государственных и мирских податей, ему трудно решиться на предприятие новое, для него неведомое и мало испытанное, какова для здешнего края промышленность земледельческая. Неудача в ней может не только до крайности разорить его, но даже довести до голоду. С другой стороны, приступ к хлебопашеству в здешних лесных странах не так прост и сподручен, как в местах степных, свободных от лесу. В последних почва сама по себе уже доступна обработке и желающий ее возделывать прямо начинает с подъема залежи. В наших же местах самый тяжелый труд встречает на первых порах приступающего к земледелию. Здесь требуются большие усилия на расчистку полей, поросших вековыми деревьями кедров, сосен, ели и пр., что совершенно невозможно для малосемейных крестьян без посторонней наемной помощи, на которую они, не имея денежных и других средств, никогда не могут рассчитывать. При таких обстоятельствах трудно развиться и укорениться в здешних местах сельскому хозяйству, если не примет в нем участия правительство, освободив крестьян и мещан, желающих заниматься хлебопашеством, лет на пять от всех податей и повинностей и снабдив средствами на приобретение земледельческих орудий и предметов продовольствия. Земли, полезной для хлебопашества, в Юганском селе и окрестностях его очень много. Если число настоящих жителей увеличить в 10 раз, то и тогда достанет ее на всех с излишком. Почва черноземная глубиною около рек в 2 и более вершка, а вдали от них доходит до 6 вершков. Подпочва глинистая. Судя по моим пятилетним опытам, можно полагать, что здешняя почва не потребует удобрения до 15 и более лет. От сгнивания мха и тщательной перепашки она с каждым годом становится чернее, рыхлее, а потому и плодороднее. С 1855 года по настоящее время мною расчищено вблизи села Юганского 6 десятин земли. В 1857 году принялся было за хлебопашество крестьянин Кондаков со своими братьями, но в следующем же году, получив результат, по расчету моему, порядочный, оставил свое предприятие, потому ли что не имел возможности его продолжать, или потому что считал его занятием для себя тяжелым, сказать об этом решительного ничего не могу. В настоящее время, кроме меня, занимаются земледелием в здешнем селе следующие лица. 1. Дьячок Алексей Силин с сыном своим, Сургутского мещанского общества мещанином Ефимом Силиным. Они приступили к расчистке леса в 1857 г., но работа их по недостаточному состоянию подвигается вперед очень медленно. По настоящее время сами собою они успели расчистить одну десятину, которая поступила в нынешнем году под посев озимой ржи. Кроме того, у них по направлению пашни еще развалено много лесу, чтоб он подгнивал для расчистки в будущее лето, ибо приступать к разработке нового корня, подсеченного в то же лето, очень трудно и безуспешно. 2. В прошлом 1858 году мещанин Сургутского мещанского общества, живущий в Юганском селе, Николай Тетюцкий расчистил 1/2 десятины, распахал ее и как должно заборонил, а 22 августа я посылал к нему на поле своего работника для посеву. В нынешнем году он еще расчистил одну десятину и вместе с прежнею полдесятиною засеял снова озимою рожью. Радуюсь трудам моих сотрудников. Они с полным усердием отозвались на призыв начальства, старающегося распространить в здешних местах хлебопашество, и горячо принялись за новое для них дело. Велик здесь труд земледельца. Немалых усилий требуется, чтобы свалить вековые деревья и выворотить их корни. Во время пашни жалко смотреть на лошадь, у которой соха беспрестанно спотыкается об отростки оставшихся корней. Не менее возбуждает сострадание и тот, кто идет за сохою, будучи принужден постоянно выдергивать из земли, переносить чрез корни и опять впускать в землю. Яровой хлеб в здешних местах, как я уверился трехлетними опытами, может родиться, но не всегда, даже можно сказать – очень редко; именно тогда только, когда весна начинается с последних чисел апреля или с первых мая. В Березовском же крае часто так случается, что в это драгоценное время года продолжается еще зима, после которой в июне месяце прямо наступает лето со своими жарами, а в августе опять уже появляются морозы. При такой малости теплых дней яровой хлеб не успевает вызревать до морозов. Весна нынешнего (1859 г. – Сост.) года была очень плохая. Были частые дожди днями и заморозки по ночам, вследствие чего подгнило и вымерзло на пашнях много хлеба и урожай нельзя назвать хорошим, а посредственным – не в отношении к колосьям, которые по количеству вмещали в себе столько же зерен и такой же тучности, как и прежде, но в отношении к густоте соломы. Соломою во многих местах урожай был редок. Поля были засеяны все озимым хлебом и своими семенами. Рожь зацвела 28 июня, наливалась с 8 по 29 июля. Жатва началась, по случаю дурной погоды, поздно, с первых чисел августа, и продолжалась до 8 числа. Урожай зерном был сам-9. В колосе низшего достоинства насчитывалось от 25 до 45, среднего 45–60 и высшего 60–74 зерна. Солома низшего достоинства была вышиною 11/2 аршина, среднего – 2 и высшего 21/2 аршина. С 11 августа приступлено было к новому посеву. Засеяно всего 6 десятин, именно: у меня 31/2 дес., у мещанина Николая Тетюцкого 11/2 д. и у дьячка Алексея Силина с сыном 1 дес. На всех засеянных полях к 20 августа появился всход. К 5 же сентября земля покрылась зеленью. Сев производился сыромолотными семенами на десятину от 8 до 10 четвериков. Сколь ни ограничено в настоящее время здесь хлебопашество, но, предполагая в будущем большее его развитие, я почел за необходимое выстроить мельницу. Мысль о ней родилась у меня еще в 1856 году. Скоро на этот предмет явился ко мне и мастер, человек нисколько не знакомый. Поверив ему на слово, я подрядил его выстроить ветряную мельницу лучшего достоинства. Мастер тотчас приступил к работе и целых два года занимался ею. В это время я потратил на мельницу все свое годовое жалованье и, видя, что невозможно руками этого мастера довести дело до конца, отказал ему. Мельница же моя до сих пор стоит недостроенною. При ограниченности народонаселения здесь невозможно достать нового хорошего мастера. Потому губернское начальство, принимая в моем деле живое участие, обещается выслать ко мне своего мастера. В настоящее же время пока получаю чрез то же начальство печатные листы издаваемого в нынешнем году Казанским экономическим обществом «Руководства к устройству разного рода мельниц». Руководство это, как я надеюсь, много послужит мне в пользу. Краткие сведения об огородничестве, скотоводстве и сельских промыслах в Березовском крае По всему Березовскому уезду огородничество мало развито. Им занимаются только женщины и разводят картофель, морковь, свеклу, редьку, репу и мак, но он большею частью не вызревает. Некоторые занимаются еще посевом капусты и огурцов; то и другое родится иногда хорошо, но это зависит и от хорошего лета, и от ухода за овощами. В прошлом 1858 году я получил от С.-Петербургского вольного экономического общества чрез г. тобольского гражданского губернатора картофельные лучшей доброты семена при печатном наставлении «О посеве картофельных семян и об уходе за ними впоследствии», для того чтобы произвести опыты их посева как лично самому, так и чрез других желающих, которых я должен был при наставлении снабдить картофельными семенами по своему усмотрению, и о последующем донести. Вследствие того нынешним годом, предварительно приготовив рассадник и рамы, я произвел самый опыт. С 20 апреля рассадник был набит навозом; по случаю холода навоз не разгорался до 28 мая; далее было поступлено так, как указано в наставлении, причем наблюдение за температурой производилось по термометру Реомюра. 7 июня был посев. 16 того же месяца всход. 1 июля был открыт рассадник. 10, 11 и 12 ч. июля рассаживали рассаду на приготовленные гряды; причем картофелин увядших не оказалось. 22-го июля картофель огребали и с этого числа оставили гряды расти свободно. 9 сентября выкапывали картофель. Коров и лошадей по всему Березовскому округу, особенно же овец, содержат очень мало, именно: лучший хозяин имеет 3–7 коров, кроме молодяжнику; лошадей 1 –10; овец 2–3. Хорошая корова дает с новотела молока до 2 штофов. Лошади здесь почти у всех без употребления, кроме того, что зимою запасают на них дрова и вывозят сено. На низ же по реке Оби, начиная от Сургута до Тобольска и далее, по ярмаркам многие хозяева занимаются также во время зимы извозничеством и получают хороший заработок. Овец имеют здесь собственно для шерсти, а потому ими очень дорожат. Здешние крестьяне занимаются большею частью ловлею рыбы неводами и сетями; рыбу, добытую летом, сушат, складывают в тюки и продают или на месте, или же отвозят в заштатный город Сургут, отстоящий от села Юганского на 50 верст зимою и на 150 летним путем. В селе Юганском русских жителей, т. е. мещан и крестьян мужск. пола с малолетними, 27 душ. Приход же преимущественно состоит весь из инородцев-остяков, живущих по рекам – Большому и Малому Юганам. Быт этих инородцев в отношении промыслов достоин полного сострадания. Лет около 20-ти назад или даже меньше у них выгорели все леса (материки), где были вековые деревья черного леса, заставлявшие останавливаться ежегодно пробегных разного рода хороших зверей, как-то: соболя, лисицу, белку и проч. Ныне же тут вырос почти непроходимый березняк, который нисколько не привлекателен для упомянутого зверя. Вследствие того здешние остяки встречают большие затруднения и неудобства в добыче этих зверей. В случае же неулова, поступают в работы и на вырабатываемые деньги покупают у более счастливых зверей для взноса кабинетских ясаков. И все вообще речные остяки несут это тяжелое для них бремя. А сколько они переносят голода, отдаляясь далеко от своих улусов! Хорошо еще, если бывает довольно полевого оленя и лося. Тогда остяк сыт, обут и одет. Говорю «сыт», потому что он мало нуждается в хлебе, когда у него есть рыба и мясо. Что же касается до остяков, живущих по Оби, те несравненно счастливее речных. У них есть хорошие рыболовные пески, кои отдаются ими в арендное содержание тобольским, туринским, березовским и сургутским купцам-рыбопромышленникам за довольно значительную плату, которая доставляет им почти все годовое содержание и во всем обеспечивает их. Инородцы, живущие по реке Оби, имеют лошадей от 1 до 3, речные же только оленей, и то помалу – от 1 до 5. 1 Белявский Ф.И. Поездка к Ледовитому морю. М., 1833. С. 12. 2 Там же. С. 29. 3 Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север… СПб., 1904. С.9. Тверитин И.Я. Опыты разведения хлебов в Березовском крае // Записки Императорского Казанского экономического общества. Казань, 1859. № 12. С. 119–127. Елеонский Н.А. Сибирские инородцы Небольшой фрагмент из статьи священника Н.А. Елеонского позволяет почувствовать уважительный тон его рассказа, в частности, о вогулах, об их образе жизни. Говоря, что они – «кроткие, мирные, усердные христиане», автор делал вывод: «Таким образом, миссионерская деятельность между сибирскими вогулами представляется излишнею». […] Все сибирские вогулы окрещены еще в первой половине прошлого столетия, именно в период времени с 1714 по 1722 год, причем в местах, более доступных для них, были построены церкви. С тех пор православное христианство утвердилось между вогулами на всем занимаемом ими пространстве (вогулы сибирские живут в Туринском и Березовском округах Тобольской губернии). Теперь вогулы – кроткие, мирные, усердные христиане, конечно, настолько, насколько достает их разумения. Сибирского вогула трудно отличить ныне от русского крестьянина: дом, утварь, одежда – все русское. Еще язык держится, но по-русски все говорят; а если они мало сеют хлеба, то потому, что звероловство и рыболовство в местностях, ими занимаемых, представляет занятие более выгодное, нежели земледелие. Современные вогулы любят опрятность, одеваются чисто и одинаково с русскими крестьянами, вообще ведут образ жизни совершенно русский. Таким образом, миссионерская деятельность между сибирскими вогулами представляется излишнею. Правда, они хранят еще некоторые языческие представления и между ними замечается наклонность к шаманству, но все это в слабой степени, и, во всяком случае, их христианское воспитание не без успеха могут вести одни приходские пастыри. […]
Семья вогула в Кучи-пауле на р. Сосьве 1909–1910 Российский этнографический музей. 1705–82 Самоеды и остяки различаются между собою по языку, нравам и характеру, но они обитают в одних и тех же местностях, вместе занимаются одними и теми же промыслами, часто живут в одном поселке, по местам сливаются между собою до такой степени, что становится затруднительно определить, кто из них самоед, кто остяк. […] Елеонский Н.А. Сибирские инородцы. // Православный благовестник. 1893. № 14, июль. Кн. 2. С. 9. Дунин-Горкавич А.А. А.А. Дунин-Горкавич – превосходный знаток всех сторон жизни северной части Западной Сибири, выдающийся краевед, картограф, член Тобольского губернского музея, в 1903 г. избран пожизненным членом Русского географического общества, с 1925 г. член Комитета по делам народов Севера. В числе других своих работ он оставил очень ценный, обстоятельный, крайне добросовестный трехтомный труд, освещающий на основе его собственных наблюдений и изысканий практически все, что касается жизни Тобольского Севера. Он писал: «В течение 13-летней моей службы в этом крае лесничим (в Самаровском лесничестве. – Сост.) я имел возможность довольно близко ознакомиться со многими географо-топографическими и естественными условиями Тобольского Севера и наблюдать быт населения». И еще: «В 1898 году я получил от Министерства земледелия и государственных имуществ поручение обследовать не изведанные еще лесные пространства севера губернии. Ознакомление с местностью производилось путем объезда и осмотра как лично, так и через лесную стражу, а также при помощи собранных расспросных данных. В общем мною было сделано 26 1/2 тыс. верст, да 20 тыс. было пройдено лесными объездчиками». Автор делал вывод: «Благодаря этому поручению, я смог познакомиться с Севером еще ближе и значительно пополнить данные, собранные мною ранее. Результатом всех моих работ и является настоящая книга…» О серьезности сведений А.А. Дунина-Горкавича свидетельствуют такие факты, что его исследования и наблюдения делались на протяжении многих лет в разных районах края, делались чрезвычайно добросовестно. Скажем, в 1901 г. А.А. Дунин-Горкавич «вторично проехал в бассейн р. Северной Сосьвы и в верховье р. Пелыма. Здесь… удалось побывать во всех населенных пунктах, для чего пришлось пересечь эту территорию вдоль и поперек, сделав 1304 версты. Верховье р. Пелыма, как оказалось при обследовании, протекает по Березовскому уезду с лишком 150 верст, принимая в себя, кроме трех более значительных притоков: Атымьи, Лямьи и Позорьи, до 20 мелких речек, имеющих протяжение от 7 до 20 верст». Или: «Для определения глубины фарватера Конды во время поездки 1902 года… было произведено 2500 промеров на протяжении 705 верст»; «Для ознакомления с местностью в Сургутском уезде, кроме посещения летом на лодке впадающих в Обь речек и многих из ее проток, совершены были … и зимние поездки на оленях». А.А. Дунин-Горкавич оставил подробные естественнонаучные описания: «От Березова до юрт Люликарских местность боровая, песчаная, покрытая молодняком сосны 2–3 вершка толщиною. От юрт Люликарских до юрт Игрюмских левый берег (Сосьвы. – Сост.) ниже правого; местность болотистая, кочковатая, встречаются материковые острова, покрытые суховатым лесом кедра и ели. На этом пространстве в Сосьву текут с левой стороны, кроме значительных рек Вогулки и Нелыньи, еще шесть незначительных речек». А говоря о реке Конде, автор труда отмечает и ее судоходство, и сроки рекостава, и характер долины реки, и «качество почвы», и др. А.А. Дуниным-Горкавичем была проделана большая работа в области картографии, составлена «подробная топографическая» карта Тобольского Севера, на которой «заполнены пробелы, значащиеся на существующих в обращении картах». Это было особенно важно, поскольку по Тобольскому Северу имелся «скудный картографический материал». В книге А.А. Дунина-Горкавича сказано, как приблизительно в ряде случаев создавались карты Тобольского Севера. К примеру, когда в 1849 г. проводила картографические работы военно-топографическая партия поручика Воронина, часть «Югана, а также его 22 притоков нанесено на карту по расспросам местных жителей; для этого топографы чертили на песке р. Юган, и остяки показывали все впадающие в р. Юган притоки», да и вообще «работы чинов партии Воронина производились главным образом по Оби и нескольким крупным заселенным ее притокам, и то не на всем протяжении последних». «Существует… карта Тобольской губернии, – писал А.А. Дунин-Горкавич, – 50 верст в дюйме, изданная Ильиным, но на ней показана верно только одна Обь». Тобольский Север: Общий обзор страны, ее естественных богатств и промышленной деятельности населения Тобольский Север: Географическое и статистико-экономическое описание страны по отдельным географическим районам Тобольский Север: Этнографический очерк местных инородцев Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север: Общий обзор страны, ее естественных богатств и промышленной деятельности населения Часть 1. Краткий географический обзор Северная часть Тобольской губернии заключает два уезда: самый северный Березовский и прилегающий к его юго-восточной части Сургутский, а также Самаровскую волость… Волость эта, как и уезды Березовский и Сургутский, находится вне черты земледельческой культуры, т. е. севернее последней. Каждая из этих частей занимает следующее пространство: Березовский уезд – 606 999 квадратных верст, составляющих 50% территории всей губернии, Сургутский уезд – 221 343 кв. версты, составляющих 18% территории губернии, и Самаровская волость – 7488 кв. верст, составляющих 0,6% территории губернии, а все вместе 835 830 кв. верст, что составляет 68,6% территории всей губернии, или 8% территории всей Сибири, или 4% всей империи. По обширности пространства Тобольский Север может поспорить с любым европейским государством. Он в 11/2 раза более Франции, Германии и Австро-Венгрии каждой в отдельности, в 3 раза более Англии и в 31/3 раза более Италии. […] Тобольский Север можно разделить на две зоны: 1) зону полярного севера (севернее 64˚ с. ш.) и 2) зону высокоствольных лесов (к югу от 64˚ с. ш.). […] Зона полярного севера может быть подразделена на три области: а) область полярного моря, б) область полярной тундры и в) смешанная область тундр и лесов. а) Воды, омывающие самое северное пространство суши (Карское море, Ледовитый океан и часть Обской губы), составляют область полярного моря, где производится опасный и неверный промысел морского зверя (белый медведь, тюлень и морж). б) Затем южнее, приблизительно до полярного круга, простирается область полярных тундр, где находятся летние кочевья оленьих стад местных инородцев. Параллельно с оленеводством производится здесь в малых размерах и рыболовство. в) За этой областью следует смешанная область тундр и лесов, где находятся зимовья инородческих оленьих стад и передовые пункты русской оседлости… […] Колоссальная водная артерия описываемого края и вообще всей Западной Сибири – р. Обь… На всем протяжении от нарымской границы по Сургутскому уезду и до устья Иртыша, около 900 верст, берега р. Оби однообразные, пологие, и не замечается даже незначительных возвышенностей, между тем как в Березовском уезде, наоборот, правый берег Оби на всем ее протяжении возвышается сажен на 15–30. […] Климат в этом краю суровый… Месяцы июнь, июль и август составляют лето, средняя температура которого для Обдорска 11,2˚, для Березова 13,6˚ и Сургута 14,4˚. В течение лета температура возрастает весьма быстро, и, кроме того, солнце греет в продолжение некоторого времени с лишком 20 часов в сутки, а на крайнем севере в известное время года оно почти вовсе не заходит. Эти обстоятельства значительно влияют на успешность произрастания растительности, отчего период роста, цветения и созревания растений здесь сокращается. Все это говорит за возможность земледелия в крае. Действительно, в Сургутском уезде возможность эта доказана вполне: в селе Юганском, лежащем под 60˚49’ с. ш. и 43˚21’ в. д. в 50-х годах земледелие развилось до таких размеров, что потребовалась постройка мельницы. Возникновение первой попытки культивирования хлебных растений в селе Юганском относится к 1854 году. В этом году местный священник Тверитин посеял у себя в огороде несколько зерен ячменя. Эта первая попытка оправдала его предположение и побудила к дальнейшим опытам. В 1855 году о. Тверитин расчистил 1/2 десятины из-под леса и 15 мая посеял 6 пудов ячменя; около 15 августа ячмень созрел и был снят, урожай дал 120 пудов. Наиболее полный колос заключал в себе 60–65 зерен, средний 50, скудный 25–30. Несколько овсяных семян, примешанных к ячменным, также созрели; лучший колос дал 46 кисточек, заключавших по два зерна; средний – до 35 и скудный – до 21 кисточки. В последующие годы о. Тверитин увеличивал площадь посева, так что в 1857 году у него было под пашней более 3-х десятин. Озимые всходы 1856 года были довольно хороши. В 1857 году хлеб взошел очень густо, к 5 июля начал цвести, к 25 налился, а к 15 августа совершенно созрел, 20 августа было приступлено к жатве. Лучшие колосья дали 70–80, а самые тощие – 26–40 зерен. В этом году о. Тверитин выстроил мельницу, затратив на нее 500 руб. В 1858 году урожай был еще лучше; хлеб созрел к 10 августа. […] В 1862 году, благодаря раннему наступлению ненастной и холодной погоды, был полный неурожай как озимого, так и ярового хлеба. Яровой хлеб скошен на корню, а озимый завалило снегом. Несмотря на неурожай, о. Тверитин вновь посеял озимую рожь, но навсегда решил оставить посев яровой. Лето 1863 г., в противоположность предыдущему, стояло жаркое. Благодаря своевременным дождям, урожай хлебов был обильный. Рожь колосилась с 14 июня, цвела с 24-го, а наливалась с 7 июля, жатва началась 12 августа, а кончилась 25-го. На следующий 1864 год засеяно озимым хлебом 5 десят. Всходы оказались хорошими. Урожай 1864 г. явился небывалым с 1855 г. С 19 июня рожь начала колоситься, 5 июля цвести, а с 10-го наливаться, с 20 июля ее жали. Всходы к началу сентября оказались хорошими. Хороший урожай был и в 1865 г., благодаря своевременному посеву. За 1866–67 годы сведений нет. В 1868 г. жары начались с мая и продолжались до 10 августа; за этот промежуток времени было всего 4 дождя. Урожай полнотой и качеством зерна превосходил все предыдущие годы. Рожь начала колоситься со 2-го июня, цвести с 11-го, наливаться с 23-го, урожай зерном сам-101/2. Пшеница колосилась с 6 июня, цвела с 16-го, наливалась с 28-го; урожай оказался хорошим. Посев озимого хлеба в этом году производился с15 июля; всего засеяно рожью 5 десят., пшеницей 2 десят. Посев был произведен на высохшей земле, и всходов не было до 20-го августа, причем, вследствие наступивших холодов, они оказались очень редкими. Приведенный материал почерпнут их «Тобольских губернских ведомостей». Далее сведения, к сожалению, прекращаются. Опыты священника Тверитина показали, что ранний посев озимой ржи по местности является более удобным и выгодным, так как засеянные семена имеют более времени укорениться в земле и противостоять зимним холодам. Селияровский священник В. Успенский в своей заметке, помещенной в № 47 «Тобольских губернских ведомостей» за 1860 г., признает возможным в селе Юганском посев как озимых, так и яровых хлебов; неуспех, по его мнению, зависит от того, что хлебопашество ведется неопытною рукою и земля обрабатывается плохими орудиями, между тем как он, уроженец Калужской губернии, нашел рожь едва ли не лучше той, какая родится в средних губерниях России. Земледелие возможно и севернее. В окрестностях Сургута, лежащих под 61˚17’ с. ш. и 43˚5’ в. д. на 225 футов выше уровня моря, есаул Невзоров 1 июня 1853 г. посеял 2 пудовки ячменя и столько же овса; 12 августа он снял первого 14, а последнего 12 пудовок. Лен и конопля, посеянные в небольшом количестве, дали всходы хорошие и успели созреть. В 1854 г. Невзоров посеял озимого хлеба только один пуд и в следующем году снял 8 пудов. В 1855 г. он засеял 4 пуда ячменя, а собрал 30 пудов. Кроме того, он сеял гречиху и горох, но они, несмотря на хорошие всходы, не вызрели. Таким образом, опыт показал, что в Сургутском крае с успехом можно возделывать главным образом озимые хлеба – рожь и пшеницу, а из яровых – рожь, ячмень, овес, лен и коноплю. В бытность мою в 1899 г. в деревне Супре Туринского уезда, лежащей под 60˚48′ с. ш. и 34˚20′ в. д., я нашел в ней 8 домохозяев-вогулов, из которых 5 сеют озимую рожь. Г. Альквист во время своего посещения Пелымского края в 1858 году нашел там несколько вогулов, занимающихся хлебопашеством. В вогульской деревне Масау, находящейся под 61˚ с. ш., он встретил одного вогула, который год от году расширял площадь посева и собирал запасы хлеба на всю свою большую семью; в хорошие годы он имел даже возможность продавать его. Зырянин Бабиков, проживающий в поселке Саран-Пауль Березовского уезда (64˚13’ с. ш. и 30˚30’ в. д.), арендует у меня в числе сенокосных полян участок для хлебопашества, на котором он сеет яровые хлеба. Результаты посевов удовлетворительны, урожай до сам-10. […] Что же касается огородничества, то оно распространено в этом крае до самых крайних населенных пунктов. Все необходимые огородные овощи, как-то: картофель, репа, морковь, редька, огурцы, капуста, свекла и лук – произрастают в Сургутском уезде, но успешно идут только первые пять видов. […] Часть 3. Этнографический состав и быт населения Глава I. Общее описание Население Тобольского Севера на пространстве 835 830 кв. верст достигает до 35 000 обоего пола: в Березовском уезде 22 194 человека, в Сургутском 8372 челов. и в Самаровской волости – 4087 челов. (количество населения Березовского и Сургутского уездов показано по данным к 1-му января 1900 г., а Самаровской волости – по сведениям всеобщей переписи 1897 г.). В настоящее время этнографический состав населения следующий: русские, зыряне, остяки, вогулы и самоеды. Из них по численности первое место занимают остяки, затем следуют русские, самоеды, вогулы и зыряне. Русские расселены на всем протяжении Оби и Иртыша как большими селениями, так и отдельными домами, а вне пределов Оби только по судоходным ее притокам: Сосьве, Ваху и Югану. Зыряне проживают оседло в г. Березове, в селах: Щекурьинском, Мужах и Обдорске, а по р. Ляпину они создали колонию Саран-пауль. Остяки вместе с вогулами населяют зону высокоствольных лесов, причем последние из них занимают исключительно бассейн р. Северной Сосьвы, т. е. приуральскую часть Березовского края. Самоеды населяют зону полярного севера. Племя это составляют исключительно оленеводы-кочевники. Все инородцы здешнего края управляются органами, именуемыми инородными управами, соответствующими русским волостным правлениям. В Сургутском уезде каждая управа состоит из инородческого старшины, двух кандидатов и писаря и в свою очередь делится на волости, или роды, соответствующие русским сельским обществам и заведываемые родовыми старостами при двух кандидатах, на обязанности которых лежит получение из казенных магазинов огнестрельных припасов, раздача их общественникам и взыскание с них ясака. Хотя деление на роды возникло исстари под влиянием родственных отношений и происхождения от одного родоначальника, но в настоящее время связь родовичей основана главным образом на общинном пользовании угодьями Земли, находящиеся в пользовании каждого отдельного рода, составляют известную территориальную единицу, большею частью бассейн какой-либо реки. Границы этих территорий хорошо известны смежным соседним родам и при пользовании угодьями соблюдаются строго каждым родом, поэтому вторжения на чужую территорию без должного разрешения караются довольно строго, по обычному праву. Вот пример наказания за самовольное вторжение в чужую «дачу», записанного в постановлении Котского инородческого старшины 19 декабря 1899 года: «Котский инородческий старшина Алачев, разобрав жалобу вотчинников-инородцев Нагакарских юрт, нашел, что Гордей Аренхов самовольно вторгнулся на их «дачи» для звериного промысла, пройдя «дачи» и инородцев юрт Алешинских и Низямских, в чем Аренхов сознался, и что доверенные от инородцев Нагакарских юрт, Василий Охранов и Иван Хатылов, потребовали с Аренхова за самовольное вторжение на их вотчину 70 рублей правильно; предложил тяжущимся покончить дело миром. И так как доверенные согласились получить с Аренхова за нарушенное им право только 55 р., постановил взыскать с Аренхова 55 р., обязав его впредь никогда на чужие вотчины не вторгаться».
Вогульские старшины Старшины и старосты избираются сходом и утверждаются в должностях: первый – губернским начальством, последние – исправником. Возникающие между инородцами маловажные дела и иски в качестве первой инстанции решаются у остяков родовыми управлениями, а у самоедов родовым старостой единолично. Второй инстанцией для остяков является управа и третьей – полицейское управление. Самоедам же в случае неудовольствия разбирательством старосты предоставляется право (ст. 280 Положения об инородцах) вчинять иск общеустановленным порядком. На практике суд в вышеуказанной форме почти не существует, так как староста и его кандидаты, за дальностью расстояния, не могут собираться одновременно для составления коллегиального суда, а к единоличному разбирательству старосты инородцы обращаться избегают. Таким образом, возникающие претензии часто разбираются сходом во время съезда остяков для «положения» ясака. Съезды эти обыкновенно бывают два раза в год: в мае и декабре. Кроме того, секретно практикуется клятва над головой или лапой медведя. Почти каждый остяк убежден, что такая клятва, произнесенная ложно, не остается безнаказанной. Поэтому сознающий себя виновным на клятву не соглашается и признается в вине; произнесший же клятву считается оправданным. […] Остяки Сургутского уезда разделены на 5 управ и 21 род. […] Все инородческое население несет те же повинности, что и русские крестьяне, за исключением воинской и дорожной; введение последней за отсутствием грунтовых дорог не представляется необходимым. […] Инородческое население уезда пользуется землями на общинном родовом начале. За отсутствием в крае хлебопашества оно продовольствуется хлебом, приобретаемым у местных торговцев. Для регулирования цен на хлеб в частной продаже существует 9 казенных хлебозапасных магазинов, из которых отпускаются инородцам мука и соль не только за деньги, но и в ссуду. Из этих же магазинов отпускаются им порох, дробь и свинец. Русское население Сургутского уезда состоит из городского и сельского. Городское население составляют главным образом потомки казаков, завоевателей этого края. Казачья команда существовала в г. Сургуте до 1881 г. По ее упразднении казаки переименованы в мещан, а в городе введено упрощенное городовое управление, во главе которого стоит городской староста. Русские крестьяне, населяющие уезд, в административном отношении составляют одно сельское общество, подчиненное Тундринскому волостному правлению, управляемому по прилож. к ст. 70 сибирск. Учрежд. Жители этой волости – потомки ссыльных или добровольно в давнее время переселившихся в уезд лиц –проживают главным образом в трех населенных пунктах, расположенных при р. Оби на инородческой территории Тундринской управы. Никаких земельных наделов население не имеет и пользуется угодьями на праве захвата у инородцев, совершенного в прежнее время, или же арендуют таковые у них. Кроме того, крестьяне этой волости рассеяны по всей Оби как единичными домами среди инородцев, так и самостоятельно, отдельными поселками. […] Все население указываемой волости занимается теми же промыслами, что и остяки, да, кроме того, извозом. Инородные управы и Тундринское волостное правление находятся в непосредственном ведении полиции. В то же время на уездных исправниках – сургутском и березовском – лежат обязанности крестьянских начальников, так как управление и опека над населением этих уездов вверена исправнику. […] 25 февраля 1804 г. состоялось высочайшее повеление, по коему пространство, составлявшее тогда Тобольскую губернию, разделено на две части; из них первая в составе 9 уездов выделена собственно в Тобольскую губернию, а вторая из восьми уездов – в Томскую… Сургут с его уездами приписан к Березовскому уезду под общим управлением первоначально частного окружного управления, состоявшего из березовского городничего, исправника и стряпчего, а затем Березовского военно-окружного управления и наконец единолично исправника. Заведывание заштатным городом Сургутом с территорией бывшего уезда передано частным комиссарам, впоследствии переименованным в участковые заседатели… Таким образом, Сургут оставался заштатным с 1804 до 1866 г., когда город и уезд были восстановлены и в то же время для заведывания уездом учреждено окружное полицейское управление в составе исправника, его помощника и секретаря. Глава II. Остяки Остяки большей частью роста ниже среднего; они отличаются малой величиной ног, худощавы, вялы, неповоротливы и старообразны; глаза имеют узкие, лицо круглое, плоское, нос широкий, волосы преимущественно черные, заплетенные в большинстве случаев в косы, а иногда просто висящие космами по плечам; бороды нет, а если у кого и начнет пробиваться на подбородке волос, то таковой тотчас же выщипывается. Женщины по наружному виду ничем не отличаются от мужчин; черты лица их грубы, и они обыкновенно неопрятнее мужчин.[…] Жилища остяков очень разнообразны. Они живут в юртах, землянках, в бревенчатых юртах, в избах русского типа и даже в довольно благоустроенных домах. Хотя юридически остяки признаются кочевым племенем, но по сравнению с самоедами их можно считать оседлыми. Степень их оседлости характеризуется способом их расселения в зависимости от местных условий. Одни из них расселяются по Оби, ее притокам в юртах, сгруппированных в небольшие поселки, имеющие раз установившееся определенное название. Это остяки большею частью лошадные, которых здесь считают оседлыми. Другие же расселены по обским притокам в юртах, разбросанных по одной – по две на громадном протяжении этих рек и их притоков. Такие населенные пункты не всегда имеют определенное, установившееся название, а известны по фамилиям проживающих в них остяков, причем наблюдается, что пункты эти неустойчивы и нередко меняются их хозяевами в зависимости от удобства промысла и времени года. Из вышесказанного видно, что не все остяки живут одинаково. Разница эта находится в зависимости от природных условий той или иной местности, которые в свою очередь влияют на экономическое состояние населения. Особенно резко выражается она при сравнении средств передвижения. Последнее обстоятельство, как известно, имеет настолько важное значение в жизни инородца, что им определяется в значительной степени характер всей его жизни. Поэтому мы возьмем разницу в средствах передвижения за принцип, на основании которого и разделим остяков на следующие две группы: конных и оленных. Для первых средством передвижения служит лошадь, для вторых – олень. Остяки первой группы обитают по берегам Оби на всем ее протяжении, от границы Томской губернии до г. Березова, и по ее притокам: в Сургутском крае – по Балыку и Салыму, в низовьях рек Ваха и Югана и в низовье р. Назыма Тобольского уезда, а в Березовском крае – по рр. Кавинской, Васпухолу и Ендыру, а также в низовьях Северной Сосьвы. Остяки же второй группы обитают по остальным обским притокам и по Оби ниже Березова. Внешний быт людей указанных групп, живущих в разных условиях, различен. С одной стороны, дикий кочевник, оленный остяк, редко приходящий в соприкосновение с русскими и их культурой. С другой стороны, оседлый лошадный остяк, поселения которого находятся не очень далеко от поселений русских, а в некоторых местах и соприкасаются с последними, что дает ему возможность входить в довольно частые сношения с русскими и перенимать от них все, что он найдет необходимым. Стоит только взглянуть на одежду того и другого, чтобы немедленно отличить одетого в одежды из шкур оленного остяка от лошадного, наряженного в одежду из фабричного материала своеобразного покроя, а иногда и в одежду чисто русского типа, с его неизбежнвми «спинжаками», «брюками на улицу» и даже «калошами». Различная степень удаленности остяков от русских поселений является вторым фактором, обусловливающим разницу в их быте. […] Для лошадных остяков, обитающих по берегам Оби на протяжении 1350 верст, основным источником существования служит рыболовный промысел. Остяки этой группы, проживающие по притокам, имеют свои рыболовные угодья все-таки на р. Оби и ее рукавах. Звероловство же для них является вспомогательным промыслом. Есть еще источник средств для существования: это заготовка дров для пароходов. Ею занимаются приобские остяки и русские главным образом в Сургутском крае и в Самаровской волости (русские), в Березовском же крае дрова готовятся в незначительном количестве. У салымских и балыкских остяков развито звероловство почти в одинаковой степени с рыболовством; немаловажную роль играет также и кедровый промысел. Хотя для второй группы остяков средством передвижения служит один олень, но условия их жизни настолько различны, что она смело могут быть в свою очередь подразделены на следующие четыре подгруппы. 1) Остяки, обитающие ниже Березова, – рыболовы, оленеводы. Оленеводство с избытком обеспечивает им средства передвижения, пищу, одежду и кров. 2) Остяки, обитающие в бассейне рек: Пима, Тром-Югана, Агана, Назыма и Казыма, а также вогулы – звероловы, рыболовы, оленеводы. Оленеводство лишь в обрез обеспечивает им средства передвижения, пищу и одежду. Как те, так и другие одеваются в оленьи шкуры. 3) Остяки, обитающие в бассейне р. Ваха. Страна их обделена природою. Единственный объект их деятельности – белка. Народ бедный. Их оленеводство даже не обеспечивает средств передвижения. Одеваются они хотя и в оленьи шкуры, но покупные, поэтому одежда их шьется с расчетом на экономию. 4) Остяки, обитающие в бассейне р. Югана, хотя имеют оленей менее, чем ваховские, но они сравнительно с ваховскими народ богатый. Они, кроме белки, промышляют соболя, оленя и лося. Одежда их приближается к типу одежды лошадных остяков, хотя встречается и меховая. Кроме того, к особой группе должно отнести остяков-пешеходов, звероловов, живущих по р. Малой Сосьве и не имеющих ни лошадей, ни оленей. Там сообщение производится на лыжах. Хотя обыкновенно запрягаются в нарту несколько собак, но тем не менее остяк, двигаясь на лыжах со специальным посохом в руках, тянет лямку нарт и таким образом в равной степени с собаками участвует в работе по передвижению. Нужно заметить, что собачьи нарты малососьвинских остяков отличаются от обыкновенных по величине и устройству. Они гораздо длиннее, и полозья у них значительно шире, так что на них без особой обременительности можно перевозить довольно значительный груз. По наружности малососьвинские остяки – люди среднего роста, крепкого телосложения, с густыми волосами на голове, заплетенными у некоторых в косы. Это едва ли не самая красивая группа остяков. Живут они в сравнительно чистых бревенчатых избах с чувалами, без сеней. Одежду их зимою составляют шубы из шкурок черной утки. Поверх шубы надевается «шабур», мужчинами холщовый, а женщинами ситцевый. Малососьвинские остяки слывут за лучших звероловов, рыболовство же развито у них очень мало. […] Остяки не говорят одним языком повсеместно. Чуть ли не на каждом отдельном притоке язык особого оттенка, но в общем остяцкий язык можно разделить на три главных наречия: иртышское, сургутское и березовское, или нижнеобское. […] Хотя остяки официально признаны православными христианами, в действительности же они только числятся таковыми. Невозможность частого посещения церкви вследствие отдаленности и незнание богослужебного языка служат главными причинами слабого их сближения с православной религией; почти все они бывают в церкви однажды в год во время говения. Большинство из них даже и сейчас – убежденные идолопоклонники. Христианство, не проникнув глубоко в сознание остяков, смешалось с языческими воззрениями, в результате чего явились новые религиозные взгляды, представляющие из себя смесь христианства и язычества с преобладанием последнего. Вот некоторые из религиозных воззрений остяков, перемешанных с суевериями и несложных, как и самая жизнь их. Медведь – сын божий, свергнутый с неба за гордость. Упал он на землю между двух лесин (деревьев) нагой и в таком положении лежал долгое время, так что оброс шерстью. В одно время бог ему сказал: «Будет тебе лежать, ходи хотя медведем». Медведь при встрече с человеком становится на задние лапы, это значит, что он спрашивает у бога, велит ли он ему задрать человека. Медведь, как сын божий, все знает, а поэтому остяки в разных житейских случаях, где, по их обычаям, необходимы клятвы, произносят таковые на голове и лапе медведя. Ложно поклявшийся, неправый человек всегда попадается медведю. Но, несмотря на все это, бог велел человеку бить медведя. Медведь, задравший человека, предается сожжению вместе со шкурой. Определяется же его вина вскрытием желудка: если в нем найден клубок волос или что-либо похожее на это, значит медведь опоганился – съел человека. Для умилостивления враждебных сил остяк приносит жертвы. Привожу примеры жертвоприношения, о которых мне удалось узнать. В 1896 году ваховская остячка видела сон, что будет на народ болезнь, для предотвращения которой нужно бросить курить табак, сделать «приклады» (приношения) вещами и принести в жертву лошадей. С Ваха приезжал на Обь нарочный сообщить об этом. Было решено, начиная от юрт Вартовских до Покурских (на протяжении около 100 верст), в разных пунктах принести в жертву семь лошадей; решение это было исполнено, и, кроме того, были пожертвованы «приклады». Так, в конце июня того же года положены были «приклады» близ юрт Нижне-Вартовских стоимостью около 70 рублей и в Покурском «егане» стоимостью рублей на 40–50. Клали эти приношения урьевские, ивашкинские, комаровские и покурские остяки. По словам местного лесного объездчика, случайно нашедшего в первых числах июля 1896 г. место приклада близ юрт Нижне-Вартовских, оказалось, что на полуденной стороне от Вартовских юрт, т. е. на острове между протокой Чахлонеей и Обью, верстах в 4-х от юрт, на сору подле черемуховой гривы, на вершине березы, установлен был череп оленя, а по сучьям березы развешен приклад примерно рублей на 70. Тут были шелковые и простые шали, шерстяные материи, платки, ситцы и миткаль. У урьевских остяков имеется в лесу даже общественный лабаз для склада и хранения прикладов. Лабаз богатый, в нем, кроме урьевских, есть еще приклады аганских и тром-юганских остяков. Понятия о загробной жизни у остяков, как и у всех малокультурных народов, очень смутны. Из обрядов, сопровождающих погребение покойника, можно видеть, что, по их мнению, существование человека со смертью не прекращается, что он будет жить и за гробом и нуждается в тех же предметах, которые были необходимы для него при жизни на земле, почему остяки и кладут в могилу многие из этих предметов. Что касается суеверий, то все мировоззрение остяка проникнуто ими. Детский ум его не может понять надлежащим образом окружающих его явлений. Все попытки его в этом направлении ведут к увеличению количества суеверий. Отсюда широко распространенная вера в чудодейственную силу шаманов, которых остяки приглашают к больным. Шаман предварительно ест «нангу» – сушеный мухомор, пьянеет от него и затем ворожит, т. е., собственно, кричит и играет на бубне. Мне удалось еще узнать о следующем образчике суеверий. При прощании с покойником, чтобы он не очутился на том свете за каменной стеной и можно было бы с ним увидеться, родные и знакомые точат на брусе нож, причем брус из рук в руки не передают, а кладут его на отдельное место, для того чтобы каждый подходил и брал его сам. Брус и в обыденной жизни остяки не передают один другому из рук в руки, разве только в каких-нибудь спешных случаях, и то не с ладони, а с противоположной, тыльной стороны руки. Обряды остяков можно разделить на следующие три группы: а) обряды, сопровождающие жертвоприношение, б) обряды при погребении и в) обряды, совершаемые пред отправкой на промысел. Как на пример обрядов первого рода укажу на следующий факт. 8 ноября 1898 г. на Покуре остяки совершали жертвоприношение. Предназначенную для этой цели лошадь из пригона подвели к юрте, около которой столпились остяки. Каждый из присутствующих подходил к лошади и гладил ее в знак прощания. Затем увели ее в лес и привязали к дереву, завязав ей глаза. Остяк Данило Бисеркин, нащупав у лошади сердце, заколол ее длинным копьем, при чем лошадь завизжала, скакнула и свалилась. После того все остяки что-то закричали. Под струившуюся кровь подставили «куженьку», затем заткнули рану. С лошади сняли шкуру, которую пожертвовали в приклад, а мясо сварили в котле у разведенного тут же костра и съели. Покойников обыкновенно хоронят в гробах, которые делают из досок длиною до 3-х арш., шириною от 1-го до 2-х арш., высотою 3/4 арш. и выше. Покойника одевают не только в нижнюю, но даже в верхнюю одежду и кладут ему в гроб в запас одежду и пищу – калачей и хлеба, кроме того, некоторые орудия и другие необходимые предметы: топор, ножик, котел, чайник, лыжи, ружье, лук. Все вещи кладутся хорошего качества в том убеждении, что на том свете предстоит дальний путь, где нет ни дорог, ни земских подвод, ни купцов. За пазуху покойного кладут обстриженные при жизни его ногти, для того чтобы ему легче было на том свете подниматься на гору, а то без ногтей он может скатиться. Об обрядах при погребении можно составить понятие и по следующим, собранным мною фактам. На Покуре весною 1898 года (должно быть, в марте месяце) хоронили остяка Семена Ларомкина. Гроб сделали шириною в 1 арш. и вышиною 3/4 арш.; положили туда топор, нож, ноговицы, ружье, котел, чайник, пять фунтов калачей да в рот дали еще калач. Запасной одежды Семен еще при жизни заказывал не класть. В феврале 1896 г. там же на Покуре хоронили остячку Пантелееву. Гроб сделали шириною в 6 четвертей и вышиною 1 арш., положили с покойницей 2 зипуна, 5 шалей, котел, топор, дратвы для починки, ноговицы и лыжи. Весною, в мае, 1898 года в юртах Урьевских хоронили остячку Марью Ганджеву. Гроб сделали, вероятно, очень больших размеров, так как в него положили всю ее одежду, какая только у ней была, а остячка была богатая. […] Из обрядов последней группы можно указать на обряд, совершаемый пред отправкой на рыбный промысел. Во время ледохода пред сборами на рыбный промысел остяки приносят жертву водяному богу. Бьют теленка или овцу, сдирают кожу и набивают сеном, а затем спускают под лед, приговаривая: возьми, Инк-Ики, да пошли нам рыбы, и тотчас же черпают в ведро воды, несут ее в юрту и гадают о предстоящем промысле. Если в ведре вода крутится, то они рассчитывают на хорошую добычу рыбы, а если вода спокойна, то полагают, что будет плохой улов. Мне удалось узнать также о следующем характерном обряде, совершаемом пред отправкой на звериный промысел. По р. Пиму, в юртах Акапкиных, проживает старик ворожей Александр Агапыч Кантеров. В эти юрты ежегодно пред уходом на первый по рекоставу звериный промысел собираются окрестные остяки и совершают моление об удачном промысле. По сообщению Т.А. Замятина, вот как происходило в 1898 г. означенное моление. Все собравшиеся на него остяки отправились из юрты сажен за 50 к небольшому увальчику, на котором стояла сосна аршин 6-ти. У подножия сосны поставили бутылку с водкой и рюмку и стали кланяться сосне. Затем вылили на ее корни сразу три рюмки водки и опять стали кланяться. После этого один из остяков влез на сосну и срезал у ней ножом вершину длиною с аршин, очистил ее от лишних сучьев, так что образовалось нечто наподобие креста. Затем остяки вернулись в юрты, а одного послали за оленем. В юртах заставили остячку сшить рубаху, которую надели на сосновую вершину совсем с рукавами и подпоясали, самую же вершинку повязали платком и в таком виде поставили на нары, поклонились три раза и затем это чучело поместили в чувал, плеснули на него три рюмки водки и развели огонь. Когда все сгорело, остяки вышли на улицу колоть оленя. Сначала к морде оленя поднесли бутылку вина и рюмку; обступив его кругом, три раза поклонились ему. В заключение два человека с обеих сторон вонзили оленю в сердце ножи и все присутствующие остяки вытекающею кровью мазали себе лица; потом отправились в юрту, где устроили пиршество, пили водку и ели сваренное мясо заколотого оленя. Смысл и значение этого моления таковы: вершинка сосны, одетая в рубаху и сожженная, – это ангел, посылаемый на небо, чтобы попросить у бога успеха в промысле. Моление это по-остяцки называется «пари». Иногда вместо оленя колют овцу, теленка или жеребенка. Кроме того, каждый из отправляющихся на звериный промысел вешает на дерево белый коленкор или миткаль, смотря по средствам, от 2-х до 10 арш., приговаривая: возьми, Вонт-Ики (лесной бог). Если кто не сделал приклада, то считает себя грешным пред богом и даже боится ходить в лес-урман, отчего происходит упущение в промысле. Глава III. Вогулы […] Вогулы, о которых я хочу говорить, живут в бассейне р. Сосьвы, составляя две волости: Сосьвинскую и Ляпинскую. Количество их приблизительно можно определить в 2400 душ обоего пола.
Шкура медведя, по одну сторону которой стоит вогул в костюме и маске, в которых пляшут на празднестве в честь медведя; по другую сторону сидит вогул, играющий на музыкальном инструменте «сангыльтып». Шоминские юрты на р. Сосьве 1909–1910 Российский этнографический музей. 1705–105 Они роста среднего, волосы имеют черные, заплетенные, как и у остяков, в косы; цвет лица темный, глаза узкие, скулы значительно выдавшиеся, растительность на лице слабая, руки длинные, ноги слегка кривые. По сравнению с остяками вогулы выглядят более здоровыми и крепкими, потому что они ростом выше остяков и нет у них той вялости, которая присуща последним. Они довольно выносливы, хотя и не отличаются особенной силой. Несмотря на свою неуклюжесть, вогул проявляет замечательную ловкость и отвагу, когда он гонится за зверем на лыжах или скользит на своей маленькой лодочке по белеющим гребням речных волн. Хотя у вогулов такие помещения, как бревенчатые избы и дома русского типа, какие встречаются у некоторых остяков, – редкость и живут они преимущественно в юртах, однако вогульские юрты значительно лучше остяцких: они чище и просторнее, потому что строятся с сенями Вогульская юрта представляет из себя бревенчатую избу, проконопаченную мхом и покрытую тесом. В ней имеется пол, потолок и окна со стеклянными рамами. В одном из углов юрты находится чувал-камин, дым из которого выходит в сквозную трубу, составляющую одно целое с чувалом.
Вогульская юрта на р. Сосьве У вогулов, равно как и у остяков, имеются свои особые единицы времени и пространства. Так, длину они меряют на ручную сажень, а расстояние определяют по оленьему бегу, причем расстояние, которое олень может пробежать без отдыха, равное приблизительно 10-ти нашим верстам, принимается за единицу пространства. Поэтому, например, на вопрос, далеко ли до таких-то юрт, отвечают: три оленьи побежки или три оленьи мерки. Дальние расстояния определяются числом дней хода на лыжах, причем ход в осенний день считается не свыше 25 верст. Более короткое время определяется по варке котла, т. е. считается время, в продолжение которого может свариться в котле пища, 1–2 часа.
Летнее жилище вогулов 1909–1910 Российский этнографический музей. 1705–10 Главные промыслы вогулов – рыболовство и звероловство. В области рыболовства немаловажную роль играет так называемая сосьвинская сельдь… составляющая один из важнейших пищевых продуктов. Обыкновенно каждая семья насушивает на зиму не менее 5–6 пуд. ее… […] Звероловство начинается у сосьвинских вогулов с конца августа и продолжается до половины апреля, но ведется оно не сплошь, прерываясь рыболовством и пьянством, так что много благоприятного для звероловства времени упускается. Вогулы слывут за хороших звероловов, и не без основания: привычки зверей, населяющих их леса, изучены ими в совершенстве, так что вогул редко упускает зверя, которого он заметил. Ляпинские вогулы занимаются звероловством и птицеловством, главным образом ловлей лесной птицы. Добыча зверя незначительна. […] Промысел лося и оленя сторожевыми луками развит в широких размерах. У редкого вогула нет загородей, в которых он ставит от 50 до 300 луков. О размерах промысла можно судить по тому, что с Сосьвы и Ляпина ежегодно вывозится одних лосиных шкур до 1000 штук. […]
Настороженный лук Вогулы – оленеводы. Олени у них пасутся как летом, так и зимою на одних и тех же определенных местах. […] Глава IV. Самоеды Самоеды роста ниже среднего, но сложения крепкого; они широкоплечи, с большой головой, узким лбом и круглым лицом, цвет кожи у них изжелта-смуглый, скулы выдающиеся, как у монголов, глаза узкие, волосы черные и жесткие, руки и ноги короткие. По внешнему виду самоедин здоровее остяка и даже вогула. Самоеды – почти все идолопоклонники. Живут они в чумах. Самоедский чум – конусовидная палатка. Остов ее – тонкие деревянные шесты, поставленные комлевыми заостренными концами наклонно к земле на расстоянии до 3-х четвертей аршина друг от друга, тонкие же концы их скреплены в одном общем гнезде, где отверстие для выхода дыма. На шесты эти натягиваются сшитые оленьи шкуры. При перекочевке чум перевозится на особых нартах и складывается не более как в 2 часа. Делом этим обыкновенно занимаются женщины. В средине чума кладется железный лист, на котором устанавливается очаг. […] Глава VI. Соотношение русского и инородческого населения Там, где среди остяков разбросаны оазисами русские селения или сами остяки проживают близ границ сплошных русских поселений, весьма заметно влияние на остяцкую жизнь русской культуры. На других инородцах, как очень редко соприкасающихся с русскими, влияние это почти не сказывается… Влияние положительного характера выражается главным образом в том, что остяки перенимают у русских черты домашнего обихода… У… остяков Самаровской волости, проживающих по Оби и Иртышу… почти русский обиход. Многие говорят по-русски, а некоторых даже трудно отличить от русских. Между с. Самаровским и г. Березовом – две русские волости: Елизаровская и Кондинская; собственно, здесь 8 русских населенных пунктов, разбросанных оазисами среди остяков. Проживающие на этом протяжении по Оби остяки в некоторых населенных пунктах представляются обрусевшими: они одеваются в русскую одежду, всюду слышится русская речь и даже льются звуки гармоники. […]
Ханты идут от купца после сдачи пушнины нагруженные водкой Отрицательное влияние культуры русских на туземцев выражается в том, что последние переняли от первых привычку к пьянству, распространившемуся среди инородцев в ужасающих размерах… Все вообще здешние инородцы, как самоеды, так и остяки и вогулы, пьют водку, непьющих редко можно встретить. Пьянство у инородцев пороком не считается, а смерть в пьяном виде, по их понятиям, есть самая блаженная смерть. Но пусть факты говорят сами за себя. Во время моих многочисленных поездок по остяцким поселкам, мне часто приходилось наблюдать такую картину: все население юрт в течение нескольких дней поголовно пьянствовало. Остяк пользуется всяким поводом, чтобы напиться вина. Сборы на промысел, сопровождающиеся оригинальным обрядом, называемым «пари»-молением, убийство медведя, коммерческие сделки – все это служит ему указанным поводом. Пьянство сопровождается почти всегда ссорами и драками, но без судебных последствий. Остяки рассуждают так: мы были пьяны, ничего не помним, после этого какой же суд? […] Среди вогулов, обитающих по верхнему течению р. Сосьвы, выше устья р. Ляпина, также сильно развито пьянство. […] В Ляпин доставляется ежегодно до 100 ведер вина. […] По р. Сосьве, в 5 вер. ниже юрт Няксимвольских, есть выселок Няксимвольский, в котором проживал вогул Тихон Номин, почти открыто торговавший водкой; ему доставляли из Березова ведер по 10–20 водки; продавал он бутылку по 1 рублю. Осенью 1898 г. артель из 18 человек вогулов няксимвольских, хальпаульских и искарских в одну ночь добыли неводом около 100 пуд. нельмы. После такого удачного промысла пьянствовали 5 суток; взято было у Номина всего 5 вед. водки на 100 руб.; благоприятное для лова время, конечно, было упущено, и это не единственный случай. Вообще до Нового года производится подледный промысел рыбы вперемежку с пьянством, причем хорошее зверопромышленное время упускается. В проезд мой в марте 1901 г. сопровождавший меня помощник сосьвинского старшины успевал напиваться много раз, так что приходилось его укладывать в нарту. Те из людей, которые не были на промысле, а оставались дома, почти поголовно пьянствовали в юртах Няксимвольских и выше, так что пьяные встречались не только в юртах, но и на пути моего проезда. Вот что мне доносил лесной объездчик Кокоулин от 15-го января 1900 г.: «В юртах Ельби-пауль по случаю жертвоприношения и заклания лошади инородцы были до того пьяны, что я застал их в бесчувственном состоянии. Пришлось ждать на морозе 6 часов (это было 6 декабря 1899 г.), пока немного протрезвились и подали оленей для проезда в юрты Няксимвольские. На улице, позади юрт Ельби-пауль, распялена шкура белой лошади, причем ей придано бегущее положение; тут же остатки костра и большой котел, в котором варили конину. В юртах Нельталт (13 декабря) инородцы также были пьяны до невозможности». Пьянство – главный порок инородцев севера и вместе с леностью главное препятствие благосостоянию их. Не говоря о вреде его для инородцев с чисто физиологической стороны, укажу на то, что оно в корне подрывает их материальное положение. Очень многие сделки с инородцами совершаются при помощи вина, причем в результате оказывается, что инородец обманут. Зная склонность инородцев к вину, торговцы, а иногда и свой брат, торгаш-инородец, предварительно спаивают их и берут за водку разного рода шкуры и рыбу иногда менее чем за половинную цену. […] Существующий способ торговли вином дает торговцам возможность к злоупотреблениям разного рода и вообще весьма гибельно отзывается на инородческом быту. […] Полагают, что введение казенной винной монополии в полном объеме на Тобольском Севере невозможно, так как инородцы, за отсутствием будто бы денежных знаков, принуждены будут расплачиваться за вино сырым материалом, что, конечно, создало бы громадные затруднения. В действительности это не так. Денежные знаки здесь во всеобщем обращении. Я лично неоднократно имел случай наблюдать расчеты русских торговцев с самоедами – этими главными потребителями водки. Происходит это обыкновенно таким образом. Продала, например, артель самоедов рыбу пыжьяна по 2 р. 75 коп. за пуд, т. е. один пуд за 3 руб., а другой за 2 р. 50 к.(самоеды знают только целые монетные единицы и половины). Соответственно этому торговец раскладывает на столе деньги на две кучки: одна за 10 пуд., положим, по расценке 3 р. за пуд, другая за то же количество пудов по расценке 2 р. 50 к. за пуд и т. д. до конца расчета. Затем самоеды делят между собою вырученные деньги по паям и каждый получает причитающуюся ему часть на руки. После этого уже они закупают у торговца необходимые им товары. […] Кроме пьянства, русские со своим появлением на Тобольском Севере занесли сюда и некоторые болезни, незнакомые до тех пор инородцам. Сифилис, благодаря отсутствию медицинской помощи, развивается среди инородцев очень быстро. Для лечения инородцев от распространившегося между ними сифилиса в 1835 г. повелено было учредить на казенный счет больницы в г. Березове и Нарыме. Вообще вопросы народного здравия для Тобольского Севера являются одними из самых важных. Положение медицинской помощи здесь таково, что при всем желании она не в состоянии удовлетворить население. На весь край только 2 больницы: в Березове и Сургуте. Врачей всего трое: один в Сургутском уезде – уездный и два в Березовском (в Березове – уездный и в Обдорске – объездной). По штату положено в городах Березове и Сургуте по городовому врачу, но, вследствие ничтожного штатного вознаграждения, занять эти должности не находится желающих, и жалованье городовых врачей получают уездные. Хотя Тобольский Север и разделен на сельские врачебные участки, которых числится в Березовском уезде два и в Сургутском один, но лишь один обдорский участок имеет врача, в березовском же и сургутском участках обязанности сельских врачей отправляют уездные. На самаровский участок Тобольского уезда также полагается врач при находящейся в с. Самарове лечебнице, но в действительности этот пост почти всегда остается незанятым и обязанности самаровского сельского врача несет соседний врач. За исключением состоящих при врачах фельдшеров, последних вместе с лекарскими учениками находится в Сургутском уезде – 3, в Березовском – 5; повивальных бабок – по одной в каждом уезде; кроме того, в обоих уездах имеется еще несколько оспопрививателей. Средства, отпускаемые на врачебное дело, незначительны. В 1901 г. на Сургут было отпущено 6179 руб. 24 коп., а на Березов – 9814 р. 89 коп. (приводимые цифры показаны для названных городов вместе с уездами). Таким образом, в Сургутском уезде в год на каждого жителя приходится средним числом 74 коп., а в Березовском – всего лишь 44 коп. За врачебной помощью инородцы обращаются в последнее время охотно. Однако, за отсутствием ее, они лечатся большею частью у своих шаманов, лечение которых состоит, собственно, в ворожбе. Бывший березовский фельдшер Л. Кориков приводит следующие средства, употребляемые в народной вогульской медицине. 1) Дорогая трава, или корень сассапарели, – против сифилиса, ревматизма и других болезней, характеризующихся ломотою костей; с такою же целью употребляются вересковые ягоды (baccae Juniperi) и листья брусники (Vaccinium Vitis idaeae). 2) Состав (женское парное молоко, смешанное с черемуховой серой, вороновой желчью и порошком серебра) употребляется против кератита; при этом, чтобы достать вороновой желчи, ворона необходимо убить при полном месяце. Окуневый жир идет при других болезнях глаз. 3) Стружки медвежьего зуба, медвежье сало употребляются при резаных ранах. 4) Медвежья желчь – при колике (Gastralgia). 5) Детский понос лечится бобровою струею 6) Кашель – стручковым перцем с вином. 7) При переломах пьют молоко, сваренное с порошком меди. 8) Болезни кожи лечатся мазью из медвежьего сала с женским молоком… Кроме того, мне удалось узнать, что остяками Сургутского уезда стручковый перец и березовая «губа» (трут) в настое на водке или на воде употребляются как лекарство от внутренних болезней. Зимой во время промыслов инородцы употребляют нашатырь в качестве средства, отстраняющего аппетит и жажду. Благодаря нечистоплотной, грязной обстановке, в которой живут инородцы, отсутствию медицинской помощи и дезинфекционных средств, эпидемические болезни особенно быстро распространяются среди них и производят страшные опустошения. Хронологического перечня эпидемий составить невозможно по отсутствию данных; можно указать на эпидемические заболевания 60-х годов, 1883-го, 1885 гг. Десятилетие 1883–1893 гг. вообще было временем эпидемических и других заболеваний среди инородцев; в конце 80-х годов свирепствовал тиф. Из эпидемических и других заболеваний среди инородцев особенно распространены тиф, оспа, дифтерит, горячка, сифилис, чесотка, глазные болезни, иногда цинга. Наиболее страшны по тем опустошениям, какие они производят, тиф и оспа. Чахоткой, зубной болью, глистами инородцы почти вовсе не страдают. При тех условиях жизни, в которых находятся инородцы, эпидемические болезни производят среди них большие опустошения, чем среди русских. Это одна из причин угасания инородцев. Факта такого угасания инородцев отрицать нельзя, но оно происходит не в одинаковой степени и не повсеместно. Исследования А.И. Якобия исповедных росписей дали следующие результаты: за период времени 90 лет (1803–1893) в Березовском уезде остяцкое население убыло на 10 % и вогульское – на 24 %, а в Сургутском уезде остяцкое население прибыло на 46 %. […] При современных условиях быта инородцев хлеб для них – насущная потребность. Между тем запасов у частных торговцев в некоторых районах не бывает, а для того чтобы воспользоваться ссудой из казны по букве закона (ст. 212 и 213 Полож. об инородц.), нуждающийся инородец должен ехать иногда за сотню верст, чтобы заполучить требуемое законом ручательство родового старосты. Так как этот последний неграмотен, то свое поручительство он должен засвидетельствовать личной явкой в управу… Чтобы облегчить инородцу возможность продовольствия и в то же время соблюсти столь стеснительные требования закона, местной администрации приходится оформлять каждую выдачу хлеба задним числом. Сургутские и березовские остяки, проживающие по берегам Оби оседло, целыми деревнями, местами даже обрусевшие, по существующим законам (ст. 3 Полож. об инородц.) причисляются к кочевым только потому, что на время рыболовства перебираются из зимних юрт к реке, где даже не везде имеют постоянные жилища, а ютятся в берестяных шалашах. Если придерживаться указанного правила, то пришлось бы и русских рыболовов отнести к кочевому населению. Все приведенные в указанных 3-х томах (II, V и IX) законы, касающиеся инородцев, заполнены перепечатками один из другого. Это, в свою очередь, указывает, что законодатель с трудом ориентировался в приложении законов к совершенно незнакомому ему быту северных инородцев. Так как продовольствие хлебом для большинства населения Тобольского Севера всецело зависит от частных предпринимателей, то продовольственный вопрос здесь всегда грозит осложнениями, в особенности в годы стихийных бедствий, которые не только ничем не предотвратимы, но и едва ли даже могут быть своевременно предвидимы. Тогда как в местностях губернии, пострадавших от неурожая, в помощь населению предпринимаются меры, указанные специальным законом о правительственной помощи при неурожаях, жители северных уездов в годы голодовок обыкновенно предоставляются самим себе и лишаются помощи только потому, что живут вне черты земледельческой культуры, т. е., иначе сказать, указанный закон не может быть применен к ним в буквальном его смысле. Между тем подобные стихийные бедствия сильно подрывают благосостояние населения, так как в такие годы оно лишается большей части скота. В виду исключительных условий этого края: отдаленности его от рынков и губернского города, продолжительности распутиц, отсутствия телеграфа и неудовлетворенности путей сообщения – население может оставаться в совершенно беспомощном состоянии относительно продовольствия хлебом в течение долгого времени. Поэтому казалось бы необходимым всегда иметь запасы хлеба на севере и в нужных случаях организовать даже общественные работы, хотя бы в виде лесных заготовок. […] Часть IV. Значение различных промыслов Глава 1. Звериный промысел
Орудия звероловного промысла […] Просты и незатейливы сборы инородцев на звериный промысел. Легонькая собачья нарта нагружается необходимыми принадлежностями: котел, чайник, двух-трехнедельный запас ржаной муки, порсы (рыбной муки), рыбьего жира, сухой рыбы и чая. В нарту впрягается собака, которая и тащит ее, причем инородец, надев лямку, помогает и сам тащить нарту. Во время же самого промысла собака исполняет роль ищейки. Мясо убитой белки инородец ест сам и кормит им собаку. Нередко на охоту берется подросток-сын. При таких условиях промысел обыкновенно производится в 30–50 и более верстах от жилья. Оленные же остяки на промысел уезжают далеко, за несколько сот верст, и нередко с женой. […] Глава III. Оленеводство и разведение других домашних животных […] Олень, кроме мяса, дает еще шкуру. Привожу перечень материалов, какие из нее получаются. Пешка – шкурка маленького теленка, погибшего вслед за рождением от неблагоприятной погоды. Нарочно его никогда не бьют: это было бы убыточно. Идет преимущественно на треухи, шапки и одежду для детей. Цена за штуку от 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к. Неплюй – шкурка теленка, убитого после линяния, на 5-м месяце от теления (конец августа). Сортов неплюя много. Чем теленок моложе, тем шерсть на нем темнее, и такая шкурка ценится выше. Шкурка теленка, битого осенью, в сентябре и октябре, идет под видом большешерстного неплюя, называют такую шкурку и выростком. Идет преимущественно на дохи и парки, а также на ягушки, малицы и гуси. Цена за штуку от 2 р. 50 к. до 4 р. Постель – шкура взрослого, езженого оленя. Идет не только для постелей, но и для постилки на нартах, а также и для покрышки клади взамен рогожи при перевозке. Цена за штуку от 2 до 3 р. Постель осенняя – шкура взрослого оленя, битого после линяния (в сентябре и октябре). Шкуры этого рода, будучи короткошерстны сравнительно с обыкновенной постелью, идут на шитье одежды. Цена за штуку от 2 до 4 р. Кисы – шкура с оленьих ног. Идет на узорчатую вышивку, рукавицы и обувь. Цена за 2 пары ног от 35 к. до 60 к. Лоб. Идет на подошвы к обуви. Цена за штуку 10 коп. Жилы. Идут на выделку ниток, которыми шьют одежду и обувь. Затем привожу перечень тех предметов одежды, какие получаются из оленьих шкур. Летние одежды шьются из шкур без шерсти. Ягушка панны представляет из себя распашную верхнюю женскую самоедскую одежду. Верх – неплюй, подклад – выросток, воротник – песцовые хвосты, рукавицы – выростковые лапы, узорчатая вышивка – из неплюйчатых лап. Ягушка подпоясывается поясом – нигине. Капор (несово) – женский самоедский головной убор из головы неплюя, узорчатая вышивка – из неплюйчатых лап, опушка белая – из песцовых хвостов. Медные украшения – необходимая принадлежность каждого треуха. Указанные ниже три вида мужской одежды: малица, гусь и парка – в общем представляют по покрою длинную, глухую, без разреза рубаху с пришитым к ней треухом (чепцом) для головы. Эти три вида одежды носятся не только самоедами и оленными остяками, но отчасти и русскими. Малица (малиця) – мужская одежда из выростка мехом внутрь, треух-пешка, рукавицы из неплюйчатых лап, нижняя опушка (панда) из собаки. Подпоясывается обыкновенным ремнем и у пояса подбирается, укорачивается; составляет повседневную домашнюю одежду; от времени занашивается и засаливается наподобие русского полушубка. Будучи же покрыта соответствующего размера сорочкою, длиною лишь до панды, из цветной бумазеи, малица составляет одежду нарядную и тогда подпоясывается нарядным поясом. Гусь (кумыш-совок) – верхняя мужская одежда из выростка мехом наружу, опушка на треухе из песцовых хвостов. Суконные лоскутки на спине – необходимая принадлежность каждого гуся. Гусь надевается в холодную погоду поверх малицы. Парка – верхняя одежда преимущественно из неплюя, треух – преимущественно голова неплюя, узорчатые вышивки – из неплюйчатых лап и сукна. Взамен бумазейной сорочки надевается на малицу. Кисы – пимы, чижи – чулки. Кисы из лап выростка и старого оленя шерстью наружу. Чижи – из неплюя и выростка шерстью внутрь. Женские кисы несколько разнятся от мужских лишь узорчатой вышивкой. Пояс (ни) и нож (хар) – необходимая принадлежность каждого самоеда; пояс состоит из широкого кожаного ремня с большой медной пряжкой, обтянутого красным сукном. На нем посажено 103 медных пуговицы, 10 подвесок, 25 колечек и 4 цепочки. К поясу подвешен нож с ножнами и кошелек, вышитый бисером, для помещения трута и огнива. Ножи самоеды куют сами из старых подпилков, для ножен покупают тонкую медную жесть; ножны, черенки к ножам, а также кошельки делают сами. Что касается других домашних животных, то они играют сравнительно незначительную роль в жизни Тобольского Севера, особенно у инородцев. Коров русские держат повсеместно, а инородцы только лошадные, но не везде. Скот мелкий, молочность его посредственна. Овец держат лишь одни русские, и то в незначительном количестве. Порода местных лошадей хотя мелкая, но выносливая и вполне приспособленная к здешнему суровому климату. Зимою лошади помещаются в загородях без крыш под открытым небом. Летом лошади вовсе не работают. Еще с ранней весны, перед самым вскрытием рек, по льду их уводят в сора, где они остаются для пастьбы в течение весны и лета и до рекостава, кочуя из сора в сор. По замерзании реки их собирают и приводят домой. Русские повсеместно держат лошадей, а из инородцев – лишь расселенные по Оби да обитатели южных ее притоков в Сургутском крае и низовьев Северной Сосьвы – в Березовском. Собака имеет в инородческом быту большое значение повсеместно. Для оленевода – это пастух оленьих стад, для зверолова – спутник в промысле как ищейка и как рабочее животное, которое тащит нарту с провизией; в домашнем хозяйстве инородцев на собаках возят воду, дрова, сено и разную кладь: муку, рыбу и проч. Инородец блюдет собаку и в сильную стужу пускает ее в юрту. В рабочее время, т. е. зимою, собак кормят похлебкой из рыбьих костей, для чего летом во время рыбного промысла при приготовлении сухой рыбы (позема) весь остов рыбы с головой отделяется цельным и тщательно высушивается в запас для зимнего корма собакам. В Лумпокольской волости Сургутского края в 36-ти населенных пунктах у инородцев имеется свыше 500 собак. У русского населения собак сравнительно много в Березове; там на них возят воду. […] Глава IV. Рыболовство Если принять во внимание, что на Тобольском Севере сосредоточены самые лучшие рыболовные угодья Западной Сибири и к тому же изобилующие ценными породами рыб, то здешнее рыболовство получает значение не только местное, но и общегосударственное. […] 2. Рыболовные угодья и их эксплуатация Все рыболовные угодья этого края, за малыми изъятиями, находятся в исключительном пользовании инородцев (кроме угодий Самаровской и Елизаровской волостей)… Из законов о правах по имуществу кочевых инородцев (I. II – ст. 34, 35 и 37, соответствующие статьям IX т. – 849, 850 и 851) видно, что каждому поколению, роду назначены во владение земли и воды и что поселение русских на этих землях обусловливается согласием инородцев, каковое должно быть закреплено приговором. Чем, собственно, подкрепляются права инородцев на неограниченное владение всей территорией Березовского и Сургутского края и каким порядком происходило укрепление за ними этих прав, а также каким образом происходит подробное разделение участков этих земель – неизвестно. Достоверно то, что … не имеется документов, за исключением старинных грамот, выданных самоедским и остяцким князькам. Однако в этих грамотах никаких указаний по этому вопросу не имеется. […] В последнее время Министерством земледелия и государственных имуществ разъяснено, что «земли, находящиеся во владении сибирских инородцев, следует считать казенными, если в отдельных случаях инородцами не будут представлены точные доказательства принадлежности им земель в собственность». К такому заключению приводят нижеследующие соображения: во-1-х, по ст. 26 Положения об инородцах, основанной на § 24 Закона 22 июля 1822 года, кочевые инородцы составляют особенное сословие в равной степени с крестьянским; во-2-х, по законоположениям, на которых была основана 669 ст. Законов о состояниях издания 1857 года, все земли и угодья, принадлежащие каждому селению, каким бы образом вначале они ни были приобретены: по прежним ли «дачам» и «крепостям» или отведены от казны для водворения и наделения – считаются казенно-общественным имуществом и владение ими предоставляется мирскому обществу с платежом установленного оброка без ограничения времени и срока и, наконец, в-3-х, из смысла позднейшего Закона 23 мая 1895 года о главных основаниях поземельного устройства в Сибири вытекает общее предположение, что земли, занимаемые инородцами, принадлежат казне… По смыслу 406 ст. X т., ч. 1 вся территория Березовского и Сургутского уездов составляет собственность государства. Часть территории этих уездов занимает лесная площадь, по смыслу п. 8, ст. 6, т. VIII, 1 ч. составляющая государственные леса, состоящие в пользовании инородцев. На основании указанных законоположений имущественные права инородцев можно бы формулировать следующим образом: все земли, леса и воды Березовского и Сургутского уездов составляют государственную собственность; права же инородцев на эти угодья заключаются лишь в пользовании таковыми. Право пользования лесом как материалом ограничено, и вообще леса этих округов управляются на общем основании. Право пользования водами не ограничено, и казна в управлении этими угодьями не принимает участия. Что касается третьего рода угодий – земель, т. е. собственно лугов, то и этими угодьями инородцы пользуются, за малыми изъятиями, неограниченно, причем сдают в аренду сенокосные участки русским. […]
Рыболовные промыслы на р. Оби: Питляревский-Плотникова (наверху) и Бронникова (внизу) Между Самаровским и Обдорском… 42 рыболовных угодья разбросаны на громадном протяжении в 640 верст. […] Из 42 угодий этого района 30 находятся в руках 4 крупных промышленников, 2 угодья эксплуатируются самими вотчинниками и 10 арендуются 9 мелкими промышленниками… 4. Организация промысла и положение рабочих […] Крупный рыболовный промысел есть промышленное предприятие, требующее оборотного капитала на покрытие расходов по уплате аренды, по сооружению жилых и промысловых зданий, приобретению неводных материалов, паузков, неводников, лодок и прочего и, наконец, по содержанию рабочих, «башлыков» и приказчиков. Соответственно затратам и добычу крупного промысла составляют преимущественно рыбы ценные: осетр, муксун, нельма, чего не может быть при мелком промысле, так как последний производится малыми неводами и другими мелкими орудиями, при чем добывается исключительно рыба малоценная, зато и промысел этого рода не требует крупных затрат и может производиться с меньшим числом рабочих, небольшими артелями и даже в одиночку. По степени участия рабочих в производстве промысла их можно разделить на три категории: 1) рабочие «караванные», получающие определенную плату и не заинтересованные в успехе промысла; 2) рабочие-пайщики, не получающие определенной платы, но заинтересованные в успехе промысла и 3) низовские полуневодчики. Контингент рабочих 1-й категории, по численности самый большой, комплектуется из следующих элементов: а) крестьян – лишних и свободных членов семьи; б) крестьян разорившихся или таких, у которых расстроилось хозяйство от падежа скота, наводнения или других причин (крестьяне эти преимущественно из соседних уездов: Тобольского, Тюменского, Туринского); в) инородцев разных племен: татар, бухарцев, остяков и самоедов (добрая половина рабочих категорий «б» и «в» сдаются в работу волостными правлениями и инородными управами за числящиеся за ними недоимки) и г) ссыльных всех категорий и разных национальностей. Достаточно беглого взгляда на это пестрое сборище «караванных» (как их здесь называют), чтобы прийти к заключению, что эти люди за себя постоят и знают себе цену. Их взаимные отношения с хозяевами хорошо известны обеим сторонам, каждая из сторон находится как бы в зависимости от другой, но степень этой зависимости неодинакова: хозяева в большей степени зависят от рабочих, чем последние от хозяев, а поэтому и отношения хозяев к рабочим лучше, чем того можно было бы ожидать на далекой окраине, где нет ни рыболовного надзора, ни судебной и административной власти. Объясняется это так: как хозяин, так и рабочие отлично сознают, что случись заминка, остановка в работе, хозяин от этого терпит убыток, а с рабочих взять нечего, потому что все денежное вознаграждение забрано еще осенью предшествовавшего года как самими рабочими, так и волостными правлениями и инородными управами на пополнение недоимок, и, таким образом, если даже искать убытки судом, нет гарантии на их взыскание, ввиду того что лишь рабочие категории «а» могут считаться материально ответственными; по отношению же к остальным в лучшем случае хозяин удовольствовался бы тем, что нанесшего ему убытки рабочего отдали бы ему, как несостоятельного, в неводную работу на будущий год. Поэтому все мелкие притязания рабочих вроде требования прибавки табаку, угощения вином, прибавления платы, выдачи необходимой одежды и т. п. по возможности удовлетворяются хозяевами, да и нельзя их не удовлетворить: допустим, у рабочего плоха одежда и он просит хозяина выдать ему другую; если хозяин не выдаст, рабочий не пойдет на неводьбу, а без него и вся артель откажется от лова. Я имел возможность получить 90 копий с контрактов на наем инородцев в летнюю неводную работу 1896 г. в низовьях Оби: по Ляпинской и Сосьвинской волостям 75 контрактов и по Обдорской волости 15 контрактов. Материал этот дает возможность в известной мере охарактеризовать условия найма. Во всех 90 случаях рабочим, кроме харчевого довольствия и должного вознаграждения, выдаются каждому бродни, рукавицы, гусь суконный или сукна, байки на гусь, рубаха и порты или холста для этого и по 1 фунту табаку в месяц. Рабочие нанимаются на срок до 4 месяцев – с 9 мая до 5–10 сентября. Денежное вознаграждение колеблется по Ляпинской и Сосьвинской волостям от 11 до 40 руб., в среднем – 22 руб. 77 коп. […] По Обдорской волости от 15 до 38 руб., в среднем – 23 руб. 86 коп. Из шести контрактов на наем русских в неводную работу 1896 года усматривается по Самаровской волости плата неводным рабочим за 3 месяца в одном случае – 29, а в другом – 40 рублей; по Елизаровской волости в одном случае – 25 руб., по Кондинской волости – 30, 37 и 50 рублей. Во всех этих случаях гуся и белья рабочим не положено. […] Пища рабочих во время промысла состоит из хлеба без весу, чаю из общего котла 2–3 раза в день, вареной рыбы (сырок или колозень, т. е. мелкий муксун величиною с сырка и более, налим и язь) и сырой рыбы – муксуна или недомуксунка от 1 до 2-х штук на человека в день. Где муксуна мало, там «на сырое» выдается по два сырка; как на пример укажу на пески Матошина в Березовском уезде. Каша бывает, но редко, на иных песках ее вовсе не дают. Мясо в низовом крае совсем не входит в положение пищевого довольствия рабочих на промыслах, им кормят рабочих лишь в пути, на промыслах же – только во время подготовительных работ, пока не добывается рыба (мясо вяленое). Но по Иртышу кормят мясом; как на пример укажу на Филинский песок, но там, по Иртышу, мясо, пожалуй, дешевле рыбы. Ниже Березова мяса совсем не бывает: там уж пойдет область оленеводства и нет ни домашнего рогатого скота, ни лошадей. Летом мясо в Березове от местного скота 6 руб. за пуд. Масло на промыслах заменяется рыбьим жиром. Что касается рыбы, выдаваемой рабочим «на сырое», то часть ее рабочие съедают буквально в сыром виде, часть в жареном и в ржаном пироге. Из остатка образуется так называемый присол. На песках Сургутского и Тобольского уездов присола рабочим не полагается и рыбы «на сырое» не дают, зато пища разнообразнее: кроме хлеба, рыбы и чаю, дают иногда вяленое мясо, кашу ячменную или пшенную, горох, толокно и квас. В пищу на этих песках употребляются исключительно щука, язь и налим. Нанятые на рыбные промыслы по Иртышу и Оби рабочие хотя и обязаны 1 мая явиться в Тобольск на свой счет, но часть из них не является, хозяйские приказчики разъезжают, собирают таких рабочих и доставляют их в Тобольск, разумеется, на счет хозяина. Со дня прибытия рабочие поступают на хозяйское содержание. До времени отправки паузков – половина мая – они ничего почти не делают. Так как весь путь по течению, то паузки идут не за пароходом, а своесильно; однако есть люди в греблях и у руля на две смены. Паузки, направляющиеся в Сургутский уезд, вверх по Оби, от Самарова идут всегда за пароходом. На пути присоединяются рабочие, нанятые в попутных волостях Тобольского и Березовского уездов. При благоприятной погоде паузки делают с лишком 100 верст в сутки; таким образом они проходят путь в 1–3 недели в зависимости от расстояния песков от Тобольска. Для успешности из Березова отправляют рабочих в легких каюках, оставляя лишь необходимое число на паузке, так что рабочие являются на пески за льдом и неводьбу начинают одновременно с местными промышленниками-обдорянами. В конце августа отходят пароходы из Тобольска в низовья Оби за паузками и возвращаются в конце сентября. На этих же паузках доставляются обратно и рабочие. Таким образом, доставка рабочих на судах паровой тягой производится лишь в обратный путь, т. е. против течения, причем в крайних случаях, когда нет возможности пароходу забуксировать судно (в месте промысла), вследствие мелководья или по другим причинам, рабочие тащат его бечевою, или завозом, до парохода. Доставка же рабочих в передний путь, по течению, на судах за пароходом не вызывается ни требованиями действительности, ни возможностью выполнения по своей дороговизне. Среди рыбопромышленников есть пароходовладельцы, но я не знаю ни одного случая, где бы они отправляли рабочих на промыслы за пароходом. Время отправки рабочих на промыслы совпадает с первым рейсом навигации, а первый рейс – самый выгодный, так как вода большая и пароходы с баржами идут беспрепятственно. […] Все рыбопромышленные заведения, места для приготовления рыбных товаров можно разделить на две категории: а) собственно промысловые заведения и б) станки, постоянные и временные. Промысловые заведения очень разнообразны по характеру построек, но в состав каждого заведения входят сарай для посола рыбы, казармы или избы для рабочих (инородцы живут в чумах), хлебопекарни и кухни, баня, амбар для хранения снастей и продуктов, дом для заведующего промыслом. У промыслов же обыкновенно стоят баржи и паузки, которые заполняются «стоповой» рыбой по мере ее накопления в рыбосольных сараях. Станки отличаются от промыслов меньшим количеством построек и временным их характером; состоят они обыкновенно из сарая для посола рыбы, не бревенчатого, а из плетня, нескольких чумов инородцев и вешалов для сушки позема и юрка; где на станках работают русские, для помещения их имеется изба. По мере накопления на станках «стоповой» рыбы она доставляется обыкновенно на промысловые заведения, и, таким образом, станки в большинстве случаев являются как бы филиальными отделениями промысловых заведений. На рыбных промыслах по Оби, в Сургутском и Тобольском уездах, промысловые здания большею частью удовлетворительны. Жилые помещения просторные и светлые, хлебопекарни, столовые и кухни строятся отдельно. Засольни и жироварни помещаются тоже в отдельных сараях; на некоторых промыслах есть особые помещения для просушки платья и даже по 2 бани, которые топятся ежедневно. Как на пример благоустройства укажу на пески в Сургутском уезде: Земцова, Тетюцкого и Нартымова – Вартовский, Толбинский, Няша и Солымский – и в Тобольском округе Земцова – Соспас и Дурной. Все постройки на них прочные, из лесного материала соответствующих размеров и вполне пригодны для жилья в них даже зимою. К этому я должен прибавить, что на указанных мною песках эти здания существовали в таком виде и ранее первого моего с ними знакомства в 1891 году. Не могу судить об удовлетворительности промысловых зданий в Березовском уезде, так как мне пришлось видеть эти здания лишь на двух песках: Матошина (Островок в 200-х верстах ниже Самарова) и Косолапова (Каменный в 60-ти верстах ниже Обдорска). Здания на матошинском песке по типу и размерам приближаются к таковым же в Сургутском и Тобольском уездах. Судя же по качеству леса, встречающегося на протяжении от Самарова и почти до Обдорска, можно допустить возможность возведения более или менее прочных построек на песках, расположенных на этом протяжении Оби, за исключением некоторых, где доставка лесных материалов сопряжена с большими затруднениями.
Каменный песок, рыболовный поселок на р. Оби, ниже Обдорска Направо избы рыбаков-рабочих, налево – чумы остяков, владельцев песка 1909–1910 Российский этнографический музей. 1755–1 На Каменном песке все постройки незначительных размеров, от 6 до 8 аршин, из тонкого леса от 21/2 вершк. в отрубе. Жилые избы с полом, потолком и чувалом; кухня, хлебопекарня особо, засольня тоже, есть и баня. Из собранных мною по сему предмету данных видно, что в рыболовный сезон 1894 г. на 34 рыболовных промыслах, расположенных ниже Обдорска на протяжении около 500 верст, был 541 человек рабочих «караванных». На этих песках было зданий: жилых –102, нежилых – 76 и бань 39. Данные эти указывают, что хлебопекарни, кухни и засольни помещаются в особых зданиях и что, если из общего числа 102-х жилых зданий исключим 32 для помещения хозяев и приказчиков и допустим, что здесь рабочих может скопиться до 700 человек, то найдем, что в каждом здании помещается в среднем по 10 человек. То обстоятельство, что такое большое количество зданий вмещает в себе лишь 700 человек рабочих, т. е. не более 10 человек в каждом, приводит к заключению, что типом этих зданий можно принять осмотренные мною постройки на Каменном песке и что эти здания незначительны по причине недостатка в строевом материале соответствующих размеров. Действительно, хотя в этой части Оби, ниже Обдорска, т. е. за чертою полярного круга, средняя летняя температура за 1893 и 1894 гг. лишь 11,2˚ (июнь 7,1; июль 13,0 и август 13,35), однако если принять во внимание, что часть промыслового времени солнце нагревает воздух в течение почти целых суток, самое же время промысла длится лишь три летних месяца, то становится очевидным, что возведение прочных и дорогостоящих построек не составляет необходимости; к тому же, вследствие местных условий, оно не выполнимо за отсутствием нужного строительного материала. Хотя на правой нагорной стороне Оби местами и встречаются островки тощих лесов (осина, береза, а из хвойных – лиственница и ель), но деревья там от неблагоприятных почвенных и климатических условий не достигают размеров строевого леса. Деревья очень «сбежисты», с наименьшею полнодревесностью, скорее конусовидной, чем параболической формы. Из спиленных мною в январе 1895 г. близ Каменного песка, в 60-ти верстах ниже Обдорска, двух наибольших дерев видно, что ель 41/2 вершков и лиственница 4-х вершков на длине 6 аршин имеют толщину лишь в 21/2 вершка. По прибытии на пески рабочие занимаются подготовительными работами, ремонтом и приведением в порядок жилых и промысловых зданий, также рыболовных садов, приготовлением кибаса (грузил) и наплавьев, снаряжением неводов, заготовкой дров и очисткой дна песков от карчей, последняя работа производится воротами, и притом с лодок. На песках, расположенных ниже Обдорска, нет карчей, рыбу в сад не садят, всю солят, поэтому и подготовительные работы занимают мало времени. Это последнее обстоятельство дает там возможность приступить к неводьбе вслед за вскрытием реки (с 1 по 15 июня), т. е. в то время, когда пески еще не затоплены, потому что прибылая вода не успела еще дойти до низовьев Оби. Самое горячее время для промысла – подъем рыбы из Обской губы, продолжающийся не более 4-х недель; бывает, что подъем рыбы начинается и до вскрытия реки, как и было, например, в 1894 г., когда мелкий сырок и часть крупного прошли подо льдом. […] В среднем течении Оби, в Сургутском крае, а также в низовьях Иртыша редко неводьба начинается ранее половины июля, так как к тому лишь времени вода, став на меру, начинает сбывать настолько, что пески оголяются. Заканчивается неводьба ниже Обдорска в первых числах сентября, а в Сургутском крае 15–20 сентября, в низовьях же Иртыша – несколько позже. Сезон неводьбы продолжается ниже Обдорска с половины июня до сентября, т. е. 21/2 месяца, в Сургутском крае с 15-го июля до 15–20 сентября, т. е. около 2 месяцев. В 1894 г. на Вартовский песок рабочие прибыли 1-го июля, начали неводьбу 1 августа, кончили 20 сентября; на Толбинском – прибыли 15 июля, начали неводьбу 26 июля, кончили 20 сентября. На Няше и Салымском начали неводьбу 17 июля, кончили 14 сентября. В общем промысловый сезон обнимает собою время с 1-го мая по 1-е сентября, т. е. 5 месяцев. На этот срок большею частью рабочие и нанимаются. Но часть рабочих нанимается на промыслы из местных крестьян и инородцев; эти присоединяются к остальным рабочим позже, на пути следования паузков на промыслы, а следовательно, и при обратном транспортировании этих паузков они возвращаются домой ранее. Таким образом, срок их найма сокращается на месяц, т. е. вместо 5-ти – 4, а для ближайших к промыслу до 3–31/2 месяцев. Неводьбою занимаются от 2 до 21/2 месяцев, а вместе с подготовительными работами находятся на промысле от 21/2 до 3 месяцев, да в пути от 3 до 6 недель в оба конца. Продолжительность рабочего дня на тонях 12 часов. На местах лова с определенным числом тоней, обыкновенно 5, их не успевают вытянуть в течение 12 часов; в этих случаях непрерывная работа продолжается 14–15 часов, но и на отдых полагается такое же время. Часть времени отдыха посвящается более легкой работе на самом промысле. Вторую категорию рабочих составляют рабочие-пайщики, не получающие определенной платы, но заинтересованные в успехе промысла. Рыбопромышленник приглашает таких рабочих на артельных началах, составляя артель от 10 до 13 и более человек, соответственно величине невода; при этом устанавливается число паев в артели по числу людей-пайщиков; допустим, 12, к этому числу паев прибавляется за невод и прочее обзаведение в большинстве случаев от 4 до 5 паев; таким образом, вся добытая рыба делится на 16–17 паев, из которых 4–5 паев поступают в пользу рыбопромышленника безвозмездно, а остальные затем паи, принадлежащие каждому пайщику, сдаются рыбопромышленнику в расчет за забранный «подъем».[…] Из рассмотренных 8-ми контрактов, доставленных мне Котской инородной управой Березовского уезда, видно, что «подъем» деньгами, неводные материалы и содержание во время промысла отпускаются рыбопромышленниками рабочим-пайщикам в счет добываемой рыбы, причем цена на рыбу не обозначена, а оговорено, что рыбу следует сдавать по существующим ценам. Третью категорию рабочих составляют низовские полуневодчики. Производство промысла при помощи полуневодчиков практикуется исключительно в низовьях Оби, ниже Обдорска, после вонзя, т. е. приблизительно с 1-го июля по 1-е сентября, в течение 2-х месяцев, в сорах и на салмах. Полуневодчики-самоеды и остяки за выданный «подъем» деньгами (от 30 до 50–60 р. на артель из 3–4 человек), за ежедневное довольствие хлебом и снабжение к промыслу неводным материалом обязаны сдавать половину улова рыбы рыбопромышленнику, а другую половину продавать ему же по ранее договоренной цене. При этом лодка должна быть от артели; каждая артель пополняется рабочими рыбопромышленника от одного до двух человек так, чтобы в неводе было не менее 5-ти человек. Обыкновенно неводят два дня, а третий отдыхают. […] Крупный рыболовный промысел производится при помощи рабочих всех трех категорий, мелкий же при помощи рабочих двух последних категорий; к мелкому промыслу относится и самостоятельный артельный промысел. Артельный промысел практикуется преимущественно среди русского населения; при этом невода бывают до 200 сажен длины. Остяки редко промышляют артельно, так как длина их неводов не превышает 50–70 сажен, что дает им возможность обойтись наличным составом своей семьи, и нередко случается, что таким неводом неводят только двое, муж с женой, причем и дети оказывают им посильную помощь. Даже в водах общего пользования нескольких юрт (населенных мест) остяки не промышляют артельно, а кидают тоню две поочередно: сначала одна семья, затем другая и т. д. В селе Тундринском в летний рыболовный сезон 1896 г. было 7 артелей. Для характеристики укажу обороты одной из них. Артель Балина состояла из самого Балина, хозяина невода, двух его сыновей и 4-х пайщиков. Число же всех паев в артели 8 (7 по числу людей и 1 пай Балину за невод). Вся артель добыла рыбы: язя 150 пуд. по 1 р. 70 к. на 255 р. недоязка . 30 ″ ″ 1 ″ 30 ″ ″ 39 ″ щуки . 100 ″ ″ 1 ″ 20 ″ ″ 120 ″ мелкой рыбы, которую оставили себе . 30 ″ ″ – ″ 80 ″ ″ 24 ″ Всего 310 пуд. на сумму 438 р. Часть V. Торговля и пути сообщения Глава I. Торговля […] Все предметы промысла вымениваются у инородцев местными торговцами, которые для этой цели съезжаются со своими товарами в известное время в определенные пункты. В то же время и в те же пункты собираются инородцы со своими товарами для положения ясака, расчета за казенную муку, для взноса земских повинностей и закупки необходимых в их обиходе предметов. Тут же созывается сход и обсуждаются общественные дела. В это же время нередко инородцы говеют. Звериный промысел производится в два периода времени, т. е. приблизительно с осени и до Рождества и затем с конца января до конца марта, причем первый период называется осенним, а второй – вешним, поэтому и съезды назначаются два раза в год: в декабре–январе и по вскрытии рек, в мае–июне. Съезды эти публичные, и хотя у каждого из торговцев есть свои должники-инородцы, но наличность нескольких торговцев на этих съездах до некоторой степени гарантирует возможность конкуренции. Предметы остяцкого промысла, кроме того, скупаются, т. е., собственно говоря, вымениваются торговцами в одиночку и вне времени, назначенного для съездов. […] Торговцы принимают всевозможные меры к тому, чтобы скупить, взять за долг или выменять на товар звериные шкуры возможно дешевле, а свои товары продать подороже. Завлекая инородцев в долги и делая их почти неоплатными должниками, торговец имеет в виду только свои ближайшие интересы и скорую наживу; не сообразуясь с бюджетом инородцев, он навязывает им такие товары, которые, не составляя для них необходимости, могли бы быть предметами роскоши и у более культурного народа. Товары эти – дорогие конфеты, варенье, чесучовые пиджаки и жилеты, драповые пальто и т. п. Некоторые торговцы даже навязывают остякам жетоны разных благотворительных обществ в целях воспользоваться самим бесплатно золотым жетоном. Избегая хотя и слабой, но все же существующей конкуренции на торжках и ярмарках, учрежденных в некоторых пунктах, многие торговцы пред окончанием звериных промыслов отбывают в места кочевок инородцев и там по произвольной и весьма низкой цене собирают за долги или выменивают большую часть добытых инородцами звериных шкур; они даже снабжают инородцев для уплаты ясака и других повинностей деньгами с обязательством пополнить долг в будущий промысел шкурами, вполне правильно рассчитывая, что на всякие выданные в долг товары или деньги они получат двойную прибыль. Разумеется, подобный порядок очень невыгоден для инородцев. А между тем практикующийся в настоящее время способ сбора повинностей заставляет инородца следовать именно такому порядку… […]
Отправка самоедского обоза из г. Сургута на р. Пур Для самоедов учреждены две ярмарки: в Обдорске и в Сургуте – в декабре–январе. В Обдорск привозится исключительно пушной товар и продукты оленеводства; в Сургут же, кроме указанных товаров, доставляется еще и рыба. Сургутская ярмарка, учрежденная в 1866 году по ходатайству жителей этого города, официально должна продолжаться с 23 декабря по 15 января, и торг должен производиться на отведенной для этого площади. В действительности же ярмарка эта существует только номинально. Всей торговлей с самоедами овладели несколько лиц, так что жителям города решительно нет возможности не только извлечь из ярмарки какую-либо пользу, но даже приобрести хотя бы самую пустую вещь. Наиболее оживленную торговлю с инородцами ведут именно те лица, у которых существует винная торговля, поэтому неудивительно, что в Сургуте, городе, в котором тысяча с небольшим жителей, имелось до введения монополии два винных оптовых склада и три ренсковых погреба. Очевидно, что такой запас вина предназначается не для местных жителей. Самоеды, прибывая в город голодные и холодные и предвкушая обильное угощение, везут свой товар не на ярмарку, а к тому лицу, с которым у них издавна ведется дело и у которого в большинстве случаев они состоят в неоплатном долгу. Таким образом, они являются не продавцами, а как бы поставщиками товара. В №№ 4 и 5 «Сибирского листка» за 1893 год лицом, проживавшим в то время в Сургуте, об этой ярмарке сообщалось, между прочим, следующее: «Главная торговля между инородцами и русскими производится ночью во дворах последних с наглухо закрытыми воротами, и при этом торге, которому предшествует угощение, инородцев обвешивают и обсчитывают». Угощение вином практикуется и в настоящее время. Некоторые торговцы из опасения, как бы привозимый самоедами товар не ускользнул из их рук, выезжают далеко в тундру навстречу прибывающим самоедам и там на них устраивают настоящую облаву. […] Приложение II Обзор мероприятий по улучшению быта рабочих на рыбных промыслах Тобольской губернии На ненормальный порядок вещей в этом крае в смысле экономической необеспеченности инородческого населения и его неправоспособности в деле распоряжения рыболовными угодьями давно было обращено внимание высшей местной администрацией. Как на пример, укажу на попытку бывшего генерал-губернатора Западной Сибири Н.Г. Казнакова улучшить указанный порядок вещей. С этой целью он просил И.С. Полякова, командированного Императорской Академией наук в 1876 году для исследования и изучения Нижне-Обского края, сообщить ему следующие сведения: 1) каковы условия и порядок аренды рыболовных угодий с выяснением, существует ли конкуренция при отдаче их в содержание; 2) в каком соответствии находится сумма годовой аренды к цифре дивиденда; 3) расплачиваются ли когда-нибудь арендаторы деньгами или, по обыкновению, товаром; 4) существует ли порядок сдачи рыбопромышленникам рыбы, наловленной самими инородцами, при котором принимаются две рыбы за одну; 5) в каком количестве распространен рыбопромышленниками ввоз спиртных напитков; в какой степени эксплуатируется этим инородческое население и насколько бесполезною оказывается в деле надлежащего контроля местная полиция; 6) не настала ли пора принять рациональные и регулирующие меры против хищнического рыболовства; 7) каково положение рабочих, нанимаемых на рыбные промыслы. Но намерению г. Казнакова не суждено было осуществиться. Вообще из всех такого рода попыток лишь одна была приведена в жизнь. Попытка эта – улучшение быта рабочих на рыбных промыслах. […] В августе месяце 1879 года по требованию генерал-губернатора Казнакова членом Тобольской врачебной управы Матвеевым были осмотрены рыболовные пески в пределах от юрт Кабинских (Сургутского округа) до села Обдорского, причем результат этого осмотра изложен так: «Жилища рабочих почти на всех песках грязные, тесные, сырые и холодные; помещения по объему воздуха далеко не достаточные для назначенного в них числа рабочих. Отбросы валяются вблизи жилых помещений и зловонием заражают воздух. Платье рабочих грязное, онучи все лето почти не сменяются. Пища крайне однообразна и не питательна; обхождение приказчиков с рабочими крайне грубое, доходящее иногда до побоев. Арендная плата мала, около 20 руб. в лето». На основании этого доклада г. Матвеева губернским правлением для улучшения быта рабочих были приняты меры, состоящие в обязательном постановлении, определяющем порядок найма, содержания рабочих и санитарного благоустройства самих промыслов, о чем в 1880 году дано было знать исправникам: сургутскому, березовскому и тобольскому, причем они обязаны были раз в лето лично объезжать все промыслы и доставлять отчет. Исправники доставляли отчеты, из которых видно, что санитарные условия остались те же. […] В 1891 году врачебная управа приступила к выработке правил для улучшения быта рабочих на рыбных промыслах, закончив их лишь в 1892 году (журнал совещательного присутствия 25–29 февраля 1892 г.). Правила эти, состоящие из 6-ти пунктов, утверждены Положением Тобольского губернского совета 12 декабря 1892 года за № 12. Рассматривая собранные местными исправниками данные об улучшении быта рабочих на рыбных промыслах, врачебная управа резюмирует положение дела так: «Словом, за время с 1878 по 1887 г. дело нисколько не подвинулось вперед». На положение же дел в период с 1887 по 1891 г. в этом журнале не усматривается ровно никаких указаний. Означенные правила подробно определяли санитарное положение рабочих и промыслов, причем на санитарное благоустройство предлагалось взимать с рыбопромышленников по 1 рублю за каждого рабочего, нанятого на пески, и, кроме того, рыбопромышленники сообща должны были построить 11 бараков. Рыбопромышленники в поданном в 1892 году министру внутренних дел прошении выясняли трудность и даже невозможность выполнения требуемых правил, опираясь главным образом на то, что правила эти не основаны на изучении положения дел в натуре, а составляют кабинетный труд. Из журнала совещательного присутствия действительно не видно, чтобы врачебная управа после доклада Матвеева принимала какие-либо меры для изучения на месте истинного положения дела (а оно действительно с тех пор улучшилось), как равно и для изучения местных условий рыбопромышленного района. […] Хотя, как выше сказано, исправники доносили, что санитарные условия не изменились к лучшему, но обязательное постановление губернского правления, последовавшее после командировки Матвеева, до некоторой степени имело свое действие. При осмотре мною в 1891 году некоторых рыбных промыслов здания на этих промыслах оказались далеко в лучшем состоянии, нежели то, в каком они описывались 14 лет тому назад; имелись даже фельдшера и аптеки. […] В 1894 году рыбопромышленники … согласились платить по 2 р. 50 к. с каждого рабочего, добывающего для них рыбу, и даже предложили врачебной управе принять на себя все заведование санитарной частью на рыбных промыслах (протокол заседания 20 ноября 1894 г., помещенный в VII выпуске «Ежегодника Тобольского губернского музея»). Изложенные в этом протоколе обязательные для рыбопромышленников правила далеко умереннее правил 1892 г.: вероятно, врачебная управа сознала невозможность их выполнения по проекту 1892 г. Так, например, относительно помещений (ст. III, п. 1) говорится кратко: «На каждом пункте, где имеется рыболовный промысел, должны быть устроены теплые бараки с достаточным помещением для всего количества рабочих, на каком бы они условии найма ни промышляли, и баня», а относительно пищи (п. 4): «Те рыбопромышленники, которые по условию найма рабочих обязаны продовольствовать их на свой счет, должны иметь для них горячую питательную пищу и чай»; о мясе же, капусте, картофеле, что требовалось правилами, ранее выработанными, здесь не упоминается. О доставке рабочих вовсе ничего не говорится. Наблюдение за санитарною частью рыбных промыслов в ведении врачебной управы состояло только в течение двух лет: 1894 и 1895 гг. […] Цифра расхода на содержание медицинского персонала 2576 р. 57 коп. весьма незначительна. Рассмотрев детально вопрос о содержании этого персонала, находим, что на эту сумму немыслимо содержать нужное количество медицинского персонала. В течение 2-х лет медицинский персонал в общей сложности состоял из 8 фельдшериц с вознаграждением всем 800 рублей и 34 фельдшеров с вознаграждением всем 1776 руб. 57 к.; так как лица эти находились на местах промыслов всего в течение 4 месяцев, то вознаграждения приходится в месяц 8-ми лицам по 25 руб.; каждому же из 34 лиц – по 13 р. с копейками. Очевидно, иметь фельдшеров за такое ничтожное вознаграждение возможно лишь при условии откомандирования их от занимаемых ими постов, и то с сохранением содержания, что и было сделано в 1894 году по отношению к 13 фельдшерам. […] Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север: Общий обзор страны, ее естественных богатств и промышленной деятельности населения. СПб., 1904. С. 1–3, 6–9, 10, 76–80, 83, 86–92, 94–100, 104–106, 130–132, 134–140, 144–145, 158, 170–174, 185–188, 194–195, 212–225, 262–263, 266; Прилож. С. 22–25. Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север: Географическое и статистико-экономическое описание страны по отдельным географическим районам
В предисловии А.А. Дунин-Горкавич писал, характеризуя свою книгу: «Она является продолжением напечатанного в 1904 году моего труда «Тобольский Север: Общий обзор страны, ее естественных богатств и промышленной деятельности населения… Настоящий труд содержит данные, относящиеся к 1899 –1903 годам». Часть II. Левая сторона Оби на пространстве от нарымской границы до устья р. Иртыша Глава II. Бассейн реки Югана Юрты по Югану бревенчатые в 6 х 9 арш. (в Маниных и Мултановых крошечные, 5-аршинные); они строятся с полом, но без потолка; некоторые имеют окна, но большинство снабжено лишь льдинами посреди крыши, с чувалом в углу; в тех и других нары разделены перегородками и покрыты камышовыми коврами. Вход в юрты обставлен жердями, образуя таким образом нечто вроде сеней. Юрты освещаются обыкновенно лучиною, некоторые же остяки имеют лампы и сальные свечи. […] Часть III. Правая сторона Оби на пространстве от устья р. Иртыша до с. Обдорского Глава I. Приобский правобережный материк и впадающие справа в р. Обь притоки 2. От реки Казыма до с. Обдорского […] Устье реки Куноватской расположено с правой стороны Большой Оби в сору на 15 вер. выше села Кушеватского. Сор имеет в длину 40, а в ширину 15 верст. Ширина реки Куноватской.при устье 70 саж., глубина ее до 6 саж., протяжение приблизительно в 250 вер. Русло реки песчаное. Кроме сора при устье, есть еще два сора в верховьях, верст на 25 выше последнего населенного пункта по этой реке – юрт Вершинских. Правый берег реки Куноватской горист и покрыт дровяным лесом. Последний состоит в равном количестве из неплодородного кедра и ели, к которым примешана часть березы и единичными экземплярами лиственницы. Сосна встречается отдельными борами, но в общем ее немного. Пихты в этой местности совершенно нет, осина встречается редко. По качеству весь лес дровяной, он доходит до 8 вершков толщины на высоте груди и до 21 арш. высоты. Лесной птицы, глухарей и тетеревов, добывают здесь от 200 до 500 штук на хозяйство. Глухариные хвосты продают по 10 коп., а самих глухарей по 15 коп. Белки в этой местности добывается в хорошие годы всего до 7000 штук. Из ягод встречается черника, голубица и морошка. По реке Куноватской рыбного промысла нет. Весной инородцы спускаются к устью реки для промысла рыбы в Куноватском сору. Сор городят выше запора купца Плотникова и промышляют важанами муксуна, сырка и язя. Добытую рыбу сдают Плотникову по условленным заранее ценам. На зиму они заготовляют себе из сырка поземы, а спинка и брюшко идут на варку. По реке Куноватской 15 населенных пунктов, в которых проживает 33 домохозяина. Юрты у них бревенчатые в 2 сажени кругом с льдинами вместо окон. На пространстве от р. Куноватской до юрт Пароватских встречаются речки, из которых более значительны Лангивожская, Хаш-Горт-Юган и Питлярская. При устьях этих речек находятся одноименные юрты. Речка Лангивожская имеет в ширину весной 20 саж., в глубину 4 саж. и в длину водою 50 верст. Она вытекает из болот и имеет направление с востока на запад. При устье речки берега закрыты ярами. Осенью в речке добывают незначительное количество мелкой щуки. Лес здесь мешаный, дровяной, встречается частью и строевой. Речка Хаш-Горт-Юган разливается весною на 70 саж. в ширину; глубина ее 5 саж., протяжение водою 120 верст. При устье речки расположен сор шириною в 1 вер. и длиною в 20 верст. Берега речки крутые. В этой речке зимою промысла рыбы нет. Лес здесь мешаный, дровяной, встречается, впрочем, и строевой на меру до 3 саж. длины и 5 вершков толщины. Речка Питлярская. Ширина ее весною достигает 70 саж., глубина 7 саж., протяжение водою 200 верст. При устье речки лежит Питлярский сор на 40 вер. в длину и от 1 вер. и более в ширину. Вершина этой речки подходит к вершине р. Полуя. Лес здесь большею частью дровяной (лиственница, ель и береза), хотя встречается и строевой. Речка Питлярская составляет северную границу распространения кедра. На 3 версты ниже ю. Пароватских находится конец Большой Оби; отсюда до Малой Оби идет на северо-запад широкий рукав протяжением около 20 верст; нижнее устье этого рукава расположено поблизости от ю. Вандиазских, где кончается и Малая Обь; отсюда Большою Обью называется западный рукав. Восточный рукав от юрт Пароватских называется Малою Икарскою Обью. Нижнее устье ее лежит против ю. Люймазских на Большой Оби, на 20 вер. выше Обдорска. Длина Икарской Оби равна приблизительно 60 верстам. Река Полуй впадает в Обь с правой стороны на 3 версты ниже Обдорска. Река эта на 3 версты от устья до Обдорска глубока, так что стоянка для судов у Обдорска удобна. По сведениям исследователя Хондаржевского, верст на 15 выше Обдорска русло Полуя разбивается в луговой низменности на три рукава. Так он и течет на расстоянии до 50 верст. Далее с левой стороны в него впадают рр. Хо-Юган, Яган-Юган, Нюнуи-О-Юган, Енседе и Айны-Юган шириною в 21/2 саж., отличающийся невысокими берегами (до ¼ саж.). Сливаясь с ними, Полуй делает крутые изгибы. При впадении Хо-Югана, в 100 верстах от Обдорска, ширина его простирается до 74 саж., а при впадении Айны-Югана Полуй имеет 45 саж. в ширину. Описание летнего пути водою от Березова до Обдорска Летом сообщение между Березовом и Обдорском производится водою на лодках, для чего учреждено 12 промежуточных станций. Переезд совершается на протяжении 393 верст Большой Обью (восточный рукав), за исключением первых двух станций от Березова и последней станции к Обдорску. От г. Березова до станции Пугорской 45 верст. Путь от г. Березова сначала идет по р. Сосьве до впадения ее в Малую Обь (40 вер.) и затем по Малой Оби (5 верст). Станция Пугорская есть выселок, который состоит из одной избы, расположенной на правом берегу Малой Оби. От станции Пугорской до станции Устремской (Тегинской) 30 вер. Весь путь между этими станциями проходит Малой Обью. Станция Устремская находится в летних юртах Тегинских, расположенных на левом берегу Малой Оби. От станции Устремской до станции Сыропугорской 20 вер. Путь между этими станциями лежит по протоке Устрем и Большой Оби. Станция Сыропугорская находится в летних юртах того же имени, расположенных на правом берегу Большой Оби. От станции Сыропугорской до станции Андрыюганской 35 верст все время по Большой Оби. Станция Андрыюганская находится в летних юртах того же имени, расположенных на левом берегу Большой Оби. От станции Андрыюганской до станции Куноватской 20 верст тоже по Большой Оби. Станция Куноватская есть выселок, состоит он из берестяных чумов, расположенных на правом берегу Большой Оби. От станции Куноватской до станции Кушеватской 15 вер. Путь между этими станциями идет сначала Большою Обью до устья протоки Кушеватской (на 11 вер.) и затем вверх по этой протоке до с. Кушеватского (на 4 версты). Станция Кушеватская находится в с. Кушеватском, расположенном на правом берегу протоки того же имени. От станции Кушеватской до станции Лангивожской 30 верст. Сначала едут обратно по протоке Кушеватской до Оби (4 вер.) и затем Обью (26 верст). Станция Лангивожская находится в летних юртах того же имени, расположенных на правом берегу Большой Оби. От станции Лангивожской до станции Кашгорской 30 вер. Весь путь между этими станциями проходит Большой Обью. Станция Кашгорская находится в летних юртах того же имени, расположенных на правом берегу Большой Оби. От станции Кашгорской до станции Питлярской 40 верст по Большой Оби. Станция Питлярская находится в летних юртах того же имени, расположенных на правом берегу Большой Оби. От станции Питлярской до станции Пароватской 20 верст. Весь путь между этими станциями идет Большой Обью. Станция Пароватская находится в летних юртах того же имени, расположенных на правом берегу Большой Оби. От станции Пароватской до станции Кунжольской 28 вер. Между этими станциями едут Большою Обью 3 вер. и Малою Обью 25 вер. Станция Кунжольская находится в летних юртах того же имени, расположенных на левом берегу Малой Оби (Икарской). От станции Кунжольской до станции Пельваж 40 вер. Между этими станциями приходится ехать все время Малой Обью (Икарской). Станция Пельваж находится на заведении рыбопромышленника Михаила Никитина, расположенном на берегу Малой Оби (Икарской). От станции Пельваж до с. Обдорского 40 верст. Путь между этими станциями идет сначала на 28 верст по протоке Большой Харпосл, затем 3 вер. по протоке Большой Махтылев и столько же по протоке Малый Махтылев; наконец через пролив в одну версту длиною выезжают на р. Полуй, по которой до Обдорска 5 верст. […] Часть IV. Левая сторона Оби на пространстве от устья р. Иртыша до с. Обдорска Глава I. Приобский левобережный материк и впадающие слева в р. Обь притоки 2. От реки Сосьвы до с. Обдорского […] Река Собь. Устье ее находится с левой стороны Б. Оби, выше с. Обдорского на 30 вер. Река при устье имеет в ширину 30 саж., в глубину 3 саж. и протяжение, не считая изгибов, около 100 вер. Река эта очень извилиста; она берет начало на склонах Урала. Проезд по ней возможен осенью на лодке приблизительно на 50 вер., а далее идут каменистые переборы и пороги. Летний промысел рыбы производится только в низовьях реки на протяжении 30 вер. На это время инородцы отдают рыбные угодья в аренду русским. Добывают здесь муксуна, сырка, пыжьяна и щокура. Зимою инородцы ловят рыбу по всей реке запорами. Добывают они налима, ерша, немного сырка и щокура; излишек рыбы продают в с. Обдорском. Описание зимней дороги от Березова до Обдорска Зимний тракт между Березовом и Обдорском протяжением в 380 верст проходит западной стороной обской долины. Проезд совершается в 12 перегонов, для чего по тракту учреждено 11 промежуточных станций, где сменяются олени, а местами и лошади. С зимы 1901–1902 г. по этому тракту открыто еженедельное движение правительственной почты. От г. Березова до станции Усть-Сосьвинской 28 вер. Дорога от г. Березова до станции Усть-Сосьвинской сначала идет чрез р. Вогулку на левый берег, по которому пролегает лугами и сорами 17 вер.; затем она проходит подле материка по протоке Вогулке 3 версты и переходит на левый берег протоки; далее подле материка она тянется лугами до устья речки Усть-Сосьвинской и сора 61/2 вер. и наконец через речку подле горы лугом и сором до станции 11/2 вер. Станция Усть-Сосьвинская есть выселок, состоящий из одного дома; она расположена на материке на 3 вер. ниже юрт Усть-Сосьвинских. От станции Усть-Сосьвинской до станции Тегинской 25 вер. Дорога между этими станциями пролегает сорами и лугами на расстоянии 22 верст и протокой Тегинской на 3 версты. Станция Тегинская находится в зимних юртах Тегинских, расположенных на левом берегу протоки Тегинской. Гоньба по этому перегону отбывается на лошадях. От станции Тегинской до станции Землянской (Порось) всего 17 верст. Дорога между этими станциями пролегает сорами и лугами. Станция Землянская представляет из себя выселок, состоящий из одного дома; она расположена на материке, в 10 вер. от Малой Оби. Гоньба здесь отбывается на оленях. От станции Землянской до станции Кочегатской (Хомзы) 35 вер. Дорога между этими станциями пролегает подле горы, лугами, сорами и чрез небольшие проточки на расстоянии 25 верст и по материку хвойным лесом на 10 верст. Местность по материку холмистая, так называемая хомзы. Станция Кочегатская есть выселок, состоящий из одного дома; она расположена на материке в 12 верстах от Малой Оби. Гоньба в этом месте отбывается на оленях. От станции Кочегатской (Хомзы) до станции Ишварской … 35 верст. Между этими станциями весь путь, за малыми исключениями, где леса перемежаются небольшими сорами, совершается лесом. Приблизительно на половине расстояния стоят юрты Ларовские; по обе стороны этих юрт сор имеет более значительный размер. До юрт Ларовских путь пролегает лесами, то пересекая их, то идя узкими болотами между лесных грив и холмов, называемых хомзами; вероятно, отсюда происходит и название станка. Это одна из живописнейших местностей на пути от Березова до Обдорска. Леса состоят почти всецело из частого кедровника, а по болотам встречается низкорослая сосна. Дорога между этими станциями пролегает сначала лесом (кедр с примесью ели) на 1 вер., далее незначительными болотами между холмами на 3 вер., сором на 71/2 вер., протокой Ларовской на 3 вер., затем мимо юрт Ларовских, которые остаются в полуверсте вправо; далее дорога идет по материку, на котором лес состоит из кедра и ели, на 5 верст; наконец до станции Ишварской приходится ехать 15 верст дровяным сосновым лесом по сырому, болотистому грунту. Станция Ишварская представляет из себя выселок, состоящий из одного дома; расположена она на материке, в кедровом лесу, в 15 вер. от Малой Оби. Гоньба здесь отбывается на оленях. От станции Ишварской до станции Киеватской 35 верст. Дорога между этими станциями проходит сначала по материку хвойным лесом на 1 вер., далее Сынским сором на 10 вер., затем хвойным лесом и чрез мыс, называемый Емын-Нел на 3 вер. (на этом мысу остяками приносятся жертвы) и наконец до станции Киеватской по открытой местности сорами, лугами и протоками на 21 версту. Станция Киеватская находится в зимних юртах Киеватских, расположенных на левом берегу Оби. Гоньба между станциями отбывается на оленях. От станции Киеватской до станции Мужи 20 верст. Дорога между ними пролегает подле горы, сорами и лугами на 5 вер. и р. Малой Обью на 15 верст. Станция Мужи находится в с. Мужах, расположенном на левом берегу Малой Оби. Гоньба здесь отбывается на лошадях и на оленях. От станции Мужи до станции Войкар 35 верст. Дорога между этими станциями пролегает сначала по Малой Оби на 3 вер.; далее по левому берегу Малой Оби сорами и лугами на 25 вер.; затем опять по Малой Оби на 6 вер. и наконец левым берегом Малой Оби до юрт Войкарских на 1 версту. Станция Войкарская находится в зимних юртах Войкарских, расположенных на левом берегу Малой Оби, на одну версту ниже речки Войкар. Гоньбу здесь отбывают на оленях. От станции Войкар до станции Елисей-Горт 25 верст. Дорога между этими станциями идет Малой Обью на 22 версты и левым ее берегом на 3 версты. Станция Елисей-Горт находится в зимних юртах того же имени, расположенных на левом берегу Малой Оби. Гоньбу на этом перегоне тоже отбывают на оленях. От станции Елисей-Горт до станции Шурушкар 30 вер. Дорога между этими станциями пролегает левым берегом Малой Оби на 5 верст и Малой Обью на 25 верст. Станция Шурушкар находится в зимних юртах того же имени, расположенных на левом берегу Малой Оби. Гоньбу отбывают и здесь на оленях. От станции Щурушкар до станции Вандиаз 35 верст. Дорога между этими станциями на всем 35-верстном протяжении пролегает Малой Обью. Не доезжая 2 верст до станции Вандиаз, с дороги виден Урал. Станция Вандиаз находится в зимних юртах того же имени, расположенных на острове Малой Оби близ слияния ее с Большой Обью. Гоньба здесь отбывается на оленях. От станции Вандиаз до станции Собь 30 верст. Дорога между этими станциями пролегает левым берегом Большой Оби, за островками и протоками. Станция Собь находится в зимних юртах того же имени, расположенных на левом берегу Большой Оби при устье р. Соби. Гоньба здесь отбывается на оленях. От станции Собь до села Обдорского 30 верст. Дорога от станции Собь до Обдорска пролегает сначала лугами по левому берегу Большой Оби на 3 версты, далее рекой Большой Обью до заведения Люймазского на 7 верст и наконец от заведения Люймазского до Обдорска сорами, лугами и протоками на 20 верст. Глава II. Бассейн реки Сосьвы […] Территория бассейна реки Сосьвы лежит приблизительно между 62˚ и 64˚ северной широты и 29˚ и 35˚ восточной долготы от Пулкова; она занимает площадь около 65 т. квадр. верст или 61/2 миллионов десятин. Главными реками бассейна являются река Сосьва, Тапсуй, Ляпин, Малая Сосьва и Вогулка. Берега первых трех рек населяют вогулы, по остальным же притокам Сосьвы, Малой Сосьве и Вогулке, обитают остяки Котской и Подгородной волостей. Кроме того, по рекам Сосьве и Ляпину проживают русские, зыряне и в незначительном числе самоеды. Вогулы отличаются от остяков языком и антропологическим типом; в бытовом и религиозном отношениях они имеют много общего с остяками и во многом от последних ничем не отличаются. В административном отношении вогульское население составляет две волости: Сосьвинскую и Ляпинскую. В состав Сосьвинской волости входят поселения вогулов, проживающих по рекам Сосьве и Тапсую. Ляпинская волость обнимает собою бассейн р. Ляпина, часть среднего течения р. Сосьвы, самую сосьвинскую луку, куда впадает р. Ляпин, и незначительную часть нижнего течения Сосьвы. Кроме того, вогулы живут по реке Оби выше Березова в пределах Котской волости и ниже Березова до самого Обдорска. Чтобы иметь некоторое представление о расселении и численности вогулов и других народностей, проживающих в бассейне р. Ляпина и Сосьвы, привожу данные из «Списка населенных мест Тобольской губернии», относящиеся до 1903 года. Всего числилось жителей в 63 населенных пунктах двух вогульских волостей Березовского уезда 2719 душ обоего пола (1372 мужч., 1347 жен.); исключив из этого числа проживающих в пяти оседлых населенных пунктах русских, зырян и самоедов, всего 399 душ об. п. (189 муж. и 210 жен.), получим приблизительную цифру чисто вогульского населения – 2320 душ об. п. (1183 муж. и 1137 жен.); в этом числе собственно в бассейне р. Сосьвы в 34 пунктах проживает 1727 душ об. п.(895 муж. и 832 жен.) и по р. Оби в 24 пунктах – 593 д. об. п. (288 муж. и 305 жен.); все население двух вогульских волостей, проживающее в бассейне р. Сосьвы, составляло в начале 1903 года 2126 душ об. п. (1084 м. и 1042 ж.). Из приведенных данных видно, что владения вогулов не ограничиваются только бассейном рр. Сосьвы и Ляпина, а простираются и по р. Оби, где число проживающих вогулов составляет 26%, число вогулов, проживающих в бассейне реки Сосьвы, составляет 74 % вогульского населения; остальные народности составляют 15% всего населения, проживающего в бассейне реки Сосьвы.[…] Главным промыслом для населения этого края является рыболовство. […] Вторым, не менее важным промыслом для населения края считается звероловство. Здесь водятся и служат предметом добычи белка, дикий олень, лось, соболь, горностай, лисица, медведь и росомаха. […] Из домашних животных вогулы держат лошадей, главным образом в нижнем течении р. Сосьвы; коров – в нижнем и среднем течении Сосьвы; оленей хотя повсеместно, но менее всего по нижнему и среднему течению р. Сосьвы и р. Тапсуя; собак – повсеместно. Во всем Сосьвинско-Ляпинском крае было зарегистрировано в 1903 году г. Ушаровым лошадей – 101, коров – 145, оленей – 4040 и собак – 1183 шт. […] Экономическое положение инородцев Сосьвинско-Ляпинского края, как и вообще всего севера, находится на низкой ступени развития. А.Ф. Ушаров, посетивший в 1903 г. этот край, характеризует в своем отчете экономическое положение вогулов следующим образом: «Здесь каждая семья инородца находится в бесконечной задолженности у русского или зырянского торговца-промышленника. Инородцы являются естественными добывателями богатств севера, русские же торговцы-кулаки и зыряне лишь хищнически пользуются трудом инородцев, захватывают их промысловые места, вытравливают пастбища и т. д.». Доходы инородческая семья получает от звероловных и рыбных промыслов и скотоводства. Естественные богатства здешнего края вполне могут обеспечить безбедное существование инородцев, так как расходы на содержание семьи сравнительно невелики и заключаются в приобретении хлеба, чая, некоторых домашних принадлежностей и летней одежды; что касается зимней одежды и обуви, то таковые изготовляются ими самими из добытых звериных шкур. Так как инородцы добывают естественных богатств края значительно большее количество, чем то, которое необходимо для удовлетворения их собственных потребностей, то излишек они сбывают русским и зырянским торговцам. Торговля, обыкновенно меновая, совершается преимущественно в кредит; реже они продают на наличные деньги; единицею ценности считается белка. Товар почти все инородцы покупают у торговцев в долг, и едва ли наберется 10 человек инородцев, не имеющих долгов. Размера своих долгов инородцы не знают или представляют себе весьма смутно; в этом отношении они вполне вверяются своим «благодетелям»-купцам. Общий подсчет долгов совершается осенью, при этом, конечно, инородец не в состоянии припомнить количества взятых товаров; цена на эти товары устанавливается также самим торговцем. Последний распоряжается инородцем вполне, платит за него повинности, дает ему все необходимое и всячески старается удержать доверчивого дикаря в своих руках, маня кредитом. 1. Река Сосьва […] Население г. Березова составляю русские и частью зыряне. Первенствующее значение для населения имеет здесь рыбный промысел, из которого немаловажную роль играет промысел сельди. Для ловли этой рыбы в Березове имеется до 30 неводов величиною от 30 до 50 сажен. Развито здесь и птицеловство: весной водяной, а осенью лесной птицы. Жители г. Березова имеют достаточное количество лошадей и коров и небольшое число овец; некоторые из них имеют оленей и собак, а также домашних птиц – кур и голубей. […] 3. Река Ляпин […] По р. Ляпину и его притокам, Щекурье и Манье, рыбный промысел производится только осенью, в течение сентября, октября и ноября месяцев, до замерзания рек неводами и сетями, а по замерзании – гимгами при помощи сплошных заграждений, устраиваемых из расколотых плашек-жердей шириною в 2–3 верш. и длиною до 21/2–3 саж. Между устьем р. Ляпина и ляпинскою пристанью до 30 сплошных заграждений, засаривающих фарватер реки и вредно отзывающихся на самом рыболовстве.
Ряд гимг на просушке Летом по Ляпину нет рыбного промысла, исключая низовья… […] Добываемую в р. Ляпине рыбу скупают главным образом торгующие зыряне. […] Ляпинские инородцы занимаются рыболовством, звероловством и птицеловством (главным образом бьют лесную птицу). Добыча зверя здесь незначительна… […]
Рукав и заграждение для его постановки 4. Река Малая Сосьва […] Бассейн М. Сосьвы населяют остяки, которые в административном отношении находятся в ведении Котской инородной управы. По внешности это люди среднего роста, крепкого телосложения, с густою растительностью на голове, заплетенною у некоторых в косы. Женщины и особенно дети не так безобразны, как у других инородцев. Расселенные по берегам М. Сосьвы в 9 селениях-юртах остяки живут в сравнительно чистых бревенчатых избах с чувалами и без сеней. Для печения хлеба у них имеются на дворах устроенные из глины печи, в которых пекут не только ржаной, но и белый крупитчатый хлеб. Зимою как мужчины, так и женщины носят шубы из утиных шкурок (преимущественно черной утки). Сверх шубы мужчины надевают холщовый шабур (вроде халата), а женщины – ситцевый (такая шуба носится до 3–5 лет, а шабура едва хватает на год). Шубы они шьют сами жильными нитками; на одну шубу требуется до 50 утиных шкурок; для прочности швы подшивают с изнанки лентами из щучьей кожи. Малососьвинские остяки – по преимуществу звероловы; рыболовством они занимаются мало. Главный объект их звероловного промысла – лось и соболь. Первого добывают осенью и зимой сторожевыми луками, а в средине лета – ружьем. Соболя добывают ружьем при помощи собаки. У этих остяков замечательно хорошие собаки для охоты на соболя; остяки очень их ценят и тщательно за ними за ними наблюдают, держа их в юртах в чистоте и опрятности. Малососьвинские остяки известны как лучшие охотники, причем охотой занимаются не только мужчины, но иногда и женщины. Из лесной птицы добывают тетеревов; из водяной же преимущественно уток… […] 5. Река Вогулка […] Р. Вогулка берет начало из болот, исток ее приходится приблизительно против юрт Бедкажских, севернее их на 25 верст. […] У г. Березова р. Вогулка впадает в Сосьву с левой стороны, на 35 верст выше устья этой реки. Длина течения р. Вогулки, не считая изгибов, составляет 160 верст. Осенью ширина р. Вогулки в низовье превышает 100 саж… […] Население р. Вогулки состоит из оленеводов. Оно проживает в сравнительно чистых бревенчатых юртах (3-х – 4-х с.), расположенных при самой реке; исключение представляют юрты Левкины, которые находятся в 2 верстах от реки. По р. Вогулке в 5 населенных пунктах проживает 20 хозяев или 38 работоспособных мужчин; размещаются они в 20 юртах и имеют 146 оленей и 33 собаки. Инородцы, проживающие по р. Вогулке, в начале июня спускаются на Обь для летнего промысла рыбы; в некоторых юртах остаются люди для пастьбы оленей. На Оби добывают муксуна по 100 и сырка по 1000 голов на человека в лето; рыба эта идет исключительно на продажу. Кроме того, заготовляют для себя сухой рыбы (позема и юколы) от 5 до 10 пуд. на семью. Осенью, в начале сентября, инородцы возвращаются обратно и добывают слопцами лесную птицу, глухаря и тетерева, от 200 и более штук на семейство. С конца октября начинается зимний промысел рыбы, продолжающийся до декабря. Инородцы городят р. Вогулку и в запорах ставят морды. Добывают исключительно щуку, которой приходится на пай пудов по 60. Молодежь ходит в леса за промыслом белки, которой добывают от 100 до 300 шт. на человека за зиму. Остального зверя почти не добывают. Лисица попадается весьма редко, ее ловят капканами, поставленными на тропах. Лося и оленя добывают главным образом вышпыртымские инородцы. Весной вогульские инородцы добывают перевесами уток по 100 штук и более на человека. Из ягод здесь встречаются брусника, морошка, княжника, черника, голубика и малина. Часть VI. Низовья реки Оби, Обская губа и Тазовская губа […] Обь с целой системой впадающих в нее притоков и боковых проток для обитателя здешнего севера то же, что для жителя земледельческой страны земля-нива. Рыболовство в этом крае заменяет земледелие и служит основным источником существования для большей части населения. На Тобольском Севере почти вся жизнь сосредоточена по рекам: поселения расположены по берегам рек; главный промысел – рыболовство – дает река; сообщение и транспорт производится по рекам же (летом – водою, а зимой – по льду); луга расположены также в долине рек. Хотя рыболовство составляет главное занятие жителей низового края, однако здесь возможно также скотоводство и огородничество. На островах обской дельты и в долинах рек, впадающих в Обь, имеются довольно хорошие луга. Некоторые рыбопромышленники и зыряне имеют в низовом крае лошадей, коров, даже овец и свиней. Имеющееся здесь количество скота может быть значительно увеличено, так как в настоящее время эксплуатируется только небольшая часть лугов. […] Огородничество в низовом крае также возможно, конечно, не в особенно больших размерах. […] Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север: Географическое и статистико-экономическое описание страны по отдельным географическим районам. Т. II. Тобольск, 1910. С. 145, 210–213, 257–263, 264–265, 280, 286–287, 296, 300–301, 338. Тобольский Север: Этнографический очерк местных инородцев Глава I. Исторические справки о Тобольском Севере и населяющих его народностях Занимаемая остяками и вогулами страна в древности была известна под именем Югорской земли. Границы этой земли разными учеными определяются неодинаково. […] Глава II. Страна и люди в настоящее время […] Остяки и вогулы населяют зону высокоствольных лесов, причем вогулы занимают исключительно бассейн реки Сосьвы, т. е. приуральскую часть Березовского края. Самоеды населяют зону полярного севера. Племя это составляют исключительно оленеводы-кочевники. Все население Тобольского Севера, по данным 1904 года, составляет 38 693 души обоего пола1 (таким образом, на одного человека в среднем приходится площадь в 21,6 кв. вер.). По численности первое место занимают остяки, затем следуют русские, самоеды, вогулы и зыряне. Общее количество инородцев, населявших пределы Тобольского Севера в 1904 году, составляло 26 148 душ обоего пола, из них 13 769 мужчин и 12 379 женщин. Количество их по племенам видно из прилагаемой таблицы.
[…] Из всех инородцев, обитающих в северных пределах Тобольской губернии, мне представилась возможность ближе всего ознакомиться с остяками, которые составляют почти 3/4 населения Сургутского уезда и более 2/5 населения Березовского. Этой народности в настоящем моем очерке и отведено более широкое место, чем остальным инородцам. […] Остяки в массе отличаются добродушием, готовностью помочь каждому и строгою честностью. Они не питают друг к другу никакой вражды и живут миролюбиво. Нищенство остякам неизвестно: каждый бедный считает себя вправе приийти к более состоятельному и пользоваться у него пищею, в особенности после хорошего улова зверя или рыбы. Среди них существует даже род общественной благотворительности, в силу которой каждый престарелый и неспособный к труду остяк, если он не имеет родственников, кормится поочередно родичами. Честность остяка особенно сказывается в его отношении к долгам. Не уплатить долг, по понятию остяка, равносильно совершению преступления. Долги родителей уплачиваются их детьми; долг остается неуплаченным только в том случае, когда вымирает вся семья должника. В некоторых местностях за последнее время бывали случаи, когда дети отказывались платить за своих умерших родителей, но такие случаи как исключение встречаются очень редко. Убийства среди остяков, в силу миролюбивости их характера, можно с уверенностью сказать, совсем не встречаются. Остяк привык уважать чужую собственность, поэтому воровство и обман среди них чрезвычайно редки. Сданные остяку на хранение вещи берегутся, как собственные. Главный порок, имеющий большое распространение среди остяков, – это пьянство. Водку остяки пьют все: женщины и мужчины, старые и малые. Остяки дают водку даже грудным детям. Пьянство сопровождается почти всегда ссорами и драками, но последние никогда не осложняются раздорами после отрезвления и не влекут за собой тяжб. Самыми важными проступками остяки считают обман и прелюбодеяние замужних женщин. Последний проступок наказывается розгами. Например, однажды волостной сход подверг этому наказанию двух остячек из юрт Ермаковых и Покурских. Говоря о пьянстве среди остяков, необходимо упомянуть о том, что потребление водки в широких размерах одинаково существует и у других народностей севера – самоедов и вогулов. […] Из низовых самоедов продажей водки занимаются только люди богатые, которые нередко вывозят из Сургута по несколько десятков ведер каждый. Они даже специально скупают в Сургуте бутылки, чтобы потом разливать в них разбавленную водку. Вообще эксплуатация своих же соплеменников на почве продажи вина практикуется среди самоедов нередко. Продаваемая водка разбавляется водой почти наполовину. Самоеды ссужают своих бедняков в долг деньгами и оленями, требуя за это уплаты вдвое. Вогулы, как и самоеды, пользуются продажей водки в целях эксплуатации своих соплеменников. Водку они покупают как для себя, так и по заказу других. От ведра водки, купленной по заказу, вогул отбавляет обыкновенно до четверти ведра, недостающее количество он доливает водой. Заказчик, получая такую водку, в свою очередь разбавляет ее, настаивая для крепости табаком. Такую водку потребитель покупает по 1–11/2 руб. за бутылку. Пьянство среди вогулов обыкновенно тянется в течение продолжительного времени: они пьют с рекостава до положения ясака, во время самого положения и даже далее, всего около 4 месяцев, с октября по январь. Особенно большие размеры пьянство принимает у вогулов во время положения ясака. В июле 1904 года в Березовском и Сургутском уездах была введена винная монополия. Благодаря этому пьянство среди инородцев приняло грандиозные размеры: сеть казенных винных лавок сделала доступ водки в район инородческих поселений крайне легким, а низкая цена ее (48 коп. за бутылку) дала возможность местному населению потреблять алкоголь в значительно больших размерах, чем это было раньше. Тайная продажа вина по произвольной цене продолжает существовать и при монополии, как она существовала до нее. В обдорской винной лавке запас вина, достигавший к началу 1905 года 5000 ведер, был раскуплен еще до наступления съезда самоедов на ярмарку, когда спрос на водку обыкновенно усиливается; скуплено оно было зырянами и местными жителями в целях перепродажи инородцам отдаленной тундры по произвольной цене. Нельзя не упомянуть и о том, что винная монополия произвела весьма ощутительный отлив денег из края. Интересно, между прочим, что управлением неокладных сборов и казенной продажи питий по инициативе должностных лиц, близко стоящих к интересам инородцев, были предложены меры к ограничению сбыта инородцам водки в целях ослабления возникшего среди них неумеренного потребления алкоголя, но этот добрый почин не встретил сочувствия со стороны местной губернской администрации, признавшей, что нет никаких оснований стеснять инородцев в покупке питей «ввиду безнедоимочной уплаты инородцами ясака»2. Очевидно, по понятию губернской администрации, единственным мерилом для определения благосостояния инородца является исправная или неисправная уплата ясака; на самом деле количество взимаемого с инородца ясака настолько незначительно (около 90 коп. с души), что он всегда уплачивался ими безнедоимочно. Но времена меняются, и мы надеемся, что этот острый вопрос о борьбе с алкоголем, представляющим серьезнейшую опасность для благосостояния инородца, получит в непродолжительном времени должное и разумное разрешение. Общение инородцев с русскими и знакомство их с бытом русского крестьянина не остается без влияния на внешней и внутренней жизни инородцев. Поэтому там, где среди них разбросаны оазисами русские поселки или сами инородцы проживают вблизи границ сплошных русских поселений, наблюдается влияние на инородческий быт русской культуры. В настоящее время инородцы, живущие в близком соприкосновении с русскими, мало чем отличаются от последних по своему домашнему обиходу и материальному благосостоянию и представляются почти обрусевшими. Таковы, например, остяки, проживающие в Самаровской волости и живущие по Оби в Березовском уезде (между с. Самаровским и г. Березовом). В западной части Сургутского края русская культура сказывается только в ближайших к границе Самаровской волости населенных пунктах: юртах Балинских, Сахалинских, Тукаскиных и по р. Салыму. Что касается остальной приобской части Сургутского уезда, то на протяжении от Сургута до устья р. Ваха, приблизительно на 250 верст, среди инородцев царит бедность и грязь. От устья р. Ваха, по мере движения к нарымской границе, благосостояние остяков значительно улучшается, доходя почти до обеспеченности русского населения. Нужно заметить, что культура проникает туда из Нарымского края. Впрочем, на всем протяжении от Сургута до нарымской границы народ на вид весьма невзрачен, много людей, сравнительно нестарых, а уже седых, с головами, покрытыми струпьями, последние встречаются и у детей. […] Глава III. Религиозный культ инородцев Незнание инородцами русского языка, их невежество и вытекающая отсюда полная неосведомленность в деле выяснения основ христианской религии в связи с невозможностью частого посещения церкви, вследствие отдаленности ее, – все это является причиною того, что христианская религия для инородца совершенно мертва. Крещеный инородец выполняет христианские обряды по принуждению и бессознательно. Совсем иначе он относится к своим языческим обрядностям. Здесь он участвует сердцем, понимает и поэтому выполняет их в точности. Свои языческие верования он унаследовал от предков, и, как всякая традиция, они вошли в его плоть и кровь. Инородцы Тобольского Севера официально считаются православными христианами; в действительности же они только числятся таковыми. Правда, многие из инородцев имеют на шее крест, вешают в своих юртах иконы, но этим и исчерпывается вся их связь с христианской религией. По крайней мере, крещеный инородец, не покидая своих богов, переносит на новую религию свои прежние языческие понятия и воззрения. Вот почему религиозные взгляды инородцев представляют из себя смесь плохо привившегося христианства и язычества с преобладанием последнего. Инородцы признают существование верховного всемогущего существа (Торым у остяков и вогулов и Нум у самоедов), но представление о нем туманно и неопределенно. По воззрениям остяков (религиозные понятия которых мне более известны), Торым – бог света, бесплотный дух, один для всех веков, стран и народов. Хотя в руках Торыма находится судьба мира, тем не менее прямого отношения к человеку он не имеет. Непосредственное, ближайшее участие в жизни людей принимают низшие божества, с настроением которых остяку приходится считаться в своем повседневном быту. Эти низшие существа, среди которых есть добрые и злые, населяют окружающую природу; все они имеют божественное происхождение и находятся в подчинении у Торыма. Число их, равно как и определенная сфера их деятельности, выражающаяся в покровительстве тому или иному месту, тому или иному промыслу, у разных инородцев разнообразны.[…] Кроме указанных выше божеств, остяки почитают камни, отдельные деревья и т. п., служащие для них предметом поклонения в своем естественном виде. Из этих предметов становятся для них священными только те, которые представляют что-либо выдающееся, особенно по своим размерам, или представляют по своей внешней форме хотя бы даже отдаленное сходство с фигурой человека или животного. Большею частью среди остяков наблюдается поклонение возвышенным мысам или горам, в особенности если на них встретится какой-нибудь большой камень или громадное дерево. Самое поклонение выражается в том, что на них вешают ситцы, шали, шкуры лошади, овцы или оленя и даже кладут деньги. Из таких «священных» мест мне известна высокая сопка, называемая Колокольней и расположенная по р. Кул-егану у юрт Тюмкиных, затем Егутская гора по р. Югану; Каменный мыс на 3 версты выше г. Сургута; Барцев мыс на 8 верст ниже Сургута; на последнем находится большой круглый камень. То же самое можно сказать и о самоедах; камни, служащие предметом поклонения, имеют для них такое же значение, как и семейные идолы остяков, поэтому такие камни, если это позволяют их размеры, самоеды возят с собой на особой («шайтанской») нарте. Кроме того, из деревьев предметом их поклонения служит лишь сырорастущая лиственница, и то по указанию шамана. У них существуют, помимо «священных» сопок, «священные» воды. Свое поклонение самоеды, так же как и остяки, выражают в том, что вешают ситцевые лоскутки и, кроме того, совершают жертвоприношения; в последнем случае из принесенного в жертву оленя они оставляют на «священном» месте только кости и череп с рогами; череп непременно вешают на близстоящем дереве.
Лисий череп на самоедском мольбище 1909–1910 Российский этнографический музей. 1707–26 Некоторою степенью богопочитания пользуется у остяков медведь. Медведь, по их понятию, является представителем справедливости на земле. По происхождению он сын Торыма и некогда жил с ним на недосягаемой высоте. Свергнутый с неба за гордость, он упал нагой на землю между двумя деревьями и в таковом положении лежал долгое время, так что даже оброс мохом. Тогда он обратился к богу с мольбой, чтобы он его освободил и даровал ему вольную жизнь, не отнимая в то же время его высокого происхождения. Бог сказал ему: «Дарую тебе жизнь, будь медведем! Народ будет бояться тебя и будет клясться тобой – вот тебе один дар от неба, а все-таки тебя будут убивать и хоронить с почестями». Мох стал на нем шерстью. Некоторые свои божественные свойства медведь не утратил и в настоящее время: даже мертвый, он все знает и все видит, поэтому среди остяков распространена клятва над головой или лапой медведя. Остяк, нарушивший клятву или вообще провинившийся пред Торымом, неминуемо должен быть заеден медведем, который при встрече с человеком становится на задние лапы, чем испрашивает у Торыма, велит ли он ему задрать этого человека. У самоедов медведь не пользуется поклонением, как у остяков, хотя в то же время о его происхождении у них существует легенда, по которой медведь некогда был человеком, но, проклятый своим отцом, превратился в зверя. […] Глава IV. Административно-судебное устройство […] Все инородцы здешнего края управляются органами, именуемыми инородными управами, которые соответствуют русским волостным правлениям. Каждая управа состоит из инородческого старшины, двух его кандидатов и писаря и в свою очередь делится на волости или роды, соответствующие русским сельским обществам и заведываемые родовыми старостами при двух кандидатах, на обязанности которых лежит получение из казенных магазинов огнестрельных припасов, раздача их общественникам и взыскание с них ясака. При избрании упомянутых должностных лиц инородцы принимают во внимание способность избираемых, их трезвость и знание ими счета. Намеченное в старшины лицо приглашается в управу, где все собравшиеся с низким поклоном просят его взять на себя эту должность. Обыкновенно избранный отказывается от предложения, тогда ему опять кланяются. Так повторяется до трех раз, после чего новый старшина вступает в свои обязанности. Избрание в родовые старосты производится так: в более просторной юрте собираются родовичи и садятся в круг, посреди которого расстилается оленья шкура. Собравшиеся обсуждают, кого избрать в старосты. Затем избранное лицо в случае его согласия усаживают на шкуру и приносят сундук, ключ от которого вручается новому старосте. Возникающие между инородцами дела и иски в качестве первой инстанции решаются у остяков родовыми управлениями, а у самоедов – родовым старостой единолично. Второй инстанцией для остяков является управа и третьей – полицейское управление. Самоедам же в случае неудовольствия разбирательством старосты предоставляется право (ст. 280 Полож. об инородц.) вчинять иск общеустановленным порядком. На практике суд в вышеуказанной форме почти не существует, так как староста и его кандидаты за дальностью расстояния не могут собираться одновременно для составления коллегиального суда, а к единоличному разбирательству старосты инородцы обращаться избегают. Таким образом, возникающие претензии часто разбираются общим волостным сходом во время съезда инородцев для положения ясака. Съезды эти обыкновенно бывают два раза в год: в мае и декабре. На сходках при разбирательстве тяжб обращаются к свидетельским показаниям. Показания свидетелей принимаются на веру; обвиняемый же приводится к присяге, которая обыкновенно бывает двух родов. Раскладывается костер, и обвиняемому дается в руки топор, лезвием которого он должен ударить по огню со словами: «Сожги меня, огонь, если я сказал неправду». Этот род присяги имеет свое основание в свойственном всем полудиким племенам особом уважении к огню, как к священной стихии. Но самой распространенной клятвой среди инородцев является клятва головой или лапой медведя. Для этой цели употребляются черепа убитых медведей, сохраняемые инородцами на деревянных столбах или деревьях. Если обвиняемый приводится к присяге в тех юртах, где не имеется медвежьего черепа, то за ним посылается в другие юрты; за пользование черепом владелец получает известное вознаграждение. Клятва над головой или лапой медведя состоит в том, что обвиняемый в удостоверение своей невинности прикасается к ним лезвием топора и при этом произносит: «Задери меня, медведь, если я сказал неправду». Почти каждый остяк убежден, что такие клятвы, произнесенные ложно, не остаются безнаказанными, поэтому считающий себя неправым на клятву не соглашается и сознается в вине, произнесший клятву считается оправданным. Как меры наказания для провинившихся у инородцев существуют пеня, или штраф, розги (теперь не применяются) и арест при управе, а для неисправных в уплате ясака – отдача в заработки. Последний род наказания определяется и приводится в исполнение по приговору родового старосты, как лица, на которого возложены заботы по уплате ясака. Прочие наказания хотя и могут быть налагаемы старостами, но приведение их в исполнение бывает только с согласия старшины.
Казымские остяки Для иллюстрации судебного разбирательства у остяков привожу описание этого процесса, практикуемого у казымцев. В юрту собираются все мужчины и усаживаются по своим местам. Заявляющий жалобу подходит к старшине, кланяется ему, целует у него руку и начинает жалобу такими словами: «Разве можно так делать? А? Разве делают так, как вот меня избили (или выругали)?», и дальше потерпевший излагает обстоятельства самого дела, показывая при этом вещественные доказательства. Старшина спрашивает: «Кто так обидел тебя? Какой такой дурак? Выходи, на кого он жалуется». Если обвиняемый не выходит, то тогда сам обвинитель указывает на него. Тот выходит и всегда сознается в своей вине, хотя ссылается на смягчающие его вину обстоятельства. Происходит опрос свидетелей. Когда степень вины в достаточной мере выяснилась, старшина обращается к народу с такими словами: «Вот это худое дело, за это следует наказать. Так ведь, народ?» «Так, так», – отвечают ему. Старшина постановляет свой приговор и присуждает виновного к известному наказанию, которое обыкновенно состоит или в вознаграждении потерпевшего деньгами, или в выражении виновному порицания и выговора, или в присуждении его к нескольким ударам по щеке. Приговор приводится в исполнение сейчас же. Для этого десятник выводит обвиняемого на середину избы; водворяется молчание, все встают на ноги. Десятник становится перед обвиняемым на близком расстоянии и приводит приговор в исполнение: если обвиняемому присуждено выразить порицание, десятник ругает его раз пять или шесть; если же он присужден к телесному наказанию, то десятник дает ему положенное число пощечин. По исполнении приговора обвиняемый подходит к старшине, молится около него богу и вслух заявляет, что больше так поступать он не будет, причем кланяется в ноги старшине. Старшина при этом проводит крестообразно рукой по его спине, то же делает и потерпевший. Розгами в Казымской волости не наказывали никого. Если остяк украдет оленя, то через год он должен отдать четыре оленя, через два года – шесть, через три – семь и т. д. (на год по одному). Если остяк взыскивает долг, то он приносит с собою палочки (бирки), на которых замечена сумма долга, и предъявляет их старшине как документ. Если у должника нет денег, то он немедленно уплачивает процент; процент довольно высокий: например, за рубль по четыре белки в год, за десять рублей – четырнадцать в год. У самоедов практикуется та же система наказаний, причем пеня, взысканная с провинившегося самоедина, поступает в пользу обиженного. Наказание розгами всегда совершалось в присутствии ближайших к месту наказания самоедов; последние приглашались родовым старостой для той цели, чтобы присутствие при наказании служило для них вразумлением. Не явившиеся по приглашению старосты в свою очередь подвергались наказанию. Обыкновенно число розог бывало не ниже 5 и не выше 20. Самое наказание производилось в присутствии старосты, который садился на нарту и подбирал ноги под себя. Последнее делалось для того, чтобы присужденный к розгам не мог схватить старосту за ногу, потому что в таком случае, по установившемуся у самоедов обычаю, он освобождался от наказания, если ему было присуждено до 15 розог; присужденный к 20 розгам и успевший схватить ногу старосты получал только 5 розог. Вообще схватывание за ногу имеет среди самоедов особенное значение: бедный, обращающийся за помощью к богатому, в случае неуспешности своей просьбы, может таким путем принудить последнего исполнить свое желание. Во время своих разъездов старосты, по установившемуся обычаю, не возили с собой розог, поэтому наказание розгами могло производиться только у чума старосты. За неимением розог, били провинившегося по щекам, причем число ударов соответствовало количеству назначенных розог. Наказанию розгами одинаково подвергались и женщины, причем, в случае их беременности, как и вообще в случае болезни провинившегося, исполнение наказания откладывалось до выздоровления. Вообще телесное наказание у инородцев не бывало жестоким, но считалось позорным, и при взаимных ссорах наказанного таким путем нередко укоряли розгами; впрочем, подобные укоры в свою очередь влекли за собой наказание. Инородческое население пользуется землями на общинном родовом начале. Земли, находящиеся в пользовании каждого отдельного рода, составляют известную территориальную единицу, большею частью бассейн какой-либо реки. Границы этих территорий хорошо известны смежным соседним родам, и при пользовании угодьями они строго соблюдаются каждым родом, вторжения на чужую территорию без должного разрешения караются по обычному праву довольно строго. За отсутствием в крае хлебопашества, население продовольствуется хлебом, приобретаемым у местных торговцев. Для урегулирования в частной продаже цен на хлеб, существуют казенные хлебозапасные магазины, из которых отпускается инородцам мука и соль не только за деньги, но и в ссуду. Из этих же магазинов отпускается им порох, дробь и свинец. Все инородческое население несет те же повинности, что и русские крестьяне, за исключением воинской и дорожной. Введение последней, за отсутствием грунтовых дорог, не представляется необходимым; к отбыванию воинской повинности инородческое население и по умственному, и по физическому развитию является совершенно неспособным. Из окладных обложений инородцы уплачивают кабинетский ясак и губернский земский сбор. Помимо казенных платежей, существуют мирские повинности, налагаемые приговорами сходов для удовлетворения местных нужд. Размер всех вообще платежей простирается до 7 рублей в год на каждую платежную душу. В районах некоторых управ, например Юганской и Тундринской Сургутского уезда, плательщики в первые два года по зачислении в оклад облагаются лишь половинной суммой сборов. Глава V. Гражданско-правовой быт […] Степени родства соблюдаются остяками строго. Жениться на родственнице остяк считает грехом. «Не будет счастья», – поясняет он. В брак остяки вступают иногда очень рано. Случается, что остяк женится лет 14, когда он de facto становится уже взрослым, способным заниматься промыслами, когда отец начинает вносить за него половинный размер ясака. Брак заключается по воле родителей – ни сын, ни дочь личного участия в выборе невесты или жениха не принимают, никто даже и не спрашивает об их желании. Ввиду численного перевеса среди остяков мужчин, на возраст и внешнюю красоту будущей снохи отец жениха не обращает внимания. От будущей жены своего сына он требует лишь работоспособности. Впрочем, остяки даже в том случае, когда они вступают в брак самостоятельно, возрастом и эстетическими мотивами в выборе жены не руководятся. Поэтому неравные браки среди них не представляют исключительного явления. Так, например, один остяк из Бардаковских юрт женил своего 16-летнего сына на 40-летней остячке, а одна старуха 70 лет из юрт Комаровских, имевшая уже правнуков, вышла замуж за юганского 30-летнего остяка. Несовершеннолетний, 14-летний супруг живет со своей женой без венчания, потому что для вступления в брак требуется достижение мужчиною 18-летнего возраста. Когда супруги обращаются к священнику для закрепления своих уз, они оказываются уже семейными, имеющими иногда несколько человек детей. Всякий собирающийся жениться должен уплатить своему будущему тестю известную, обусловленную между ними сумму вознаграждения – калым. Основание калыма зиждется на тех соображениях, что отец невесты уже понес известные затраты на воспитание своей дочери, и, следовательно, отдавая ее замуж в том возрасте, когда она могла бы вознаградить его своей работой, он считает себя вправе взять за это с будущего своего зятя известный выкуп, который хотя бы отчасти покрыл произведенные им издержки. Такие соображения считают вполне справедливыми. Размер калыма колеблется от 10 до 100 и более рублей вещами, редко деньгами и зависит от обоюдного соглашения отца невесты и жениха, равно как от состоятельности того и другого. От этого последнего обстоятельства зависит и срок уплаты калыма. Если жених состоятельный, то он уплачивает калым сразу; в противном случае часть калыма вносится при сватовстве, а остальные части уплачиваются последующими взносами. Иногда уплата калыма производится в течение 2–3 лет и более. За своей дочерью остяк дает приданое. Приданое обыкновенно состоит из ношеного платья и обуви, которые имеются налицо. Особого приданого, как, например, у русских, не шьется, но необходимой составной его частью служит собака и собачья нарта. Эти последние предметы составляют атрибуты каждой хозяйки, потому что первой ее обязанностью считается заготовка для хозяйства дров, которые она перевозит с места рубки на собаках. У кого есть лошади, коровы или олени, тот к приданому прибавляет какое-либо из этих животных. Самое сватовство совершается так. Сват со стороны жениха вместе с самим женихом приезжают в селение, где живет намеченная невеста; при этом они останавливаются непременно в посторонней юрте. Сват, принарядившись, с посохом, который составляет необходимый атрибут каждого свата, является к отцу невесты и, низко кланяясь, объясняет ему цель своего прихода. По установившемуся среди остяков обычаю, отец невесты молчит. Не дождавшись никакого ответа, сват возвращается к жениху и передает ему о своей неудаче. Жених сейчас же посылает его вторично. Сват опять с низким поклоном старается вызвать отца невесты на разговор. Тот по-прежнему упорно молчит, и сват опять уходит ни с чем. Тогда жених по совету своего свата посылает его в третий раз, но уже с бутылкой водки. Этот, третий визит является решающим судьбу сватовства. Если отец невесты не желает выдать свою дочь, то он не возьмет угощения. В таком случае сватовство прекращается окончательно и жених отправляется домой. В случае согласия отец невесты выпивает несколько рюмок принесенной сватом водки, но по-прежнему не говорит свату ни одного слова. Обрадованный счастливым предзнаменованием сват возвращается к жениху и советует ему отправить с ним подарки. В четвертый свой визит сват от имени жениха подносит отцу невесты материи на халат, а матери невесты – шаль и угощает их из той же бутылки, которую носит с собой до конца сватовства. С этого визита отец невесты уже вступает со сватом в разговор. Не принимая в руки принесенных подарков, он заявляет свату, что дочь его не годится в жены, потому что она отличается сердитым характером. Сват старается разубедить отца невесты, но безуспешно; оставив подарки, он возвращается к жениху. Жених посылает свата в пятый раз, чтобы тот передал отцу невесты, что он согласен взять его дочь себе в жены и с указанным недостатком. В этот визит и в последующие отец невесты продолжает отказывать свату, ссылаясь на те или иные мнимые недостатки своей дочери. Наконец, когда жених изъявляет желание взять его дочь со всеми ее неприглядными качествами, которые тот поведал свату, отец поднимает вопрос о калыме, назначая последний в гораздо большем размере, чем какой решил взять. Начинается торг, жених предлагает калым в гораздо меньшем размере, постепенно его повышая, а отец невесты в свою очередь постепенно уменьшает его сумму, пока не наступит полное соглашение. Обыкновенно последнее подгоняется к 16-му визиту свата. Во время 16-го визита обе стороны приходят к окончательному соглашению и заканчивают процедуру сватовства рукобитием. Все 16 визитов делаются в один день, причем сват ведет им тщательный счет, делая зарубки на своем посохе. После 16-го визита жених в сопровождении свата и своей родни идет в юрту к невесте. Обыкновенно к приходу жениха в юрте невесты на нарах натягивается полог, под которым невеста ожидает своего жениха; вход под полог охраняет мать невесты. Жених входит в юрту и, желая открыть себе доступ к невесте, дарит ее матери вторую шаль; тогда последняя приподнимает полог и пропускает жениха. Жених и невеста садятся спиной друг к другу, и начинается общее угощение всех собравшихся в юрте. Обыкновенно тогда угощение главным образом в виде вина бывает со стороны жениха. В это посещение жениха отец невесты получает часть договоренного калыма. Пируют остяки обыкновенно до трех дней, после чего гости разъезжаются; жених на некоторое время остается в юрте уже в качестве мужа. Затем и он уезжает к себе домой, предварительно уговорившись о времени, когда он привезет остальной калым и возьмет с собой жену. Увоз жены пиром не сопровождается. Не всякий остяк в состоянии уплатить требуемый обычаем калым, поэтому среди несостоятельных остяков иногда встречаются случаи похищения невест. Похищение невесты возможно лишь с согласия последней. Совершивши кражу невесты и обвенчавшись с ней, зять старается примириться с тестем. Мировая между ними сопровождается угощением и подарками со стороны зятя. Впрочем случаи похищения невест среди остяков очень редки. Если жених или невеста умрут до совершения брака, а калым окажется внесенным до свадьбы, то последний возвращается жениху или, в случае смерти жениха, его ближайшим родственникам. Калым возвращается и в случае развода по вине жены. Развод среди остяков – сравнительно редкое явление. Он встречается только среди тех из них, которые не успели закрепить свои брачные узы венчанием. Браки, зарегистрированные священником, не расторгаются. Поэтому остяки избегают жить без венчания. «Так лучше, – рассуждают они, – а то или жених оставит невесту, или невеста убежит от жениха». Невенчанные браки расторгаются из-за несогласий, происходящих между супругами, и главным образом из-за сурового или несправедливого обращения с женою мужа. Бывают случаи, хотя очень редко, что жена покидает своего мужа ради увлечения другим остяком. Вообще развод становится предметом судебного разбирательства главным образом на почве требований возврата калыма или приданого. Общий волостной сход в присутствии старшины производит исследование, кто виноват в происшедшем разладе. Если неправым окажется муж, то с него требуют возврата приданого жены; в противном случае тесть обязывается или заставить свою дочь вернуться к мужу, или возвратить взятый им калым. Развод встречается и среди супругов, уже имеющих детей, в таком случае дети остаются у отца. Власть главы в семействе почти неограничена; хотя он не имеет права vitae ac necis, тем не менее ему беспрекословно повинуются все члены семейства. За смертью отца главою семейства становится старший сын, если только семья живет вместе. Весь семейный обиход лежит на обязанности жены: она шьет одежду для всех членов семьи, плетет из камыша ковры, готовит кушанье, носит воду, рубит и доставляет к юрте дрова, в случае надобности переносит с места на место юрту или чум и т. п. В то же время она следует за своим мужем, когда он куда-нибудь отлучается, даже в том случае, если его отлучка кратковременна. Муж занят исключительно своими промыслами, которые отнимают все его время. Отличительной чертой остяка как семьянина является его любовь к детям и к жене. Весьма возможно, что чадолюбие остяка объясняется его малой плодовитостью или повышенным процентом смертности остяцких детей. Во всяком случае, если у остяка больна жена или ребенок, он не отлучается из юрты даже для необходимых промыслов. Несмотря на бедность, остяк (насколько может) холит и лелеет своего ребенка. Большими симпатиями в семье пользуются мальчики. К пасынкам и падчерицам остяк относится холоднее и при первой возможности старается удалить их из своего семейства, боясь, чтобы естественная любовь к ним их родной матери не отвлекла ее внимание от забот о нем. Мне лично известен даже такой случай, когда один остяк, женившийся вторично, по настоянию своей второй жены удалил из семейства своего родного сына. Отношение детей к родителям сравнительно хорошее, и если первые не выказывают последним особой нежности, то это объясняется исключительно природной грубостью их. Случаи драки между родителями и взрослыми детьми составляют явление очень редкое, вызываемое лишь высокой степенью опьянения, когда рассудок перестает руководить действиями и поступками. Наследственное обычное право у остяков развито слабо. Обыкновенно в наследстве участвуют только мужчины, на женщин наследственное право не распространяется. По смерти главы семейства имущество делится между сыновьями, и то только между теми, которые жили вместе с отцом; те же, которые выделились из семьи, хотя бы они были старше, в дележе наследства не участвуют. Мать-вдова идет на попечение одного из своих сыновей, получивших долю в отцовском наследстве. Если после смерти главы семейства остались несовершеннолетние дети, то все имущество, как движимое, так и недвижимое, поступает в ведение вдовы которая является опекуншей над своими детьми до наступления совершеннолетия сыновей. В тех случаях, когда вдова не в состоянии поддерживать оставшуюся семью, опекуном становится ближайший родственник; тогда все движимое имущество умершего становится собственностью опекуна, за что он в свою очередь должен принять к себе на попечение вдову со всем ее семейством. Недвижимое имущество поступает лишь во временное пользование родственника, впредь до совершеннолетия сыновей умершего. Опека вдовы над своими детьми прекращается и в том случае, когда она вступает в новый брак. Недвижимое имущество, как-то: рыболовные угодья, кедровники и т п. – не становится объектами наследства потому, что все подобные местности составляют родовую собственность и отдельные семейства владеют ими лишь на праве пользования. Что касается юрты, то этот род недвижимого имущества не переходит по наследству из присущей всем остякам боязни к покойникам и ко всему тому, что соединяется с воспоминанием о них. Поэтому юрта, где умер глава семейства, оставляется его детьми и родственниками на произвол. Муж наследует жене; жена же наследует мужу только в том случае, когда он умрет бездетным и живет отдельно от своего отца и братьев. Когда после умершего нет прямых наследников, имущество его переходит к ближайшим родственникам по мужской линии. Завещаний среди остяков не существует, и наследниками посторонние лица быть не могут, если бы даже на то и была воля умершего. Те угодья, которыми известное семейство или род владеют на правах пользования, считаются неприкосновенными, поэтому эксплуатация таких мест посторонним лицом считается правонарушением, наказуемым остяками по обычному праву (обыкновенно у такого лица отбирается то, чем оно воспользовалось на чужом угодье, и, сверх того, на него налагается штраф). Границы угодий у остяков определены точно. Границами служат обыкновенно речки и мысы. Уважая права собственности, остяк не позволяет себе охоту на чужой территории. Если во время охоты зверь перебежит в пределы чужого угодья, остяк прекращает свои преследования; если же он убьет его на чужой земле, то, по установившемуся среди остяков обычаю, охотник шкуру убитого зверя отдает владельцу той территории, на которой он убил его, а мясо берет себе. У остяков считается также проступком срубить в пределах чужого угодья дерево пригодное для челна. Интересен в этом отношении следующий случай, ставший предметом судебного разбирательства у казымцев. Остяк Мазьянских юрт срубил у выргинских остяков кедр и сделал из него лодку. Когда на суде было указано, что кедр принадлежал выргинским остякам, то лодка перешла во владение последних; кроме того, за свой самовольный поступок мазьянский остяк принужден был уплатить штраф в размере 10 рублей. Свои угодья, главным образом рыболовные, остяки сдают в аренду русским промышленникам. Аренда заключается формальным порядком. Формы договоров и сделок, существующих в практике остяка, немногочисленны: ему известны дарение, купля-продажа, личный наем и займы. Дарение среди остяков встречается довольно часто, но практикуется оно преимущественно между родственниками. Дарение не всегда вызывает отдаривание. Некоторые обстоятельства из личной или семейной жизни, как например сватовство, всегда сопровождаются подарками. Дарение у остяков юридического характера не имеет. Наиболее распространенной среди остяков формой юридических сделок является купля-продажа. Единицей ценности при купле-продаже служит рубль. Купля-продажа никакими формальностями не сопровождается. Личный наем среди остяков встречается только в одной форме, когда остяк нанимается в рабочие к русскому рыбопромышленнику. Личного найма между остяками не существует. Наем в существующей у остяков форме всегда заключается формальным договором, засвидетельствованным местной инородной управой, а иногда даже нотариальным порядком. Одним из видов личного найма, практикуемого в рыбопромышленных районах, является наем из «пая». Заем встречается как между остяками, так между ними и русскими. Объектом этого рода служат только деньги. Предметы домашнего обихода, как-то: мука, чай, хлеб, порох и т. п. – тоже служат предметами займа, но последний в этом случае носит частный характер и юридически не закрепляется. Заем иногда не сопровождается формальным договором, а зиждется исключительно на взаимном доверии заключающих сделку сторон. Формальное заключение займа выражается в передаче объекта при свидетелях или под расписку. Расписка как обеспечение заключенной сделки встречается только в тех местах, где остяки подверглись известной степени обрусения. За неграмотностью, а часто даже за полным незнанием русского языка, остяк необходимую в расписках подпись заменяет прикладыванием «тамги». Тамга есть рукописный знак, исстари принадлежащий известному роду (соответствующему русскому сельскому обществу). Тамга представляет собою в большинстве случаев изображение какого-нибудь животного, составлявшего главный предмет охоты или хозяйства известного рода еще в то время, когда тамга была присвоена роду. Условия жизни того или иного рода с переселением его на новое место могли подвергнуться существенному изменению: прежние промыслы замениться новыми, одно хозяйство сменить другое, и тем не менее тамга оставалась прежней. Так, например, тамга подгородной Тром-Юганской волости (входящей в настоящее время в состав Локосовской инородной управы Сургутского уезда) представляет изображение оленя, который был главным объектом промысла этих инородцев, когда они еще жили на Тром-Югане. Расселившись затем по Оби, эти инородцы из оленеводов превратились исключительно в рыболовов, и от прежнего их хозяйства сохранилось одно лишь воспоминание, тем не менее тамга у них осталась прежней. Остяки Сургутского уезда, входящие в состав той или другой инородной управы, имеют тамгу со следующим изображением: у Тундринской управы – тетерев и олень, у Юганской ” – тетерев, олень и соболь, у Локосовкой ” – олень и лук, у Лумпокольской ” – елка, у Ларьятской ” – елка. В настоящее время по закону тамга не имеет юридического значения. В пунктах, отдаленных от русских поселений и торгового тракта, расписки заменяются деревянными бирками. Обыкновенно на небольшом бруске делаются зарубки, число которых соответствует количеству взятых в заем предметов. Если уплата долга происходит по частям, то количество зарубок, соответствующее количеству отданных предметов, срезывается по мере поступления долга. Иногда брусок раскалывается вдоль, при чем одну часть бруска заимодавец оставляет у себя, а дубликат отдает должнику. Вообще расписки и свидетели, обеспечивающие заем, если последний заключен между остяками, встречаются чрезвычайно редко. Присущие остякам честность и взаимное доверие достаточно гарантируют заключенные между ними сделки. Артельные начала мало свойственны остякам; если среди них встречаются небольшие артели (из 3–4 человек), занимающиеся рыболовством, то это явление объясняется физической невозможностью пользоваться неводом иначе. То же можно сказать и относительно медвежьей охоты, на которую остяки идут сообща. Артель рыболовов, если она состоит из лиц, принадлежащих к разным семействам, делит добытую рыбу на соответствующие доли. При медвежьей охоте добыча становится собственностью нашедшего логовище зверя. Участникам охоты он ставит угощение, состоящее из медвежьего мяса и т. п. Некоторые особенности представляет правовой быт кондинских остяков. Последние на всякое преступление смотрят, как на навождение злого духа. Тем не менее к преступникам они относятся с презрением. Сумасшедших не судят и преступления им в вину не ставят. Если преступление было вызвано голодом, то к совершившему преступление относятся снисходительно и не наказывают его. Главный виновник и сообщники наказываются одинаково. По народному обычаю, тяжкими преступлениями считаются убийство и грабеж, а менее важными кража, мошенничество и др., подобные им. Виновного в изнасиловании девицы обязывают взять потерпевшую замуж. У кондинских остяков во всех преступлениях, кроме убийства, преступник может искупить свою вину, испросив прощение у потерпевшего и, во всяком случае, вознаградив его деньгами или чем-либо другим. Дети, оскорбившие своих родителей словом или действием, призываются на сходку, где их обязывают публично просить у родителей прощение и поклониться им в ноги. Родовой мести у них не существует. Понятие о делении имущества на движимое и недвижимое у кондинских остяков туманно и неопределенно. Одним из оснований приобретения вещей в собственность или пользование служит, кроме дарения, наследства и т. п., еще и выдел. Давности владения имуществом как источника права у них нет, но бывают случаи, что остяк на свободном чужом участке промышляет зверя и рыбу до тех пор, пока не явится хозяин. Угодья имеют только какие-либо естественные границы, межевых знаков не существует. Гражданско-правовой быт самоедов в общих своих чертах тот же, что и быт остяков, за исключением прав наследования. В то время как среди остяков право наследования распространяется только по мужской линии, у самоедов это право переходит и на женщин. Кроме того, среди самоедов существует обычай оставлять после себя духовные завещания. В остальном гражданско-правовой быт этих двух народностей существенного различия не имеет. У самоедов, как язычников, церковного брака не существует. Все сводится к обыкновенной купле-продаже. Отсутствие церемоний сватовства и даже пира, которым бы сопровождалось заключение брака, еще более подчеркивает положение невесты как товара. Только по привозе молодой жены в свой чум, самоедин колет оленя, но и это последнее обстоятельство не носит характера свадебного пиршества, какое имеет место у остяков. Нередко жену для своего сына отец покупает заблаговременно, еще в детском возрасте, так что до наступления возмужалости жених и невеста растут вместе как брат и сестра. Случается, что и пожилые вдовцы покупают себе маленьких девочек и взращивают их. «Счастья мне не было с большой, – говорит вдовый самоедин, – попробую выращу маленькую». Калым и приданое у самоедов имеют большее значение, чем у остяков. Самый бедный самоедин платит калым в количестве 15–20 оленей, и притом непременно важенками, обыкновенная цена которой от 6 до 8 рублей. Калым уплачивается вперед, а… затем увозят невесту. Малосостоятельные самоеды уплату калыма производят в несколько сроков, смотря по обоюдному соглашению обеих сторон. Похищение невесты встречается у самоедов только в том случае, когда жених не сошелся с отцом невесты в размере калыма, а следовательно, оно вызывается лишь материальными соображениями. Однако этот способ приобретения себе жены обыкновенно влечет еще больший расход со стороны жениха, так как отец невесты, кроме калыма, требует с похитившего его дочь еще своего рода пеню. Инородческий суд в таких случаях всегда склоняется в пользу отца невесты. Вообще нужно заметить, что случаи похищения невест среди самоедов, как и среди остяков, весьма редки. Соответственно ценности калыма невеста приносит приданое. Так, например, если за невесту платится калым в 30 оленей, то невеста обязана принести половину чума (2 нюги) и соответствующую этой половине подстилку, 2 нарты под них, отдельную нарту для себя и 2–3 оленя со сбруей; кроме того, 2 ягушки, обувь и проч. Этим приданое не исчерпывается. По установившемуся обычаю, жена ежегодно навещает своих родителей с целью получения от них подарков. Последние обыкновенно состоят из платья, так что мужу почти совсем не приходится расходоваться на одежду для своей жены. Самоеды по этому поводу рассуждают так: муж уплатил за жену калым в количестве, например, 30 важенок, тем самым он значительно увеличил состоятельность тестя, так как каждая важенка обыкновенно телится ежегодно, отсюда совершенно справедливо со стороны тестя делать ежегодные подарки в пользу своего зятя. Кроме этого рассуждения, основанием ежегодных подарков является естественная заботливость родителей о своей замужней дочери. Вообще этот обычай настолько укоренился среди самоедов, что родители заблаговременно готовят одежду к приезду своей дочери. Иногда вместо одежды дарят оленя. Если тесть живет сравнительно близко, то зять сам привозит к нему его дочь, доставление ее обратно обыкновенно лежит на обязанности тестя. Характерно то обстоятельство, что если жена явится от своего отца без подарков, то муж считает за тестем долг в размере одного оленя. В том же случае, когда тесть и зять живут очень далеко друг от друга, так что ежегодные поездки жены к своему отцу невозможны, то муж не требует подарков от отца жены и долга за ним не считает. Развод среди самоедов встречается по тем же побуждениям, как и среди остяков. В тех случаях, когда развод происходит по вине мужа, отец жены обязывается возвратить своему бывшему зятю половину калыма; если же развод вызван со стороны жены, то калым возвращается весь. Если жена уходит к другому самоедину, увлекшись последним, то суд увещевает ее возвратиться к своему прежнему мужу; в случае же ее несогласия присуждает обольстителя уплатить стоимость калыма в пользу обиженного мужа. За несогласие подчиниться этому приговору оба, жена и ее обольститель, приговариваются к розгам. В конце концов самоедин, конечно, соглашается на уплату калыма. При всех случаях развода дети остаются у отца. После смерти своей жены самоедин берет ее сестру. На овдовевшей мачехе женится ее пасынок. Последний объясняет свой поступок рассуждением: «Отец деньги за нее давал – нельзя отпустить». Что же касается положения жены и детей в семье, то оно таково же, как и у остяков, с той лишь разницею, что заготовка дров для хозяйственных надобностей лежит у самоедов на обязанности мужчин; на обязанность женщин, вместо этого, возлагается установка и разборка чума. Затем, ввиду громадного значения среди самоедов калыма, дочь пользуется большим вниманием, чем сын, так как она для семьи представляет значительную ценность. В области обычного права самоеды немногим отличаются от остяков. Глава VII. Одежда […] Главным материалом для одежды большинства инородцев служат оленьи шкуры. Можно с уверенностью сказать, что почти вся одежда самоедов, а также оленеводов-остяков и вогулов шьется из оленьих шкур. Сравнительно недавно и главным образом в местностях, находящихся вблизи русских населенных пунктов, стали входить в употребление изделия фабричного производства. Но в общем и в настоящее время громадное большинство инородцев одевается по преимуществу в приготовленную ими одежду. Начну с остяков. Прежде чем что-либо сказать об одежде взрослых, я скажу несколько слов о том, как остяки одевают ребенка после его рождения и какие дополнения и прибавления к его одежде делаются в каком возрасте. Остяки новорожденных ребят не пеленают. Обыкновенно ребенка завертывают в нарочно для того сшитую заячью шкуру. Последняя имеет широкую прореху, так что зад ребенка остается свободным для отправления естественных потребностей. Подстилок не употребляется; вместо них, в люльку насыпают измельченное гнилое таловое дерево, которое по мере надобности переменяют. В люльке ребенок помещается в полусидячем положении, отвалившись на высокую спинку. По мере роста ребенка люльки меняются на большие. Через 3–4 месяца по рождении на ребенка надевают рубаху, которая шьется обыкновенно из старого полога. Годовому ребенку шьется обувь (ноговицы) и заячья одежда. Ребенок находится в люльке до тех пор, пока не научится ходить. С этого времени он пользуется одеждой, какую носят и взрослые, кроме штанов. Когда ребенку исполнится лет 6–8, его учат ходить на лыжах; для этого ему делаются маленькие лыжи соответственно его физическому развитию. В это время он получает первые штаны. Ребенок, научившийся ходить на лыжах, следует за взрослыми родителями и приучается к работе, соответствующей его полу. Постоянной одеждой остяка без различия времени года служат рубаха, штаны, жилетка, халат, зипун и пояс. Мужская рубаха… шьется с прямым разрезом на груди и широким отложным суконным, редко байковым, воротником; обшлага рукавов и ластовицы шьются из другой какой-нибудь материи, отличающейся своим цветом от рубахи; разрез на груди иногда обшивается цветной полоской из какой-нибудь материи; ворот большею частью делается из черного сукна. Обшлага, разрез на груди и концы ворота украшаются иногда вышивкой из цветных ниток и оленьей шерсти. Русские рубахи, купленные в готовом виде, носятся остяками без изменений. Остяки носят рубахи всегда навыпуск. Покрой штанов не имеет никаких особенностей, они шьются лишь короче, чем у русских приблизительно на 1/4 аршина, иногда они бывают с карманами. В местностях, где развито оленеводство, встречаются короткие штаны, сшитые из ровдуги, – выделанной оленьей кожи без шерсти. Жилетки у остяков такие же, как и у русских. Халаты …имеют обыкновенный покрой и шьются из цветной материи без подкладки; ворот у них бывает такой же, как и у рубах; ластовицы шьются из материи другого цвета; рукава, подол и правая пола оторачиваются узкой полосой меха, преимущественно выдры. Никаких застежек и пуговиц на халатах не бывает; их заменяют завязки из материи или ремня, пришиваемые к полам. Украшений на мужских халатах не встречается. Зипун представляет из себя обыкновенный халат, только длиннее последнего; он весь шьется из белой байки. Подпоясывается остяк обыкновенной опояской, приобретаемой у русских. Необходимой принадлежностью каждого пояса, будет ли то мужской или женский, служат ножны с ножиком. Кожаные пояса встречаются редко. Мужские пояса никаких украшений не имеют. К своим поясам остяки, кроме ножен, прикрепляют еще небольшую кожаную сумку, в которой они держат при себе трут и кремень, огниво. Перечисленная одежда носится остяком летом; в это время года он редко носит обувь и фуражку. Последняя одевается им лишь в особых случаях, например, когда он идет в гости, встречает начальство или отправляется в далекий путь. Обыкновенно остяк носит на голове легкий платок, не столько от лучей солнца, сколько для защиты шеи от комаров; для этого платок набрасывается на голову так, что он закрывает голову и шею и завязывается под подбородком. Остяк ходит летом в большинстве случаев босым. Летней обувью для него служат бродни, ноговицы и сапоги. Бродни остяк употребляет только при неводьбе, и то в холодную погоду ранней весной и осенью. Ноговицы представляют из себя сапоги, низ которых шьется из кожи, а голенища – из холста или байки. Там, где развито оленеводство или где существует промысел дикого оленя, встречаются ровдужные ноговицы, головки и голенища которых шьются из ровдуги. Сапоги остяк употребляет в особых случаях, как и фуражку. Рукавицы летом употребляются только при неводьбе; чтобы они не промокали, их смазывают дегтем. Головным убором в зимнее время служат для остяка треух, шаль и шапка. Треух представляет из себя род чепца, завязывающегося под подбородком; шьется он из выдры, из кисов оленя или теленка, из лисьих или собольих лап. Треух из кисов оленя или теленка шьется полосами, причем темные полосы чередуются со светлыми. Обшивается он мехом колонка или выдры. Сверху треуха остяк иногда окутывает голову шалью; последнее он делает, когда, напр., отправляется на промысел. Иногда он носит шаль и без треуха; в таком случае шаль надевается так, что она, закрывая голову, переплетается на груди и завязывается за спиной. Шапки остяки покупают у русских и носят их в особых случаях; вообще шапка и шарф составляют для остяка род праздничной одежды. Зимней верхней одеждой служит шуба, которая шьется главным образом из зайца, затем из шкуры птиц (гагар и уток), из шкуры оленя и иногда из беличьих лап. Шуба имеет покрой одинаковый с халатом. Воротники шьются из головок зайца, шкуры росомахи и выдры, из лап лисицы и соболя. Вообще воротник считается украшением шубы, и потому на материал, из которого он делается, обращают особенное внимание. Сверху шубы всегда надевается летний халат. Ноги зимой обертываются чесаной травой, редко – онучами. Зимние ноговицы те же, что и летние; отличие между теми и другими заключается лишь в том, что для подошв зимних ноговиц употребляется шкура лошади шерстью наружу. Это делается для того, чтобы нога не скользила. Более состоятельные остяки шьют головки зимних ноговиц из оленьей шкуры шерстью внутрь, а подошвы – из шкуры оленьего лба шерстью наружу. Ваховские остяки шьют головки не из оленьей шкуры, а из оленьих кисов, притом шерстью наружу. Зимние рукавицы шьются из оленьей или конской шкуры шерстью внутрь. На рукавицах, поперек ладони, имеются прорехи, предназначенные для того, чтобы в случае надобности легко можно было освободить пальцы, не снимая самих рукавиц. Ваховские остяки шьют рукавицы из оленьей шкуры шерстью наружу; внутри такие рукавицы обшиваются заячьим мехом, иногда внутрь кладется чесаная трава. Одежда женщины очень немногим отличается от одежды мужчины.
Женская рубаха, вышитая шерстью салымской остячкой Женская рубашка длиннее мужской, причем разрез на груди и обшлага вышиваются цветными узорами. Штаны короче мужских; они шьются без всяких украшений. Жилетов женщины не носят. Халаты отличаются от мужских лишь тем, что украшаются цветными вышивками, бисером или вылитыми из олова узорами. Кроме того, женские халаты шьются из грубого холста. Такие халаты украшаются узкими полосками цветного ситца, который нашивают в несколько рядов на рукавах, подоле и по борту правой полы. На голову женщины летом надевают обыкновенный цветной платок, а зимой – сверху платка шаль. Пояс… составляет одно из главных украшений одежды женщины. Он представляет собой кусок цветной байки, преимущественно красного цвета, в 3 вершка шириной. К нему прикрепляются ножны с ножом. От конца ножен к поясу идет цепочка, на которую надеваются различные побрякушки и украшения. В некоторых местностях пояс шьется из цветного сукна или какой-нибудь другой материи; он делается на подкладке. Наружная сторона такого пояса украшается цветными вышивками, бисером и оловянными узорами. Очень часто к поясу и ножнам привешиваются цепочки, колечки, колокольчики и разные побрякушки. Все это звенит при каждом движении остячки. Во всем остальном одежда женщины та же, что и одежда мужчины, и только зимние ноговицы в том месте, где голенища пришиваются к головкам, имеют цветную обшивку с узорами. Здесь уместно будет сказать о способе ношения женщинами волос. Остячки, все без различия, заплетают обыкновенно две косы. Косы эти берут начало на передней части головы, немного выше висков, и затем обматываются вокруг головы. Ношение кос нередко наблюдается и среди мужчин (остяков и вогулов). Среди остяков, как женщин, так и некоторых мужчин, распространено ношение на пальцах колец. Мужчины носят их до 5 штук, а женщины до 20–25. Кольца эти бывают медные и жестяные. Их надевают на нижние суставы трех средних пальцев обеих рук, причем щегольство свое женщины выражают тем, что стараются заполнить весь нижний сустав указанных пальцев. […] Глава XI. Оленеводство […] Оленеводство в приполярном севере – настолько важная отрасль народного хозяйства, что без него невозможно там самое существование человека. Для жителя полярного севера олень служит не только средством передвижения, но дает ему пищу, одежду и кров, а избыток шкур и мяса выменивается на необходимые в обиходе туземцев ввозные предметы. Оленеводство в жизни населения играет настолько видную роль, что самая жизнь его приноровлена к потребностям и жизни этих полезных животных. Оленеводство распространено здесь далеко на юг, до сургутской Оби (61˚ с. ш.), переходя даже за Обь (исключительно по р. Югану), но в этой южной зоне оно развито сравнительно в малой степени и служит лишь для удовлетворения насущных нужд местных жителей (средства передвижения и отчасти пища и одежда)/ […] Среди остяков оленеводство развито слабо, и только по мере движения на север оно постепенно возрастает. Так, ниже Березова нет уже вовсе лошадей, за исключением имеющихся на земских станциях и у русских в сс.: Мужах, Кушевате и Обдорске. По произведенному мною статистическому подсчету оленеводства, оказывается, что оно у вогулов и остяков, обитающих в зоне высокоствольных лесов (часть Березовского уезда южнее 64 параллели и весь Сургутский), неблестяще и с трудом удовлетворяет потребностям передвижения. Число оленей на хозяина в среднем не превышает 23, число же безоленных хозяев достигает местами 40% населения. Подавляющее большинство оленей принадлежит обитатаелям тундры – самоедам. Каким именно количеством оленей владеют последние – неизвестно; неизвестно и самое количество самоедов. […] Зырянское население в здешнем крае год от года значительно увеличивается благодаря постоянному и равномерному приливу сюда этой народности. Первое зырянское семейство появилось на Тобольском Севере еще в 1842 году и поселилось на месте нынешней деревни Саран-пауль. В 1903 году их уже насчитывалось до 300 семейств, свыше 1500 душ обоего пола; из них половина имеет здесь собственное домообзаводство. Зыряне в настоящее время живут оседло в с. Щекурьинском и дер. Саран-пауль (по р. Ляпину), в с. Няксимвольском и Сартыньинском (по р. Сосьве), по р. Манье, в г. Березове, в селениях Мужах, Обдорске и Хэ, а также по р. Надыму. Что касается кочевых зырян, то кочевья их раскинуты по Уралу от р. Ляпина почти до Байдарацкой губы, а с запада на восток от Урала до Оби, за Обью кочуют до р. Надыма и даже далее за Надымом. Наличность зырян среди кочевых и бродячих инородцев Тобольского Севера имеет то важное значение для последних, что зыряне, в силу кочевого образа жизни, более русского населения способны к проведению экономических улучшений в глухих и малодоступных местностях края. Такие важные на севере статьи народного хозяйства, как оленеводство и рыболовство, в руках одних местных инородцев остаются в зачаточном состоянии, тогда как в руках зырян тот и другой промысел заметно улучшается. Достаточно сказать, что уже одно появление зырян в Обдорском крае нанесло сильный удар легкому обогащению русских торговцев за счет инородцев. Зыряне, скупая здесь по более высоким ценам шкуры оленей, убитых зверей и предметы промыслов, серьезно конкурируют с местными русскими капиталистами и значительно повышают цены на предметы инородческих промыслов. […] Сравнивая способы и приемы ведения оленеводства зырянами и тобольскими самоедами, мы должны согласиться, что первые сумели значительно развить эту отрасль хозяйства и сделать ее производительной. Тобольский самоед требует от оленя только одного, чтобы он давал ему самое необходимое для его неприхотливой жизни, т. е. пищу и одежду; он нисколько не заботится об увеличении числа оленей и извлечении из своего стада денежных выгод; зырянин, наоборот, стараясь увеличить число принадлежащих ему оленей, извлекает из них возможные выгоды и разумно пользуется как оленями, так и продуктами, получаемыми от этих полезных животных. […] Насколько зыряне сравнительно со всеми инородцами севера развили у себя оленеводство, можно видеть из того, что у них одних существует экспорт оленьего мяса за границу, в Германию. Глава XIII. Художественные изделия и музыкальные иеструменты […] Музыкальными инструментами остяков являются домра, бубен, тонкая костяная пластинка и лебедь. Из них самым употребительным инструментом является домра, а более совершенным – лебедь. Среди ваховских остяков встречаются самодельные скрипки.
Музыкальные инструменты Домра представляет узкий, продолговатый ящик. Она делается из тонких еловых или пихтовых дощечек. Обыкновенно длина домры бывает около 6 четвертей, ширина – около 4 вершков и высота – около 21/2 вершков. Дно домры полукруглое, нижний конец имеет закругленную форму, а верхний раздвоен. Верхняя доска (дека) прямая. На ней в нижнем конце круглое отверстие величиною в медный пятак. От середины доски по направлению к ее верхнему концу вырезаны круглые дырочки. В раздвоении верхнего конца домры вставлен стержень. Струны прикрепляются, как и у обыкновенных струнных инструментов, на нижнем конце доски. Для подтягивания и настройки струн служит вышеупомянутый стержень, за который завертываются противоположные концы струн, снабженные косточками (утиными) величиною в вершок; косточки эти заменяют колки. Во внутренность домры опускается несколько кусочков крупной соли, которые при встряхивании придают домре гремучесть. […] Костяная пластинка к одному концу немного расширена, середина ее вырезана вдоль, параллельно бокам, причем вырезанная часть держится у широкого конца и имеет вид узкого, длинного язычка, на широком конце которого сделано два маленьких отверстия. Длина пластинки 12 сант. и ширина 11/2 сант. Лебедь (тор по-остяцки) общими очертаниями напоминает фигуру лебедя без хвоста; туловище имеет вид суживающегося по направлению к груди ящика. Посредине вдоль ящика приклеена ребром узкая деревянная пластинка длиною в 49 сант.; от заднего конца пластинки к голове лебедя перекинута деревянная дуга; длина ящика 79 сант., высота 10 сант., ширина в задней части 16 сант., в передней 10 сант., шея лебедя длиною 45 сант. На задней части шеи лебедя сделана глубокая выемка, а по бокам шеи в отверстиях устроены колки, на которые натянуто девять металлических струн, прикрепленных внизу к узкой пластинке на туловище лебедя. Шея лебедя испещрена резьбой и украшена гвоздями с широкими медными головками; параллельно шее идет небольшая пластинка, украшенная резьбой. К голове лебедя приделан грубо сработанный клюв; на месте глаз находятся отверстия с продетыми в них проволочными петлями; к последним привешены на кольцах по обеим сторонам лебедя разноцветные ситцевые и суконные ленты и кисти из бисера с медными круглыми бляхами на концах. Приложение I. Село Обдорск, его прошлое и настоящее […] В настоящее время в с. Обдорске насчитывается 116 домовладельцев, составляющих 1061 душу обоего пола (Список населенных мест Тобольской губ., изд. 1904 г.)3. Из них приблизительно 40% крестьян, 20% зырян, 20% лиц разных других сословий и 20% инородцев разных волостей. В селе имеются 2 церкви (приходская и миссионерская), духовная миссия, сельское двухклассное училище, церковноприходская школа, школа для инородческих детей с пансионом (при духовной миссии); все эти учебные заведения для детей обоего пола. Кроме того, инородческая больница и при ней бесплатный приемный покой для крестьян, почтовое отделение, две инородные управы (остяцкая и самоедская), хлебозапасный магазин, сельская общественная бесплатная библиотека, метеорологическая станция II разряда, казенная винная лавка и пожарный обоз. В с. Обдорске имеют свое местопребывание мировой судья, акцизный контролер, становой пристав, полицейский урядник, объездной участковый врач, медицинский фельдшер и повивальная бабка. В Обдорске имеются 19 постоянных лавок. С 1 по 21 января в Обдорске бывает ярмарка. […] Приложение II. Город Березов, его прошлое и настоящее […] Город Березов лежит под 63˚56’ север. шир. и 34˚44’ вост. долг. …и расположен на левом берегу р. Сосьвы при впадении в нее р. Вогулки с правой стороны последней; устье р. Сосьвы находится ниже города в 36 верст. […] В настоящее время в Березове насчитывается 159 домовладельцев, составляющих 1715 душ обоего пола (Список населенных мест Тобольской губ., изд. 1904 г.)4. В городе имеется 2 церкви5, 2 часовни, мужское 3-классное училище, женское приходское училище, церковноприходская школа для детей обоего пола (всего обучалось в 1904 году 109 человек детей: 82 мальчика и 27 девочек). Кроме того, инородческая больница и при ней аптека, инородческая богадельня, почтовая контора, уездное полицейское управление, полицейский надзиратель, городское общественное управление, казначейство, сберегательная касса, березовская местная воинская команда, тюремный замок, две инородные управы, Подгородная и Казымская, и одно волостное правление (Березовской городовой волости), хлебозапасный магазин, общественная библиотека, метеорологическая станция II разряда, казенная винная лавка и пожарное депо. В Березове имеют свое местопребывание мировой судья, податный инспектор, помощник акцизного надзирателя, врач, два фельдшера и повивальная бабка. […] Приложение III. Город Сургут, его прошлое и настоящее Город Сургут лежит под 61˚17’ сев. шир. и 43˚ вост. долг. (от Пулкова) на 145 фут. выше уровня моря. Он находится в 285 верст. выше устья р. Иртыша и расположен по правую сторону р. Оби в версте с небольшим от нее, на правом берегу протоки, именуемой ныне Бардаковкой, при впадении в последнюю незначительной речки, называемой ныне Саймой. Против города с левой стороны р. Оби лежит устье незначительной речки, называемой ныне Сургуткой. […] В настоящее время в Сургуте насчитывается 230 домовладельцев, составляющих 1222 души обоего пола (Список населенных мест Тобольской губ., изд. 1904 г.). В городе имеются 2 церкви, 3 часовни, мужское начальное городское училище, женская церковноприходская двухклассная школа (всего обучалось в 1904 году 114 чел. детей: 56 мальчиков и 58 девочек). Кроме того, инородческая больница и при ней аптека, почтовое отделение и при нем сберегательная касса, уездное полицейское управление, хлебозапасный магазин, метеорологическая станция II разряда, казенная винная лавка и пожарное депо. В 7-ми верстах ниже города – пароходная пристань (на Белом Яру), соединенная с городом телефоном; причем фарватер реки от пристани до города обставлен предостерегательными знаками. В Сургуте имеют местопребывание мировой судья, лесничий, становой пристав, акцизный контролер, врач, два фельдшера и повивальная бабка. В Сургуте имеется 11 постоянных лавок. С 23 декабря по 15 января в Сургуте бывает самоедская ярмарка. […] Приложение IV. Несколько слов о поэтическом творчестве инородцев […] Определенных песен, в которых инородец мог бы выразить свое духовное состояние или какое-нибудь настроение, вызванное известным моментом, почти не создалось. В громадном большинстве случаев все песни инородцев представляют из себя детскую импровизацию. Темой для песни инородца служит все то, что он видит перед собой или что ему придет в голову. Главным образом темами служит не явление, а реальный предмет; в последнем случае все содержание песни часто состоит из бесчисленного повторения одного и того же слова, которое инородец поет довольно монотонно с незначительными вокальными вариациями. […] История северных инородцев имеет и свой героический эпос. Г.С. Патканов в труде «Тип остяцкого богатыря по остяцким былинам и героическим сказаниям» (С.-Петербург, 1891 г.) довольно детально знакомит с этими историческими рассказами о подвигах остяцких богатырей, опоэтизированных народной фантазией их соплеменников. […] По мнению г. Патканова, происхождение былин относится к тому времени, когда северная часть Тобольской губернии еще не испытала на себе нашествия татар, которые, как известно, здесь появились раньше русских. Иначе говоря, былины возникли в период времени между XIV и XVI столетиями, а частью, может быть, и в XIII-ом. Если же принять во внимание историческое описание покорения нынешнего Тобольского уезда татарами, а затем русскими по Карамзину, то остяцкие былины имеют не меньшую чем 300-летнюю давность. К этому же выводу г. Патканов приходит и на основании истории завоевания Сибири русскими. Вот почему ни татары, ни тем более русские совсем не отразились в героическом эпосе остяков. Язык былин отличается цветистостью, образностью и значительной чистотой сравнительно с настоящим разговорным языком. Он настолько стар, что целые обороты его в настоящее время нередко совершенно непонятны современным остякам и передаются ими на память. Самое слово «былина» неизвестно остякам; г. Патканов в данном случае применяет это слово к древним богатырским сказаниям остяков только ввиду значения и характера этих сказаний. То, что он обозначает словом «былина», на древнеостяцком языке означает «военную песнь». Былины поются под аккомпанемент местных музыкальных инструментов – лебедя и домры. Сохранившиеся на р. Конде мелодии былин имеют не более пяти тонов, что соответствует 5 струнам этого последнего инструмента. Былины поются весьма редко. Это объясняется, с одной стороны, серьезностью и возвышенностью содержания былин, в силу чего поводами для исполнения их не могут служить обыкновенные эпизоды из будничной ежедневной жизни; с другой стороны, значительностью размеров былин, представляющих техническую трудность для певца и требующих со стороны его особого вдохновения и напряжения. Обыкновенно былины можно услышать в дни положения остяками ясака, когда они целые недели проводят в хождении друг к другу по гостям, кутежах и попойках. В такое время среди общего веселья и разгула остяки вспоминают старину и звонкий лебедь или домра звенят день и ночь. Всякий умеющий петь или играть показывает тогда свое искусство, причем наибольшее внимание сосредоточивают на себе певцы былин; опьяневшие и вдохновившиеся, они жалобным голосом начинают воспевать подвиги своих отцов. Остяцкие былины не имеют рифмы, хотя и не лишены некоторого подобия со стихами. […] Форма былин меняется с течением времени. Остался неизменным лишь их сюжет. […] Приложение V. Материалы для изучения обычного права инородцев Березовского уезда Пользуясь книгой для записи приговоров в течение двадцатилетнего периода, с 1881 по 1901 год, по разбирательству тяжб, споров и проступков инородцев ведения Обдорской остяцкой и самоедской управы, можно установить существенные черты практикующегося обычного права у самоедов и обдорских остяков. Все приговоры в числе 120 по делам инородцев, постановленные в течение вышеуказанного двадцатилетнего периода, можно разделить на две группы: на приговоры по совершенным проступкам в числе 93 и на приговоры по тяжбам и спорам в числе 27. […] Ниже я привожу материал, извлеченный мною их вышеуказанной книги. Группа 1-я. Проступки а) Кража 1. Обвиняемые остяки в краже разного имущества на сумму 172 руб. сознались. Приговором постановлено: обязать обвиняемых выдать потерпевшему взятое у него имущество. Наказания за проступок наложено не было. 2. Свидетельскими показаниями участие обвиняемого самоедина в краже разного имущества не установлено. После клятвы пред иконой Николая-чудотворца в искренности своих показаний обвиняемый признан по суду оправданным. […] 4. Обвиняемые самоеды в краже 3-х оленей с нартой сознались. Приговором постановлено: уплатить потерпевшему 50 руб. деньгами; в случае же несостоятельности отдать на год в работу; за проступок совершивших кражу наказать 50 ударами розог каждого, а укрывателей – по 30 розог. […] 10. Обвиняемый остяк в краже 20 оленей сознался. Приговором постановлено: отдать в пользу потерпевшего, кроме украденных 20 оленей, еще 5 оленей за причиненные убытки и наказать 25 ударами розог. […] 12. Обвиняемый самоедин в краже 62 оленей, ножа и оленного шеста не сознался, но участие его в совершении ее подтверждается одним свидетелем. Приговором постановлено: наказать 30-ю ударами розог. 13. Обвиняемый самоедин сознался в краже 8 оленей и добровольно пожелал отдать потерпевшему 5 оленей, на что последний также выразил свое согласие. Суд санкционировал состоявшуюся мировую сделку. […] 15. Обвиняемый остяк, уличенный свидетелями, в краже ведерного бочонка с вином сознался. Приговором постановлено: вознаградить потерпевшего в размерах понесенного им материального ущерба или же отдать 1 ведро вина и наказать виновного 10 ударами розог. […] 17. Обвиняемый остяк в краже оленя сознался. Приговором постановлено: уплатить потерпевшему стоимость оленя или же возвратить такого же оленя и наказать виновного 15 ударами розог. 18. Обвиняемые два самоедина и ляпинские остяки, уличенные свидетельскими показаниями, в краже 3-х оленей сознались. Приговором постановлено: взыскать в пользу потерпевшего, вместо 3-х оленей, 6 и наказать виновных 15 ударами розог каждого. 19. Обвиняемые обдорские и ляпинские остяки, самоеды и обдорский крестьянин в краже 10 оленей сознались. Приговором постановлено: взыскать с остяков в пользу потерпевшего украденных у него 10 оленей и еще с каждого из обвиняемых по 5 оленей, а дело о самоедах и обдорском крестьянине передать на рассмотрение обдорского земского заседателя. 20. Обвиняемый остяк в краже не сознался, но уличен был в этом показаниями свидетелей. Приговором постановлено: кроме возврата потерпевшему украденных у него 7 оленей, взыскать еще 3 оленей и подвергнуть виновного, как уже не однажды замеченного в воровстве, двухдневному аресту без кормового довольствия. 21. Обвиняемый самоедин в краже гуся из оленьих шкур не сознался, но уличен был в этом показаниями свидетелей. Приговором постановлено: украденный гусь возвратить по принадлежности, а виновного, как не однажды уже замеченного в совершении разного рода проступков, наказать 15 ударами розог. 22. Обвиняемый самоедин в краже двух топоров, 3 оленьих шкур и 2 суконных гусей сознался. Приговором наказан 10 ударами розог. […] 25. Обвиняемые самоеды в краже 10 оленей не сознались, но уличаются в этом показаниями свидетелей. Приговором постановлено: возвратить потерпевшему 10 оленей с придачей одного оленя на покрытие расходов, понесенных потерпевшим на ведение дела. 26. Обвиняемый остяк в краже топора и нанесении побоев сознался. Приговором постановлено: обязать виновного возвратить потерпевшему украденный у него топор и наказать за совершение кражи и нанесение побоев 10 ударами розог. […] 34. Обвиняемый остяк в краже ведра вина пояснил, что он действовал бессознательно, будучи пьян. Приговором постановлено: наказать виновного 10 ударами розог. […] 37. Обвиняемый самоедин в краже 2 гусей из оленьих шкур не сознался, ссылаясь на то, что он был пьян до потери сознания, но уличается в совершении проступка обстоятельствами дела. Приговором постановлено: за проступок наказать виновного 20 ударами розог. […] 45. Обвиняемые инородцы в покушении произвести кражу 2-х оленей сознались. Приговором постановлено: наказать виновных 15 ударами розог каждого. […] 48. Обвиняемый самоедин в краже гуся и взятии обманом 10 р. под залог 2 оленей, которых у него не было, сознался. Потерпевшему уплатили родственники обвиняемого. Приговором постановлено: наказать виновного за проступок 20 ударами розог. […] 50. Обвиняемый самоедин в краже 400 руб. деньгами, 22 песцов, 8 неплюев, 74 пешек, 1 тынзяна, 6 пешек пестрых, 1 пары пимов, 1 малицы, на три сорочки сукна, 2 фун. фамильного чаю, 2 серебряных колец сознался и возвратил по принадлежности все, кроме 16 руб., 74 пешек и 2 песцов… (далее в книге ничего не значится).[…] 51. Обвиняемые самоеды в краже 2 гусей сознались. Приговором постановлено: возвратить украденные 2 гуся по принадлежности и наказать виновных 30 ударами розог каждого. […] б) Оскорбление действием 1. Обвиняемый остяк в нанесении в пьяном виде побоев потерпевшему и его жене сознался. Приговором постановлено: наказать виновного 20 ударами розог. 2. Обвиняемый самоедин в нанесении в пьяном виде потерпевшему побоев и раны оленным шестом сознался. Приговором постановлено: наказать виновного 25 ударами розог. […] 4. Обвиняемый самоедин в нанесении побоев инородцам сознался. Приговором постановлено: наказать виновного 10 ударами розог с предупреждением, что если он не улучшит своего поведения, то будет выслан по месту жительства в Казымскую волость. 5. Обвиняемые остяки в нанесении побоев в пьяном виде потерпевшему и его жене сознались. Приговором постановлено: наказать каждого из виновных 7 ударами розог и обязать уплатить просителю расходы за доставку его в Обдорск, за наем оленей для вызова виновных и за то, что потерпевший принужден был потерять лишнее время, выжидая обвиняемого, всего на сумму 5 руб. 6. Обвиняемый самоедин, по показанию свидетелей, отколотил инородца и изорвал бывший на нем гусь без всякого к тому повода. Приговором постановлено: наказать виновного 10 ударами розог и обязать уплатить за изорванный гусь. 7. Обвиняемый матерью-самоедкой сын в ослушании ей и в нанесении побоев сознался. Приговором постановлено: наказать виновного 10 ударами розог. 8. Обвиняемый остяк в нанесении в пьяном виде побоев потерпевшему и его жене при ссоре из-за бутылки водки сознался. Приговором постановлено: наказать виновного 10 ударами розог. 9. Обвиняемый инородец в нанесении в пьяном виде побоев потерпевшим без всякого к тому повода сознался. Приговором постановлено: ввиду того что обвиняемый не однажды уже был замечен в пьянстве и дебоширстве, наказать его 15 ударами розог. 10. Обвиняемый инородец в нанесении в пьяном виде побоев своему хозяину, заступившемуся за жену обвиняемого, сознался. Приговором постановлено: ввиду повторения подобного поступка со стороны обвиняемого, наказать его 20 ударами розог. 11. Обвиняемый самоедин во время ссоры трижды плюнул в лицо старшине. Приговором постановлено: наказать 6 ударами розог. 12. Обвиняемый инородец отобрал у потерпевшего тынзян, запрещал ему неводить, дрался, чуть не удушил в воде сына одного из потерпевших, нанес одной инородке побои и искусал ей руку. Приговором постановлено: наказать виновного 40 ударами розог. 13. Обвиняемые самоеды в обоюдной драке, согласно приговору, наказаны каждый 30 ударами розог с отнесением на их счет расходов по этому делу в сумме 44 р. 50 к. 15. Обвиняемый остяк, согласно приговору, за нанесение побоев и ослушание хозяину наказан 40 ударами розог. в) Оскорбление на словах 1. Обвиняемый инородец высказал по адресу старшины несколько оскорбительных слов, обозвав его, между прочим, словом «огар», что значит борзая собака. Приговором постановлено: наказать виновного 15 ударами розог. 2. Обвиняемый самоедин оскорбил на словах старшину при исполнении им служебных обязанностей. Приговором постановлено: оштрафовать виновного на 10 руб., из них половину в пользу потерпевшего, а половину – в мирской самоедский капитал. г) Буйство в пьяном виде 1. Обвиняемый самоедин за буйство в пьяном виде, учиненное в каталажной камере при инородной управе, согласно приговору, наказан 10 ударами розог. 2. Обвиняемый самоедин во время буйства в пьяном виде в каталажной камере изорвал на стражнике мундир, за что, согласно приговору, наказан 20 ударами розог и обязан уплатить стражнику стоимость изорванного мундира. 3. Обвиняемый самоедин разбил у хозяина в пьяном виде принадлежащую последнему посуду и выбил в рамах 8 стекол, за что, согласно приговору, присужден к наказанию 10 ударами розог с обязательством вставить разбитые им в рамах стекла. 4. Обвиняемый самоедин за буйство, произведенное им в пьяном виде в каталажной камере, согласно приговору, наказан 5 ударами розог. 5. Обвиняемый инородец за буйство, учиненное в пьяном виде в каталажной камере, и за то, что выругал стражника и старшин, наказан, согласно приговору, 15 ударами розог. 6. Обвиняемые самоеды в пьяном бунте и сопротивлении караульным при выдворении обвиняемых из управы, согласно приговору, наказаны каждый 10 ударами розог. […] д) Растрата казенного и частного имущества, взятого в долг 1. Обвиняемые инородцы пропили взятую ими в долг муку из обдорского инородческого хлебозапасного магазина. Приговором постановлено: наказать каждого 10 ударами розог. 2. Обвиняемые инородцы, получив в долг муку из обдорского инородческого хлебозапасного магазина, продали ее и деньги пропили. Приговором постановлено: проданную муку от покупателя отобрать и отдать семействам инородцев, а за поступок наказать каждого 10 ударами розог. 3. Обвиняемый инородец пропил хозяйскую малицу. Приговором постановлено: наказать за проступок 15 ударами розог и обязать немедленно выкупить обратно малицу. е) Изнасилование 1. Обвиняемые самоеды в преступлении сознались. Приговором постановлено: уплатить потерпевшей 3 оленей. 2. Обвиняемый остяк в преступлении сознался, оправдывая свой проступок состоянием опьянения. Приговором постановлено: наказать виновного 10 ударами розог, а свидетеля, присутствовавшего при этом и не оказавшего потерпевшей защиты, 5 ударами розог. ж) Нанесение смертельных ран 1. Обвиняемый самоедин нанес смертельную рану в пьяном виде. Приговором постановлено: наказать виновного в присутствии инородцев 100 ударами розог, а прежде приведения этого приговора в исполнение провести его по селу «обезображенным». з) Неисполнение служебных обязанностей 1. Обвиняемый самоедин, состоящий в должности десятского, ушел на всю ночь с вверенным его надзору подсудимым и не явился на ночное дежурство. Приговором постановлено: наказать виновного 20 ударами розог. и) Святотатство 1. Обвиняемый остяк в разрытии шести могил и похищении из них имущества, согласно приговору, обязан возвратить похищенное по принадлежности и должен быть наказан 40 ударами розог. […] Группа II. Тяжбы и споры а) О правах наследования […] 2. По делу о завладении самоедином оленями после смерти его отца и невыделении им сестры своей (родной дочери умершего) суд постановил: дочь умершего отца наравне с сыном (своим братом) пользуется правом получения части оставшегося в наследство имущества. То обстоятельство, что дочь при выходе замуж была наделена отцом, не может уничтожить ее права наследования над частью оставшегося имущества, так как отец, выделяя дочери часть своего имущества при жизни, получил в свою пользу калым. При постановлении приговора было принято во внимание, что выделение дочери части из имущества не подорвет хозяйства сына. […] 5. По иску, возбужденному самоедкой роду Ядыне о захвате после смерти ее мужа братом покойного его оленей и другого имущества, суд постановил: после смерти мужа первыми наследниками являются жена и дети, а не брат умершего, и потому последний обязан возвратить захваченных им оленей и имущество по принадлежности. […] б) Захват чужой собственности (оленей) 1. По иску трех остяков к самоедину об удержании последним 8 оленей, приблудивших к его стаду во время пастьбы в тундре, суд постановил: принимая во внимание, что при осмотре оленного стада, принадлежащего ответчику, из 8 отыскиваемых оленей оказалось 4, уши которых уже переклеймены, обязать ответчика возвратить истцам, вместо 8, 16 оленей. […] в) Нарушение арендных и других договоров 1. По жалобе остяка на отказ старшины выдавать просителю часть из денег, получаемых с арендаторов инородческих песков и сенокосов, суд постановил, что песок после смерти его вотчинника переходит в распоряжение его рода, члены которого получают за аренду деньги и делят между собой; всякий же не принадлежащий к этому роду права на участие в дележе арендных денег не имеет. […] г) Иски о возврате калыма […] 2. Дело по иску, возбужденному самоедином к самоедину же о возмещении первому последним калыма. Обстоятельствами дела выяснено, что проситель отдал за дочь самоедина калым, равняющийся приблизительно 30 оленям и 70 руб. деньгами; последние он уже получил. Дочь бежала от просителя и вышла замуж за ответчика. Суд постановил: взыскать с ответчика в пользу просителя 30 оленей. […] 4. По заявлению остяка на самоедина о безобразном обращении последнего с женой, сестрой первого, что вполне подтвердилось показаниями свидетелей, суд постановил: взять просителю сестру свою обратно к себе, а ответчику в возвращении ему калыма отказать, так как в течение семи лет замужества жена заработала его. […] В правах наследования обычаи среди самоедов в значительной степени отличаются от обычаев, существующих среди других инородцев. Право наследования распространяется не только на мужчин, но и на женщин. После смерти мужа первой наследницей является жена и дети, но если жена вышла вторично замуж в другой род, то право это теряет. Дочь же, несмотря на выход замуж, наравне с братом продолжает пользоваться правом участия в наследовании после отца имущества даже в том случае, если она уже была выделена перед свадьбой. При тяжбах о калыме обычаями установлено: при уходе жены от мужа калым не возвращается обратно только в том случае, если жена прожила с мужем несколько лет, в течение которых могла отработать данный за нее калым; если женщина, жившая у кого-нибудь до замужества, выходит замуж за другого, то первый, уплативший за нее в свое время калым, взыскивает таковой со второго. Для доказательства виновности достаточно показаний одного свидетеля. Бывают случаи, когда наличность виновности устанавливается на основании таких сомнительных вещественных доказательств, которые достаточны лишь для того, чтобы оставить обвиняемого в подозрении. […] Относительно состава суда нужно заметить, что он отличается значительным разнообразием соответственно важности дела. При разбирательстве по наиболее важным преступлениям участвует весь состав инородной управы в лице остяцкого князя, трех старшин и одного помощника; в менее важных случаях приговор может постановить единолично остяцкий князь, или старшина, или, за отсутствием последнего, его помощник. Если обвиняемый и истец принадлежат к различным народностям (один к самоедской, другой к остяцкой), то и в разбирательстве дела участвуют двое старшин: самоедский и остяцкий. […] 1 В том числе по Самаровской волости 4753 души обоего пола; из них русских 4361 и остяков 465. 2 Уведомление тобольского губернатора управлению неокладных сборов и казенной продажи питий от 2 апреля 1905 г. за № 12476. 3 Губарев свидетельствует, что в свой приезд в с. Обдорск в 1863 году он нашел там 52 дома. 4 По свидетельству Н.А. Абрамова, в 50 годах XIX столетия насчитывалось 163 дома и 1186 жителей обоего пола. 5 В 1704 году был основан Воскресенский монастырь, который просуществовал 19 лет; в 1723 году, за малочисленностью монахов, был упразднен, а находившиеся в нем игумен и два монаха переведены в Кондинский монастырь. Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север: Этнографический очерк местных инородцев. Т. III. Тобольск, 1911. С. 1, 28, 32–37, 58–71, 76–79, 108–109, 112–113, 115, 130–131; Прилож. I. С. 5; II. С. 7, 9–10; III. С. 15, 18; IV. С. 19, 20–21; V. С. 25–37, 39–40, 43–44. Иринарх (И.С. Шемановский) Иринарх (И.С. Шемановский) – иеромонах, настоятель Обдорской духовной миссии. В журнале «Православный благовестник» в 1903 и 1905 гг. печатались два цикла его статей: первый – о деятельности Обдорской миссии, об отношении «инородцев» к христианству; второй – посвященный 50-летию второго открытия в Обдорске духовной миссии (1854–1904 гг.). В XIX столетии в Югорской земле продолжалась христианизация коренных народов. Законы Российской империи утверждали принцип веротерпимости при главенстве православия. В России только православная церковь имела право заниматься миссионерской деятельностью. В своих статьях о. Иринарх на основании личного миссионерского опыта рассматривает вопрос, почему христианизация на западносибирском севере малоуспешна. Настоятель Обдорской миссии, рассказывая об открытой при ней школе, страстно и убедительно выступает в защиту просвещения среди аборигенов. Еще два слова ко вопросу об улучшении миссионерства на дальнем Севере Малоуспешность действий русских миссий на Севере часто возбуждает вопрос о реорганизации существующего там дела. […] Поэтому всякий вновь возникающий проект об оживлении миссионерства на Севере невольно заставляет задуматься о причинах печального положения этого дела. Все известные нам проекты, имеющие в виду улучшение нашей миссии на севере Сибири, страдают главным образом тем существенным недостатком, что слишком большое значение уделяют освежению состава миссий. Заметим, что замена одних миссионеров другими – дело сравнительно легкое, подыскание же миссионеров по призванию, по идее – трудно осуществимое. Нам кажется, что в вопросе о повышении деятельности миссий Севера прежде всего и главнее всего внимание должно быть обращено на оживление деятельности наличных миссионеров. Вся причина бездеятельности теперешних членов указанных миссий заключается не в отсутствии у них уменья взяться за дело, как то предполагается, и не в нежелании трудиться, а в тяжести условий самой работы при полном отсутствии столь необходимой для делателей нравственной поддержки со стороны. Трудясь среди умственно неразвитых, тупых и не желающих мыслить инородцев, миссионер, постоянно падающий духом от видимого отсутствия плодов своей деятельности, должен еще считаться со всеми физическими неудобствами жизни. При самых примитивных условиях передвижений он должен переносить лютые морозы зимою, страшные бури на воде летом, терпеть от комаров и мошкары, этого бича севера, и мириться с ужасающей грязью юрт и чумов и паразитами своей нечистоплотной паствы. Нуждающийся в постоянном сочувствии, он почти всегда встречает полное безучастие, а часто и недоброжелательное отношение местных русских культуртрегеров, поглощенных меркантильными интересами исключительно. Неудивительно, что настрадавшийся душевно и изнемогший телесно миссионер в лучшем случае спешит оставить свою службу и в худшем, ассимилируясь с местным русским населением на почве выпивок, карточной игры и ничегонеделанья, окончательно порывает и без того слабую связь с инородческой своей паствой. Такова обыкновенная судьба всех миссионеров Севера, за исключением единичных «богатырей» идеи и духа, которых не могла сломить суровая природа и усыпить атмосфера беспробудной спячки окружающих. Такая же участь будет постигать и всех новых миссионеров Севера, если не будут приняты меры к оживлению миссионеров, поднятия энергии у ослабевающих и укрепления духа у борющихся. […] Иринарх. Еще два слова ко вопросу об улучшении миссионерства на дальнем Севере // Православный благовестник. М., 1903. № 19, октябрь. Кн. 1-я. С. 125–126.
Из Обдорской миссии С 1898 года при Обдорской миссии открыт пансион для инородческих мальчиков и с 1899 года – так называемый приют для малолетних и девочек инородческого происхождения. […] Между тем с появлением на свет этих столь жданных и желанных учреждений нам нередко стали задавать вопрос[ы]: к чему эти школы, оправдают ли они возлагаемые на них надежды, не принесут ли они своим питомцам вместо счастья несчастье; посмотрите на этих детей, ваших воспитанников, неужели думаете вы, что они возвратятся по окончании курса в дома своих родителей, зачастую живущих не по-человечески; неужели вы полагаете, что эти дети найдут в себе достаточно крепости и сил, чтобы снова свыкнуться с тою грязью, паразитами, с тем специфическим запахом, отличающим юрты и чумы от других человеческих жилищ; не побросают ли они впоследствии своих родных, не обособятся ли от них, и, лишенные материальных средств к улучшению своего быта, не будут ли они слать вам, вместо благодарности, негодование, не заплатят ли вам, благодетелям, вместо любви и уважения, ненавистью и нерасположением? Выслушивая эти, не лишенные смысла и значения сомнения и с благодарностью принимая их как предостережения от могущих произойти печальных результатов при уклонении от господствующих в наших заведениях учебно-воспитательных тенденций, мы находим нелишним поделиться с читателями «Православного благовестника» следующими своими по этому предмету соображениями и выводами. История колонизации нашего края… полная самых гнусных притеснений и насилий над туземцами, низвела их в нынешнее жалкое положение. Не можем мы в XX столетии быть спокойными зрителями постепенного, как свидетельствуют ученые исследователи, угасания, т. е. вымирания, инородцев. Между тем самое бдительное охранение прав инородцев и самая разумная постановка снабжения их по дешевым ценам и в долг казенной мукой, порохом и даже всеми предметами потребления не спасут их в неравной борьбе с развитыми колонистами. Неразумно, конечно, пренебрегать в деле помощи инородцам и этими паллиативами, но надо в то же время озаботиться пробуждением их от моральной и умственной спячки, в которую погрузились они, утомленные, усталые, измученные и разбитые двухвековою борьбою. Это лежит на обязанностях школы. Пускай открываются школы в возможно большем числе, они не сделают вреда больше существующего, правильная же постановка в них учебно-воспитательного дела не замедлит принести пользу. Прежде всего нечего бояться, что школа, возвысив нравственно детей, расширив умственный их кругозор, приучив к лучшей обстановке, приобщив к культурной жизни, порвет связь их с соотчичами и их жизнью. Обитающее у нас зырянское племя, примыкающее по своему образу жизни к остякам и самоедам, свидетельствует о неосновательности этих опасений. Отдавая своих детей, как мальчиков, так и девочек, учиться зыряне-отцы, часто сами неграмотные, не страшатся, что школьная жизнь отобьет у них желание возвращения в кочевья, а дети, оканчивая школу, с радостью возвращаются к своим отцам, внося некоторый свет в беспросветно-скучную и полную лишений жизнь своих родителей. Правда, положение грамотных остяков и самоедов в домах отцов их будет во многих отношениях безотраднее и тяжелее: там им будет предстоять упорная борьба с грубыми традициями племени, там, часто не понимаемые своими, они будут нередко одиноки, там они не избегнут насмешек и разных оскорблений. Но все это испытывали и переносили и первые зырянские пионеры грамотности и духовного просвещения; эти предполагаемые испытания и отношения будут временными, на первых порах, в первые десятилетия существования школ. Прийти на помощь, оказать нравственную поддержку этим первенцам школы – вряд ли когда окажется затруднительным и неудобным для руководителей школьного дела. Самое обеспечение успеха распространения грамотности среди населения, враждебно относящегося к школе, обусловливаясь нравственною связью учителей с учениками, служит верным залогом своевременной подачи помощи требующим ее. Облегчению положения грамотных остяков и самоедов среди соотчичей их должна, наконец, содействовать и сама школа. Обогащая познаниями ум, смягчая сердца и укрепляя волю, школа всеми мерами обязана способствовать сохранению связей детей с родными и всем родным. При соответственной выработке учебников для детей и преподавании им отчасти на родных языках, школа окажет им большую услугу. Считаясь с условиями предстоящей жизни ученикам, школа должна развивать в детях любовь к промыслам, обеспечивающим безбедное существование их отцов; в этих целях необходимо ознакомление учащихся с рациональною постановкою рыболовства и скотоводства. Если не осуществима, по неимению на то средств, хотя бы рыболовная колония при школе с небольшой артелью из взрослых инородцев, то дети должны отпускаться к родителям на летний рыбопромышленный сезон. Короткий срок пребывания у своих не нанесет существенного вреда школьным занятиям их, а самые роспуски по домам могут быть использованы в смысле обеспечения сохранения нравственной связи учеников с родителями. Поднимая уровень умственного и нравственного развития в своих питомцах и воспитывая их в духе племени, школа для достижения конечных своих целей должна дать детям средства для самообразования и за пределами сферы влияния ее. Для этого школа должна приучать воспитанников к русской речи, так как письменной литературы на наших инородческих наречиях не существует. Научая детей владеть русским языком, школа обязана ознакомить их с разговорной речью и других распространенных в крае племен. Тем не менее, несмотря на всю важность обучения детей языкам, оно должно быть поставлено на чисто практическую почву, оно не должно входить в состав классных занятий и должно совершаться без принуждения, косвенным путем, незаметно для самих учащихся, что сделает процесс этого обучения легким и необременительным для детей. При разноплеменном составе учащихся в школе, обучение это не представит больших затруднений, если при добром отношении к детям наставников они будут заинтересовывать их изучением того или другого языка1. Школа, научив своих питомцев местным языкам, тем самым повысит авторитет их в среде сородичей, что послужит к устранению разных препятствий к благоустройству жизни их в домах родителей на началах воспринятых в училище потребностей и привычек. Правда, детям, разумеем мальчиков, нелегко будет мириться с юрточною и чумовскою нечистотою и грязью, так как, по инородческим обычаям, уборка жилищ лежит исключительно на обязанности женщин и мужчинам непристойно заниматься ею; тем не менее, думаем мы, для питомца школы, в силу необходимости приученного лишь к сравнительной чистоте и порядку, не составит особых хлопот следить в доме родителей за чистотою и опрятностью своего уголка. Об одном должно жалеть: недостаточность существующих при миссии учебно-воспитательных инородческих заведений для всего Обдорского края будет крепко тормозить успех распространения грамотности среди инородцев. Это же не может не отражаться неблагоприятным образом на питомцах школы, которым долгое время придется быть одинокими в разбросанных на далеких расстояниях друг от друга поселках. – В статью «Из Обдорской миссии». 1903. № 21, ноябрь. Кн. 1. С 218 – конец статьи (Статья использована полностью). 1 В обдорских миссионерских заведениях большинство детей владеет русским, зырянским, остяцким и самоедским языками. Иринарх. Из Обдорской миссии // Православный благовестник. 1903. № 21, ноябрь. Кн. 1-я. С. 214—218. Из Обдорской миссии (К вопросу о вымирании инородцев) В «Православном благовестнике»1 помещена была заимствованная из «Нового времени» заметка о поездке с нами питомцев обдорской миссионерской школы в г. Тобольск на богомолье и для ознакомления со светом. В этой заметке по поводу намерения нашего устроить самоедского мальчика в одной из второклассных тобольских церковноприходских школ, между прочим, высказывается сомнение в удачном осуществлении этого дела.
Остяки и самоеды – питомцы обдорской школы со служащими «Насколько нам известно, – пишет корреспондент, – большинство из самоедов, остяков и вогулов, привозимых ранее по просьбе архипастырей с далекого севера для образования из них учителей, фельдшеров и духовных лиц, не выдерживали южного климата даже и в Тобольске и скоро теряли здоровье свое и гибли, оторванные от тундр, чахли, а если выходили, возвращались в родные палестины, то такими изломанными, чахлыми, нездоровыми, что не имели среди сородичей успеха. А некоторые, окончив духовное училище и семинарию, просто превращались снова в дикаря, находя, что его жизнь куда лучше»2. Решением вопроса о причинах вымирания и вырождения северных инородцев Тобольской епархии, получивших образование за пределами их родины, мы долгое время занимались. В этих целях изъездив Березовский уезд, мы перезнакомились почти со всеми когда-либо учившимися инородцами и со многими из них завели отношения. Не ограничиваясь этим, мы с охотою выслушивали разнообразные о сем мнения не только русских насельников в крае, но и всех инородцев вообще; последние в безыскусственных своих спорах помогли нам разобраться во многом. Наибольшую же пользу в этом деле оказал открытый по нашей инициативе при миссии приют для малолетних инородческих детей.
Здание, в котором помещается библиотека и музей миссии в селе Обдорске 1909–1910 Российский этнографический музей. 1755–20 Работы по этому вопросу привели нас к тому выводу, что не оправдавший ожиданий опыт обучения северных инородческих детей в Тобольске не может служить мерилом для будущего и имеет значение лишь в смысле предостережения от ошибок прошлого при его возобновлении. Попытаемся изложить свои заключения об этом. Нововременский корреспондент, объясняя причины вымирания и вырождения северных инородцев, получавших образование в Тобольске, влиянием южного климата, заявляет, что они теряли здоровье и гибли, оторванные от тундр. Не оспаривая это мнение вполне, так как перемена климатических условий на северян, может быть, и действительно оказывает вредное влияние, мы в противовес сему обратим внимание на другое утверждение ученых исследователей об угасании инородческих племен северо-запада Сибири вообще независимо от местопребывания их. Не находится ли причина вымирания инородческих учеников в Тобольске в связи с общим фактом угасания их сородичей? Если бы на вымирание этих детей влиял только южный климат, то несомненно, что в школах с интернатами в самом Обдорске об этом вымирании не должно быть и речи. Между тем в одном из таких миссионерских заведений, приюте, % смертности в последние годы был настолько велик, что не уступал в этом отношении тобольской инородческой школе. С другой стороны, вымирание в тобольских училищах инородческих детей не было массовым: вымирали там по преимуществу дети Обдорского края и лишь в редких случаях дети Кондинского участка, которые, кстати заметить, всегда составляли большинство учащихся. Почему, спрашивается, умирали в Тобольске обдорские инородцы и выживали кондинские, если на смертность их оказывал воздействие главным образом теплый климат? Насколько нам известно, колебание температуры между Обдорском и Кондинском очень незначительно. Например, в период 1891–1893 годов в Обдорске средняя температура по Цельсию была 7,3˚, а в Кондинске – 3,7˚. И далее, чем объясняется большая смертность детей в обдорском мис. инор. приюте и отсутствие ее среди детей обдорского же мис. инор. пансиона, находящегося в одинаковых условиях в первым? Очевидно, что смертность инор. детей в Тобольске нельзя приписывать южному климату исключительно; его влияние в этом может быть относительным, т. е. он мог только ускорять более медленное действие других разрушающих организм этих детей причин. По изложенным же соображениям рассматриваемый факт вымирания инородческих учеников не может быть приписываем в целом и причастности их к общему угасанию племен Севера. Иначе как объяснить гибель в Тобольске только одной части детей Обдорского края, отчего в Обдорске умирали дети этого края, проживавшие в приюте, и выживали помещавшиеся в пансионе? Попытаемся поэтому проследить, не кроются ли имеющие решающее значение причины этого печального явления в самом укладе жизни детей в интернатах. Рассмотрим, в какой степени и мере условия этой жизни должны оказывать воздействие на душу ребенка в первое время его пребывания в заведении; насколько резка грань между тамошней и отцовской жизнью и с какой затратой сил совершается приспособление ребенка к новым условиям жизни. Ученики обдорского мис. пансиона, мальчики местного инородческого населения, поступая в училище, принуждаются жить в совершенно другой, новой для них обстановке. Хотя пансионская их жизнь укладывается дисциплинарными порядками в известные рамки, тем не менее они попадают в свою же инородческую среду, живут собственными интересами, говорят на родном языке. Эти дети видятся со своими родителями и родней, часто приезжающими в Обдорск, сами ездят к ним и летнее каникулярное время всегда проводят в своих домах. Следовательно, пансион не отнимает детей от родителей, не отучает их от родной жизни и не ослабляет нравственной связи их с сородичами. И в пансионе за пять лет его существования был только один случай смерти ученика. Воспитанники обдорского мис. приюта, мальчики и девочки инородцев Обдорского края, принимались с 4-летнего возраста3. Поступая в заведение как круглые сироты или отданные по воле бедных родителей, работающих на стороне или кочующих, они должны были приспособляться к новому образу жизни в отсутствии отцов и матерей. Малый возраст большинства этих детей при их разноплеменности4 не позволял создать одну общую духовную атмосферу на почве детских игр и занятий. Лишенные теплой родительской ласки, маленькие приютяне отвыкали от своих родителей и забывали родных; едва владея родным наречием, они часто переставали говорить на нем, заменяя его другим, более употребительным в заведении зырянским языком. Сживаясь с громадной тратой энергии с условиями новой жизни, хрупкий организм питомцев приюта часто не выдерживал; дети тосковали и скучали, нередко болели и умирали. Кондинские инородцы, проживая среди русских, многое от них переняли и, усвоив русский язык, стали по образу жизни примыкать к беднейшей части русского населения. Поэтому поступление детей их в тобольские училища не представляло для них слишком заметной перемены, не говоря о том, что к перемене этой они, стоя на пути к обрусению, уже были подготовлены. Кроме того, эти дети, учась в Тобольске, не порывали связи со своими родными и сородичами, которые в зимнее время нередко приезжают туда для продажи рыбы. Смертность между этими детьми была незначительна. Совершенно в иное положение попадали по поступлении в тобольские училища дети обдорских инородцев. Вовсе не знакомые с жизнью русских и не владея их языком, они принуждались жить в чуждой по духу им обстановке, среди детей, говоривших на другом наречии. Поглощенные приспособлением к жизни на новых началах, они отвыкали от прежней и забывали свою родню, так как установление связей с нею на первых порах было немыслимо и крайне затруднительно впоследствии. Предоставленные самим себе в трудное время приспособления, дети тосковали по родным, скучали по родине, хирели, болели и умирали, а оставаясь живыми, делались нравственными уродами, забывшими свою родину и родню, спивались и гибли. Таким образом, из сопоставления того, что смертность инородческих детей в Тобольске была распространена между обдорскими инородцами, еще вовсе не поддавшимися влиянию русской культуры, и почти не было ее среди полуобрусевших кондинских инородцев, с тем, что в Обдорске главным образом умирали малолетние дети из приюта и выживали школьники из пансиона, нельзя не видеть, что вымирание инородческих учеников в Тобольске связывалось с неподготовленностью организма их к чрезмерно резкой перемене предшествовавшей жизни на школьную. Допуская правильность такого объяснения, мы должны признать возможность отправления детей обдорских инородцев в тобольские училища без существенного ущерба для их здоровья, если будут устранены причины, губившие их там раньше. Надлежащая подготовка детей в обдорских мис. заведениях, пансионе и приюте, к школьной жизни вообще облегчит их положение в тобольских училищах; предварительное обучение детей грамоте в обдорской школе даст им возможность, учась в Тобольске, сохранить связь с родиной и своей семьей; предшествовавшее отправке детей в Тобольск приучение их в мис. интернатах к русской разговорной речи сделает свободным обращение их с новыми товарищами-соучениками, а самое важное: приохочение детей к продолжению обучения в тобольских училищах послужит прочной гарантией того, что естественная на чужбине скука и тоска по покинутой родине не будут пагубно влиять на их душевное настроение, от равновесия которого зависят не только школьные успехи, но и самое здоровье. Летом мы совершили экскурсию в Тобольск с пятью учениками наших миссионерских заведений. Тобольск и окрестности его произвели на них самое приятное впечатление. […] При возвращении детей в Обдорск они, за исключением одного мальчика, без всякого сожаления оставляли гостеприимно принявший их Тобольск. Нужно было видеть всю радость и восторг детей, когда отплывавший от пристани пароход повез их в родную северную тундру. Можно поэтому предвидеть, какая судьба постигла бы этих детей, если бы они были оставлены в Тобольске на долгое время. Они зачахли бы от тоски по горячо любимой родине. Возбудите же в них желание остаться в Тобольске учиться ради блага дорогой родины и родных, и мы убеждены, что они остались бы, легко перенесли скуку и пережили бы тоску. Мальчик, предназначенный нами к определению в одно из тобольских училищ, очень хотел подольше погостить в Тобольске, где служебные обязанности удерживали нас на продолжительный сравнительно срок. Но мы отправили его обратно вместе с прочими детьми, для того чтобы он, пожив лишний месяц дома, мог более обстоятельно обсудить свое желание учиться в Тобольске. В августе месяце он со своим товарищем по миссионерск. школе уехал. В каком веселом и добром настроении уезжали эти дети по своей воли в несчастливый для их предшественников Тобольск! Интересно знать, с какими чувствами оставляли Обдорск инор. дети, отправлявшиеся прежде в тобольские училища против желания?! К сожалению, мы этого не ведаем, но зато знаем, что отправившиеся учиться ныне лучшие ученики мис. школы поехали в Тобольск с таким запасом знаний, с каким предшественники их не отправлялись. Поехали дети здоровыми, приученными к трудолюбию и с заметными способностями, позволившими им в 4-годичный срок хорошо овладеть местными в Березовском крае наречиями и русским языком5. 1 № 14, 1903 г. Стр. 286. 2 Таких примеров не было. 3 В настоящее время малолетние дети не принимаются в приют и значение этого заведения исчерпывается задачами воспитания инор. девочек школьного возраста, обучающихся в мис. училище. 4 В приюте, так же как и в пансионе, в числе детей имеются самоеды, остяки и зырянские самоеды, происшедшие путем метисации этих племен. 5 Оба они говорят по-русски, зырянски и остяцки, а один, кроме того, владеет и самоедским языком. Иринарх. Из Обдорской миссии (К вопросу о вымирании инородцев) // Православный благовестник. 1903. № 22, ноябрь. Кн. 2-я. С. 247. Обдорские остяки и самоеды и архангельские зыряне1 в отношении к своим детям У нас в Обдорской миссии последние шесть лет занимает господствующее положение школьный вопрос, без удовлетворительного разрешения которого миссионерство не может стоять на подобающей ему высоте. На юбилейных торжествах миссии, только что отпразднованных2, вопрос о расширении школьного дела среди обдорских инородцев был особенно подчеркнут. И в речах, и на заседаниях была указана и разрешена необходимость обучения не только мальчиков, но и девочек. Но как помочь благоустройству школьного дела, когда остяки и самоеды не понимают его значения, не желают учить своих детишек грамоте и всеми мерами противятся школе и учению в ней, стараясь возмущать то меньшинство своих собратий, которое, находясь ближе к русскому населению, не прочь делать почины отдачи детей в миссионерские учебно-воспитательные заведения? В целях расширения школьного дела я, испросив благословение Тобольского архипастыря, гостившего в сентябре в Обдорске, отправил одного из лучших своих псаломщиков-толмачей, М.С. Мартемьянова, в тундру к самоедам для расположения их к обучению детей грамоте. Каков-то будет результат этой поездки – эта мысль не давала мне покоя. Я вовсе не ожидал, что мой добрый сотрудник уговорит некоторых родителей отдать в миссионерский приют дочерей, хотя лично считаю обучение для девочек более необходимым, чем для мальчиков, особенно кочующих (не был я твердо уверен и в том, что он привезет в миссионерский пансион учеников-мальчиков)3. Самоеды и остяки чадолюбивы. Отдача детей священникам ли миссионерам, другим ли каким лицам для них равносильна смерти их милых, добрых и славных детишек. Слов нет, родители-инородцы верят, что дети вернутся из школы к ним обратно, но какие? С другими, нажитыми в училище привычками, более слабые, менее способные к суровой жизни в родной тундре, с новыми взглядами на святая святых – веру их отцов и религиозные обычаи предков. Они этого не хотят, у них одно сильное и могучее желание – не расставаться со своими ребятишками никогда, даже на самое малое время. Что с того, что их детям школа даст блага в будущем, они не желают этих благ, противных устоям их жизни. […] 1 Все проживающие в Обдорском крае зыряне – выходцы из Архангельской губ. 2 4–7 сентября 1904 г. 3 М.С. Мартемьянов привез 15 самоедских детей: для пансиона 9 мальчиков школьного возраста и для приюта 3 девочки-школянки и столько же малолетних мальчиков. Всего же ныне в миссии учеников и учениц 40 человек и 6 малолетних детей. Все 46 инор. детей на полном от миссии содержании. Обдорские остяки и самоеды и архангельские зыряне в отношении к своим детям // Православный благовестник. 1905. № 1, январь. Кн. 1-я. С. 35–36. Пирожников Г.А. Обь-Иртышский Север Г.А. Пирожников – сургутский уездный исправник с 1903 г. и исполнял эту должность до 1918 г., когда она была упразднена. Он являлся действительным членом Архангельского общества изучения Русского Севера, членом Тобольского губернского музея. Помещенные ниже заметки – это отрывки из его труда, которые впервые были опубликованы в журнале «Югра» в 90-е годы прошлого века Ф.Я. Показаньевым по рукописи, полученной им от дочери Г.А. Пирожникова. Население Этнографический состав населения – это русские и туземцы: ханты, манси, ненцы, коми. Русское население состояло в основном из городского, значительной части бывших казаков Сургутской и Березовской казачьих команд, упраздненных в 1881 году. Казаки были обращены в мещан, а в городах Сургуте и Березове введено упрощенное городовое положение. В уездах Сургутском и Березовском, кроме туземцев, или инородцев, как их тогда называли, жили русские крестьяне, приписанные к волостям и сельским обществам, частью из того же казачества, а главным образом из пришлого населения, переселившегося сюда в разное время из других местностей. Большинство этих людей поселилось самовольно с захватом рыболовных и охотничьих угодий туземцев. Лишь немногие пользовались этими угодьями на правах аренды, и то за ничтожную плату, а впоследствии как своими собственными. […] Кроме ханты, манси и ненцев, по рекам Сосьве и Ляпину, в селах Сартыньинском, Щекурьинском, Обдорске, Мужах, в г. Березове и других местах жили зыряне-ижемцы (коми, переселившиеся сюда в давние годы из Печорского края Архангельской губернии). […]
Хозяйственный и общественный быт Об эксплуатации и угасании туземцев Севера написано много книг и статей в сибирских газетах и журналах, сделано много ученых докладов и отчетов в различных государственных и научных учреждениях. … Добавлю еще несколько примеров, характеризующих ухищрения и мошеннические проделки торговцев. Некоторые торговцы самовольно собирали с неграмотных и доверчивых туземцев шкуры ценных зверей как будто для отправки православным святым, фактически оставляя их себе. А один торговец продал туземцу коробку пистонов за 35 руб., на которой было написано: «№ 35». Другой торговец сам рассказал о хищнических приемах своей торговли. По приезде в юрты он остановился у одного туземца. Тот пожаловался гостю на больные ноги, тогда торговец продал ему за десять белок банку помады и велел натирать ноги перед топившимся чувалом. Когда, по счастливой случайности, больному стало легче, он очень выгодно продал остатки парфюмерии тем, кто обратился за помощью, вплоть до глазных болезней (газета «Обская жизнь», Новониколаевск. 1912 г., № 30). […] Хочу рассказать о том, как осуществлялся суд над провинившимися перед обществом и личностью. Местная юриспруденция была крайне упрощенной. Маловажные проступки рассматривались и разрешались старейшинами, родовыми управлениями и по закону о туземцах. […] По сведениям этой (Локосовской Сургутского уезда. – Сост.) управы, с 1905 по 1908 год рассмотрены следующие дела. Подвергнуты аресту на трое суток с содержанием в каталажной камере при управе: юрт Тарховых Алексей Тархов за кражу денег 26 руб. у Михаила Натускина; юрт Ликрисовых Александр Юсопин за незаконное сожительство; юрт Пылиных Степан Пылин за незаконное сожительство; Марк Тюмкин за побег с работы; Василий Гиндин за кражу денег у Петра Сыколева; Федор Чалтымов за нанесение ран в драке Спиридону Чалтымову; Алексей Пылин за побег с работы от содержателя земской гоньбы Бабанина; Сидор Айпин за побег с работы от Позевалова. На семь суток арестованы юрт Качесовых Иван Качесов за кражу ведра воды и мешка с хлебом у Трофима Сыколева и Осип Пылин за кражу денег 40 руб. у Ивана Пылина. На полтора месяца подвергнут аресту Дмитрий Курломкин за выстрел из ружья в жилую юрту Николая Муколчина. В некоторых управах наказание за маловажные проступки заменялось платой в пользу пострадавшего или обиженного. За кражу случались наказания розгами, а еще чаще очистительным присяганием на морде медведя или клятвой: «Если я виновен, то пусть меня съест зверь». Существует и такое наказание, как битье виновного по щекам и испрашивание прощения с поклонами в ноги обиженному или оскорбленному. […]
Занятия и промыслы Почти всю домашнюю утварь, орудия и принадлежности промысла, летние и зимние транспортные средства, одежду и обувь ханты, манси и ненцы делали сами из дерева, бересты, пихтовой коры, кореньев, травы, кожи, кости, меха, сухожилий и т. д. […] В творчестве народов Обь-Иртышского Севера проявлялось высокое художественное мастерство. Это искусство не раз демонстрировалось на российских и международных выставках в разные годы XX столетия.
Женщина, выскабливающая узор на детской колыбели, из Хорум-паула на р. Ляпине (Сыгве) 1909–1910 Российский этнографический музей. 1705–61 Особенно отличались трудолюбием, фантазией, тонкостью и чистотой работы хантыйские женщины. Мужчины занимались в основном охотой, рыболовством, изготовлением орудий лова и промысла, средств передвижения Женщина вела все домашнее хозяйство, ухаживала за детьми, помогала мужчинам во всех делах, обрабатывала шкуры по всему циклу, заготавливала дрова и воду, готовила пищу, шила одежду и обувь, еще успевала ловить рыбу, зверя и птицу для пропитания семьи, когда мужчины уходили на длительное время в урман.
Узоры, изображаемые на кужне …Образцы одежды и обуви были представлены через Тобольский музей на Омскую выставку 1911 года. Образцы высочайшего класса местных мастериц с Ваха, Югана и Тром-Агана Сургутского уезда были приобретены А.А. Дуниным-Горкавичем и посланы на Парижскую выставку. […]
Узоры на бересте (ваховских остяков) и шитье бисером (салымских) Очень высоким мастерством исполнения отличались мелкие вещи: кошельки, кисеты, сумки для хранения различных женских принадлежностей: ниток, иголок, сухожилий, бисера, стекляруса и т. д. […]
Наряды женщин-ханты Прииртышья Кроме кожи и меха зверей и птиц, широко использовалась рыбья кожа, обычно кожа налима, иногда – осетра и стерляди. Из налимьей кожи шили штаны, так называемые «штаны на рыбьем меху», а также рукавицы, мешки, сумки, детскую обувь.[…]
Рыболовство […] Основной промысел рыбы ценных пород проводился на реках Березовского уезда. Там у русских рыбопромышленников, наряду с русскими, работали ханты и ненцы с семьями, жили в своих чумах, работали по 15 часов в день, получали по 20–30 рублей за лето, питались плохо, о спецодежде не имели понятия. Расчет проводился не деньгами, а товарами, что еще больше усиливало зависимость и кабалу.
Рыбопромышленное заведение на р. Оби В 1876 году И.С. Поляков по поручению Академии наук произвел обследование Тобольского Севера, подтвердившее жестокую эксплуатацию рабочих рыбопромышленниками. По распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири Казнакова принят был ряд мер в защиту промысловых рабочих: сокращение продолжительности рабочего дня, требование к хозяевам построить жилые помещения с соблюдением гигиенических норм по планам губернского строительного комитета, столовые, бани, улучшить питание, одежду. Но мероприятиям этим не суждено было осуществиться. Рыбопромышленники не выполняли распоряжений, и администрация была бессильна в борьбе с ними. […] Пирожников Г.А. Обь-Иртышский Север // Югра. 1994. № 5. С. 32, 34; № 7. С. 41–43; № 8. С. 46.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||