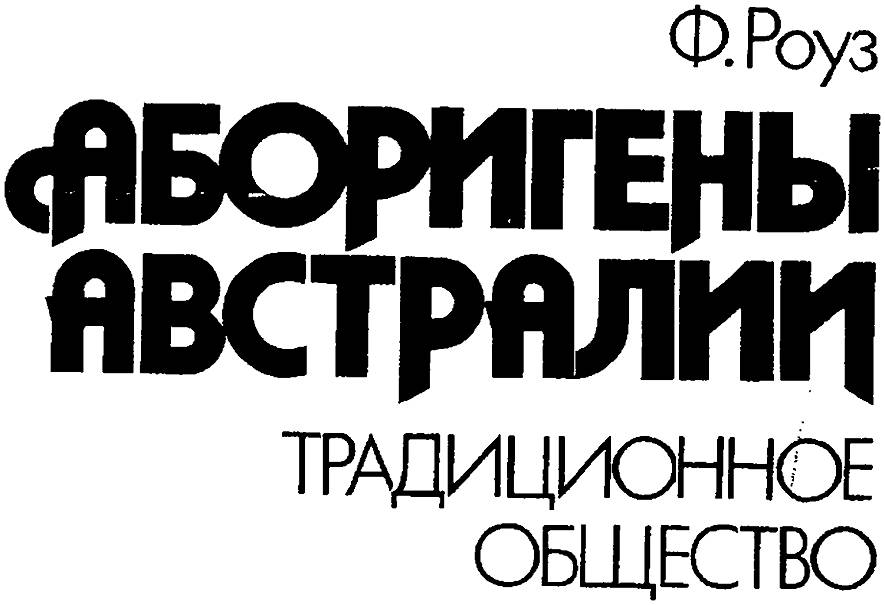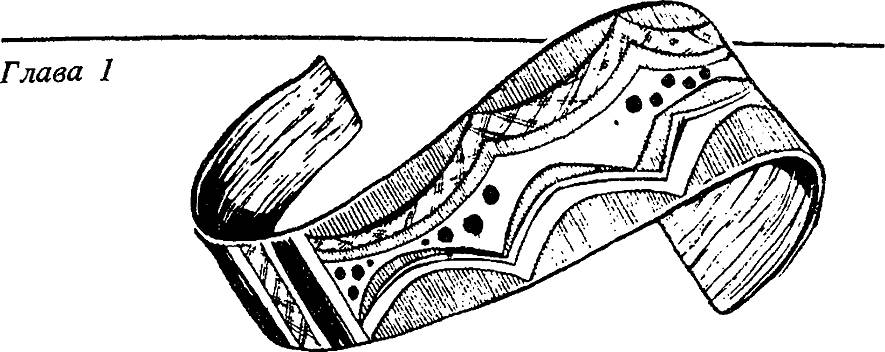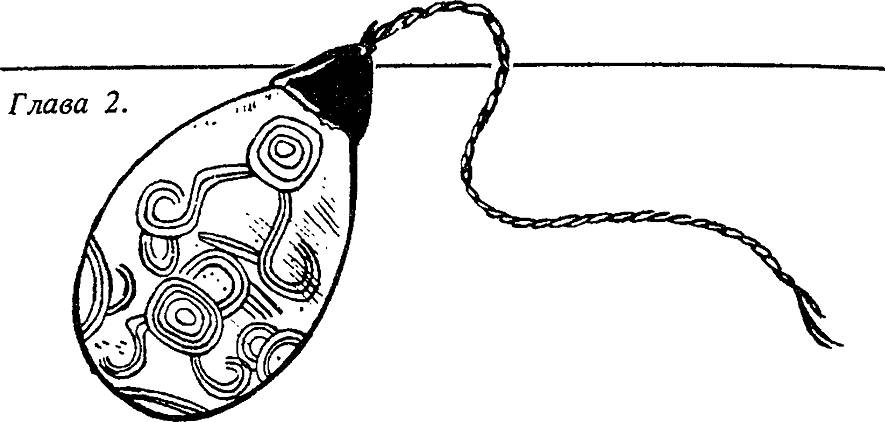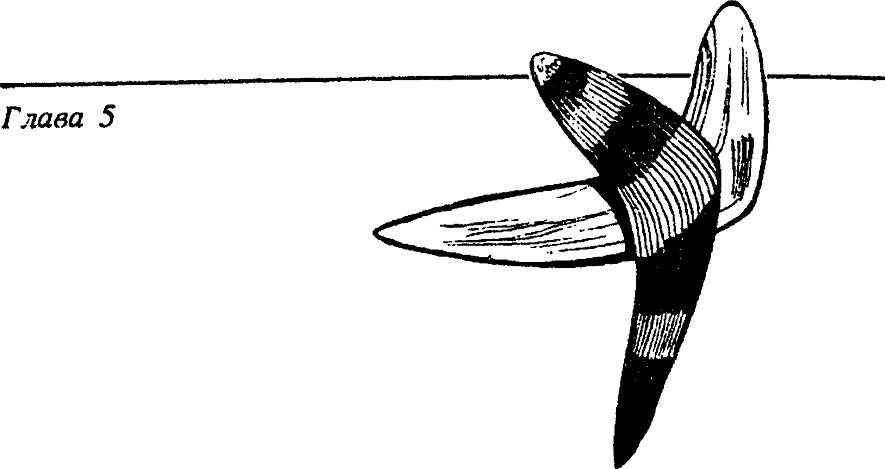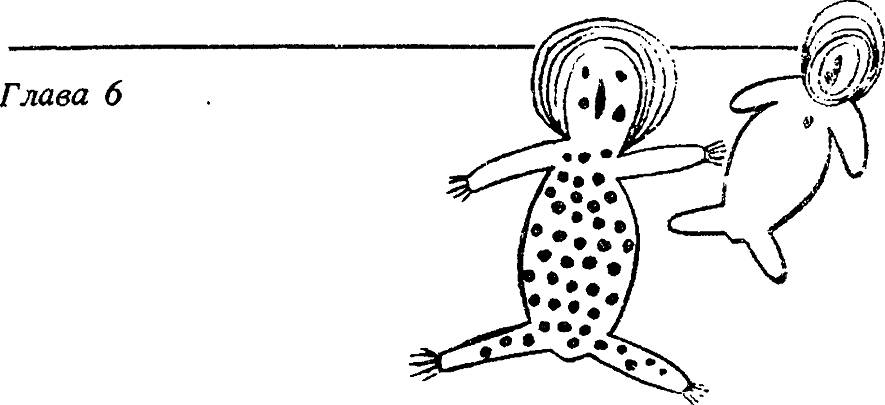| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод с английского Е. В. ГОВОР Редакция доктора исторических наук В. Р. КАБО
ББК 63.5(3) Р 79 Переводчик Е. В. Говор Роуз Ф. 1 П 79 Аборигены Австралии. Традиционное общество.: Пер. с англ./Ред. В. Р. Кабо.— М.: Прогресс, 1989.— 320 с. ISBN 5—01—001656—2 На основе обширного, во многом уникального материала в книге дана развернутая характеристика производственных отношений коренного населения Австралии, находящегося на ранней стадии социального развития, и показано их определяющее влияние на формирование культуры. Значительное место в работе уделено совершенствованию орудий труда, вопросам собственности на землю, взаимоотношениям внутри общины и семьи, эволюции традиционного способа производства. Автор книги — участник многих научных экспедиций, около двадцати лет возглавлял кафедру этнографии Берлинского университета. 0505000000—103 _л 006(01)—89 ,0—89 ББК 63.5(3) ISBN 5—01—001656—2 Редакция литературы по международным отношениям и истории F. Rose Перевод на русский язык и предисловие, издательство «Прогресс», 1989 Предисловие Имя Фредерика Роуза известно советским читателям — в нашей стране были опубликованы две его книги: «Аборигены, кенгуру и реактивные лайнеры» (М., 1972) и «Аборигены Австралии» (М., 1981). Ф. Роуз — этнограф, автор многочисленных работ, посвященных аборигенам Австралии, их истории и современному положению, общественному строю и искусству. Как его научные труды, так и популярные книги в значительной мере основаны на собственных полевых материалах, собранных во время длительного пребывания среди аборигенов Северной Австралии в 1930—1940-е годы, когда аборигены этой части континента еще не испытали разрушительного воздействия европейской колонизации, а также в ходе нескольких последующих экспедиций. Непосредственное и всестороннее знакомство с жизнью аборигенов придает книгам Ф. Роуза ценность первоисточника. В книге, которая предлагается вниманию читателей, Роуз впервые обращается к теме, еще очень слабо разработанной наукой — к социально-экономическим отношениям в традиционном обществе австралийских аборигенов. В нашей стране переведены и изданы два фундаментальных труда, показывающих общественный строй и культуру аборигенов Австралии такими, как они сложились на протяжении многих тысячелетий самостоятельного развития этого народа — «Коренное население Австралии» А. Элькина (М., 1952) и «Мир первых австралийцев» Р. и К. Берндтов (М., 1981). Значение этих классических книг трудно переоценить — общество и культура коренных австралийцев давно и справедливо рассматриваются мировой наукой как своего рода эталон первобытной культуры, первобытного общества на одном из ранних этапов его развития, соответствующих (по археологической шкале) позднему палеолиту и мезолиту. Иными словами, по аборигенам Австралии можно судить о том, как жили и народы других континентов в эпоху каменного века, когда закладывались основы человеческой цивилизации. В этом отношении материалы австралийской этнографии имеют особенно большую ценность еще и потому, что аборигены пятого континента на протяжении по крайней мере 40 тысяч лет развивались в почти полной изоляции от остального мира. Сказанное объясняет пристальное внимание науки к этому уникальному обществу, объясняет, почему традиционный общественный строй и культура аборигенов Австралии издавна являются предметом интенсивного изучения. Но несмотря на это, недостаточно исследованной областью остается, как сказано, их экономика, система производственных отношений, т. е. самая основа традиционного общества. Она-то и составляет главную тему труда Ф. Роуза. Как исследователь-марксист, он не мог пройти мимо того, что заложено в основе социального строя и культуры человеческого общества на любой ступени его развития. Такого монографического исследования экономики аборигенов Австралии в мировом австраловедении еще не было. Существует немало работ, посвященных различным сторонам жизни аборигенов Австралии в тот период их истории, когда они еще сохраняли традиционные основы общественного быта и культуры, когда последние еще не были искажены или разрушены европейской колонизацией. Тем не менее книга Ф. Роуза занимает в ряду этих работ особое место. Она существенно дополняет все ранее написанное об австралийских аборигенах. Роуз сам справедливо говорит о том, что потребность в таком исследовании давно назрела. Автор стремится подвергнуть традиционный способ производства в обществе аборигенов Австралии материалистическому анализу, и в таком объеме делается это впервые. Производительные силы и производственные отношения, естественное и общественное разделение труда, производственные объединения, формы собственности исследуются им как единая, целостная интегрированная система, разносторонне и глубоко. Невозможно, например, понять отношения собственности на землю у аборигенов Австралии, не принимая во внимание взаимодействие традиционных норм и обычаев, специфических для первобытного общества родственных связей и связей по браку, которые интегрируют общество, занимают в нем особое место, непривычное для человека иной культуры. Его анализ прежде всего данной темы основан — что очень важно — на полевых наблюдениях автора. Добавим к этому, что Роуз обладает редкой способностью видеть факты и теоретические проблемы непредвзято, собственными глазами, и выводы его всегда оригинальны. Во многом именно поэтому книга Ф. Роуза представляет большой интерес для советского читателя. Ф. Роуз начинает книгу с критического анализа исходных методологических принципов, на которых строятся работы его предшественников, затем изучает традиционное австралийское общество и человека как главную производительную силу, обращая при этом особенное внимание на демографические параметры. Он не стремится охватить все аспекты проблемы, а останавливается на теоретически важных и в то же время мало изученных — численности и плотности коренного населения и способах их оценки, количестве аборигенов, с которыми отдельный абориген вступает в контакт на протяжении жизни, значении генеалогий и проблеме их использования для демографической статистики, возрастной структуре общества и приемах определения возраста аборигенов в традиционных условиях, возрасте вступления в первый брак, инфантициде и гомициде и т. д. Отдельная глава книги посвящена земле как основному средству производства. Здесь автор заостряет внимание на вопросе, который приобрел большую актуальность в настоящее время в связи с борьбой аборигенов за возвращение им земель, принадлежавших их предкам, а именно: чем прежде всего выступает земля в глазах самих аборигенов — объектом экономических отношений и интересов или местом, где расположены тотемические святилища. Вопреки мнению многих западных авторов, Ф. Роуз приходит к выводу, что экономическое значение земли является и объективно, и для самих аборигенов фактором важнейшим и определяющим. Он приходит к такому выводу на основе этнографических данных, относящихся к прошлому, и фактов, обнаружившихся в самое последнее время. В книге рассказывается об орудиях труда и способах их применения в производственном процессе Здесь мы не находим исчерпывающего описания орудий, на которых основывалось хозяйство аборигенов в традиционных условиях,— оно сделано другими авторами. Зато в этой главе (как, впрочем, и в других) читатель найдет немало интересных, оригинальных выводов и фактов, основанных во многом на собственных наблюдениях автора и иногда разрушающих привычные представления. В главе о традиционном разделении труда в обществе аборигенов большое внимание уделено наименее исследованному аспекту — разделению труда, основанному на возрастных различиях: в каком возрасте абориген включается в общественное производство, когда он перестает принимать в нем активное участие и — что особенно интересует автора — когда абориген достигает вершины своих возможностей как участник производственного процесса. Заключительные главы посвящены анализу традиционных социальных институтов, их месту и роли в общественном производстве — семье, роду (по терминологии автора, «патрилинейной землевладеющей локальной группе»), объединению родов, или племени, и, наконец, производственной группе, или общине. Эти главы являются основными, стержневыми главами всей книги. Здесь мы и подходим к одной из главных проблем исследования — вопросу о собственности, к той проблеме, без правильного понимания которой невозможно понять экономику первобытного доземледельческого общества в целом. По мнению Ф. Роуза, носителем отношений собственности на основное средство производства — на землю — является та социальная общность, которую он называет патрилинейной землевладеющей локальной группой. Вот как он характеризует рассматриваемую общность. Прежде всего это объединение родственников, связанных происхождением по одной, а именно отцовской, линии, иными словами, то, что принято называть патрилинейным родом. Как считает Ф. Роуз, именно такая группа и является субъектом коллективной собственности на землю. Вместе с тем отношения собственности, присущие этой группе, выступают в религиозной (тотемической) форме, иначе говоря, реализуются как отношения по содержанию, по сути экономические, а по форме религиозные. Указанное обстоятельство и мешает, по мысли Ф. Роуза, пониманию группы как собственницы земли в экономическом смысле — вместо этого отношение данной общности к земле рассматривается обычно как религиозное по своей природе. Однако такое отношение к земле, полагает Ф. Роуз, должно основываться на экономической собственности на землю. Автор, к сожалению, почти не показывает, в чем же реально выражалась экономическая собственность рода на землю, каковы были хозяйственные функции этой общности. По его словам, любой абориген фактически имел право жить, а значит, добывать пищу на земле нескольких родов, и конфликтов из-за собственности на землю в этих случаях не возникало. Один из немногочисленных фактов, приводимых им для подтверждения своей концепции, согласно которой род обладал экономическими фукциями,— существование в некоторых местах Австралии лиц, которые в соответствии с нормами обычного права руководили выжиганием травы для общей охоты или организацией некоторых других коллективных действий. Обычно это были старшие члены того же рода и мужчины, принадлежащие к другому, строго обусловленному нормами, роду. Характеризуя подобные отношения, Ф. Роуз пользуется терминами «управляющие» и «владельцы», заимствованными из описаний обрядовой практики австралийцев. Мы узнаем, однако, что получить согласие на то или иное хозяйственное мероприятие у членов рода, который номинально считается владельцем территории, при свойственной австралийцам территориальной разобщенности, было совсем не просто, и такое требование на практике часто не соблюдалось. Ведь члены рода были рассеяны на большой территории, никогда не жили все вместе в одной группе, иначе говоря, род в действительности не был в полном смысле слова «локальной группой», как называет его Ф. Роуз, и факты, приводимые им, свидетельствуют об этом. Ф. Роуз отмечает, кроме того, что, предоставляя своих женщин в качестве жен другим родам и получая жен от них, род, на началах взаимности, приобретал право пользоваться их землей и, наоборот, предоставлял свою землю в пользование представителям других родов. Это, полагает Ф. Роуз, также говорит в пользу того, что род был землевладеющей группой. Автор, однако, сам замечает недостаточную убедительность приводимых аргументов, и его собственное сомнение в их доказательности обнаруживается в конце второго раздела седьмой главы. Как же понимает Ф. Роуз ту социальную общность, которую он называет производственной группой, т. е. общину? Почему именно этот коллектив, а не патрилинейную землевладеющую локальную группу он называет «производственным» и почему, в его представлении, производство, добывание средств существования на земле отделено от собственности на эту землю, почему субъектами этих отношений, казалось бы тесно связанных, оказываются разные социальные общности? Ведь, по определению самого автора, производственная группа является главной производственной ячейкой общественной структуры; ведущая ее функция — добывание средств существования охотой и собирательством. И этим функции производственной группы не ограничиваются, внутри ее происходит и распределение добытых продуктов. Иначе говоря, весь производственный цикл осуществляется внутри этой группы. Ф. Роуз утверждает, что производственная группа непосредственно имела право заниматься выжиганием растительности, этим ведали «управляющие» и «владельцы». Но ведь выжигание травы далеко не самая важная хозяйственная функция, оно происходило в относительно редких случаях, при совместной охоте нескольких производственных групп. А как же обстояло дело в повседневной жизни, когда охотой и собирательством занималась одна производственная группа? Об этом, к сожалению, автор пишет недостаточно, а между тем перед нами главная форма хозяйственной деятельности аборигенов в традиционных условиях. Отметим, что и распределение пищи, по данным самого Ф. Роуза, вопреки родовым нормам, на практике осуществлялось без обязательной связи с родственными или родовыми отношениями. Состав производственной группы не был строго обусловлен вхождением ее членов в ту или иную патрилинейную землевладеющую локальную группу и определялся наряду с этим и другими факторами — дружескими связя- і О ми, соображениями экономической целесообразности и т. д. Производственная группа могла формироваться вокруг одного, главного, или локализованного, рода как своего ядра. Однако такие локально-родовые производственные группы, или общины, существовали не повсеместно — имелись и гетерогенные общины, образованные из людей нескольких «равноправных» родов. Таким образом, производственная группа состояла из представителей двух или более родов. Иначе и не могло быть — неписаный закон родовой экзогамии запрещает людям, принадлежащим к одному роду, вступать в брак друг с другом, члены одного рода всегда должны брать мужей и жен в других родах, и поэтому в семье муж и жена всегда принадлежат к разным родам. А производственная группа формируется из семей. Вследствие всего этого часть членов производственной группы, пришедшая из других родов, должна добывать средства существования на земле не своего собственного рода; ведь в отличие от рода производственная группа — единый хозяйственный организм, она функционирует как одно целое. Казалось бы, сказанное подтверждает концепцию Ф. Роуза, а именно что собственность на землю и производственные функции в традиционном обществе аборигенов не совпадали, что род действительно был землевладеющей группой. Но именно это и остается недостаточно аргументированным. Глава, посвященная производственной группе, содержит поистине уникальные материалы собственных полевых исследований автора. Ему удалось изучить одну из общин о-ва Грут-Айленд в то время, когда население острова еще не было затронуто воздействием европейской колонизации. Автор выяснил родственные отношения членов общины, их родовую принадлежность, возраст, характер взаимоотношений юношей и их «наставников». Перед нами — классическая община, группа людей, принадлежащих к нескольким родам (причем к разным родам принадлежат и мужчины, родившиеся в общине), живущая на земле рода, к которому относится лишь часть ее членов. Это не вписывается в концепцию автора, согласно которой род является землевладеющей локальной группой. Вопрос о соотношении рода и общины, о том, как соотносятся территория рода и территория общины, на которой фактически проходила вся жизнь человека, остается по-прежнему открытым. Мы отчетливо видим, каким представляется Ф. Роузу экономическое значение двух важнейших социальных общностей традиционного австралийского общества — патрилинейной землевладеющей локальной группы и производственной группы. Отметим сразу же как достоинство его исследования тот факт, что он различает эти общности и каждую из них рассматривает отдельно. В действительной жизни любого первобытного доземледельческого общества — не только австралийского — названные общности тесно связаны: общины состоят из представителей двух или более родов, люди одного рода входят в разные общины, тесно переплетены и некоторые функции этих социальных институтов. И все же научный анализ дает возможность расчленить их и очертить круг деятельности каждого из них, найти истинное место каждого в жизни общества в целом. До сравнительно недавнего времени в советской этнографии эти первобытные общности большинством исследователей либо не расчленялись, либо недооценивался такой социальный институт первостепенной важности как община. А так как исследователям было ясно, что общество не может существовать без производства материальных благ, что производство является основой жизни любого общества, в том числе и первобытного, функция производства обычно приписывалась роду и последний рассматривался как производственная ячейка традиционного первобытного общества. Надо сказать, что потребовался ряд острых дискуссий, чтобы была признана правота тех исследователей, кто выделял общину как один из основных социальных институтов первобытности, как носительницу важнейших производственных функций. Без выделения и изучения общины как универсальной ячейки первобытной социальной структуры невозможно понимание не только экономики — всей жизни первобытного общества. Возникнув на заре человеческой истории как форма организации общественного производства, как оптимальная форма организации всей жизни формирующегося человеческого общества, община затем прошла длительный путь исторического развития и сохранилась вплоть до этнографической современности у охотников и собирателей многих географических зон земного шара, включая и аборигенов Австралии. Менялись формы общины, но сама община как социальный институт сохраняла на протяжении всей истории первобытного общества свое значение, свою ведущую социально-экономическую роль. Она была основополагающей общественной формой первобытнообщинного строя, на ее основе сформировались другие его структуры, в том числе родовые, она стала ключом к пониманию многих важнейших его общественных функций. Первобытная община основывается на коллективной собственности на землю, которая выступает как главное условие и средство производства, источник всех материальных ресурсов жизни общества. Анализ общинных структур многих первобытных доземледельческих народов земного шара показывает, что отношения производства и собственности на землю и естественные ресурсы в этих обществах нераздельны и сосредоточены в общине. Не являются исключением и аборигены Австралии. Мы имеем здесь дело с явлением типологическим, универсальным. Собственность на землю как источник средств существования, как экономическое отношение реализуется в раннем первобытном доземледельческом обществе только через отношения производства и распределения, а их носителем является прежде всего община. По словам Ф. Энгельса, для первобытного общества характерна собственность, созданная своим трудом (См.: Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства.— К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 21, с. 159). Земля как источник средств существования находится в коллективной собственности тех, кто трудится на ней,— в собственности общинной. Уже самой ранней формой собственности было отношение возникающего общества к естественному условию производства — земле, и отношение это не могло не принимать форму общинной собственности на землю. Отношение к земле как собственности в процессе становления общественного производства было, говоря словами К. Маркса, «опосредовано естественно сложившимся, в той или иной мере исторически развитым и видоизмененным существованием индивида как члена какой-либо общины» (К. Маркс. Экономические рукописи 1857—1859 годов.— К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 46, ч. I, с. 473). Первобытная община, для которой характерно природное единство с объективными, естественно сложившимися условиями производства, выступает, согласно К. Марксу, в качестве «первой великой производительной силы», а само это единство — как «особая форма собственности» (там же, с. 485). Община — естественно сложившаяся форма, в которой возникло общество,— преобразовала присвоение земли как условие производства в общую собственность на землю. Иначе говоря, на ранних стадиях общественного развития коллективное производство основывалось на общинной собственности на территорию, которую община осваивала, и ее естественные ресурсы. То же относится и к более поздним обществам охотников и собирателей. Так, у тасманийцев, находившихся на стадиально самом низком из известных этнографии уровней общественного и культурного развития, как и у всех других охотников и собирателей, основной экономической ячейкой общества, главным производственным коллективом была община. Земля с ее ресурсами находилась в собственности коллектива, добывавшего на ней средства существования,— в собственности общины; общинная территория считалась «страной» общины. Существовала ли у тасманийцев родовая организация? Источники не дают ответа. Исторически с развитием и укреплением рода последний принимает на себя и некоторые экономические функции общины, в недрах которой он сформировался, но произошло ли это уже у тасманийцев, мы не знаем. То же самое наблюдалось и у австралийцев, живших в традиционных или близких к ним условиях, хотя родовая организация достигла у них большого развития. Многочисленные факты показывают, что во всех племенах обширного континента каждая община имела в своей коллективной собственности определенную территорию со всеми ее животными, растительными и минеральными ресурсами. Правда, реализация отношений собственности, связи общины с осваиваемой ею территорией — такую связь можно назвать общинной территориальностью — имела неоднозначное нормативное выражение: в одних случаях переходить границы этой^территории представителям других общин разрешалось только с согласия владельцев, и произвольное нарушение границ вело к столкновениям, в других, сравнительно более редких случаях, соседние общины одного племени добывали пищу и минеральное сырье на землях друг друга, не испрашивая особого разрешения. В этих случаях собственность отдельных общин на землю не была абсолютной, и общины одного племени рассматривали его территорию как их общую кормовую область. Такая ситуация позволяла им успешно осваивать всю территорию племени с ее разнообразными естественными ресурсами, ориентируясь в разное время года на добывание то одних видов пищи, то других. Общины как бы попеременно обменивались продовольственными ресурсами, сводя, таким образом, к минимуму неоднородность экономических условий, угрожающих отдельной общине голодом, если бы территориальность жестко соблюдалась. Но нужно отметить, что свойственное всем аборигенам представление о связи отдельных общин с определенными территориями неизменно сохранялось. Не опровергают ли приведенные факты концепцию общинной собственности на землю? Думаю, что нет — они лишь демонстрируют пластичность и адаптивность первобытного общества, его приспособляемость к изменчивости экологических условий, в соответствии с которыми оно меняет и свои социальные отношения и нормы, делает их более жесткими в одних случаях и смягчает, когда необходимо, в других. По мнению некоторых исследователей, в тех случаях, когда ядром австралийской общины является локализованный патрилинейный род (мужчины которого живут почти постоянно на земле своей общины), земля находится в собственности локализованного рода. Но на этой земле постоянно живут только мужчины локализованного рода, а женщины, вступая в брак, уходят в другие общины. В то же время жены этих мужчин, приходя из других общин и оставаясь членами своего рода, наравне со своими мужьями участвуют в общественном производстве и имеют фактически те же права на природные богатства общинных земель. Все основные, повседневные экономические функции, включая производство, распределение и потребление продукта, община осуществляет как единый производственный коллектив, независимо от родовой принадлежности ее членов. В чем же выражается собственность рода на землю, в каких реальных экономических функциях она реализуется? Здесь, безусловно, наблюдаются те факты, о которых упоминает Ф. Роуз, связанные с перенесением на род некоторых экономических функций, но их все же, по моему мнению, не достаточно, чтобы говорить о собственности рода на землю как экономическом отношении. У аборигенов Австралии отношение рода к земле главным образом тотемическое, религиозно окрашенное. Между тем охотничье-собирательские угодья общины экономически осваиваются всеми ее членами, а иногда и членами других общин, как правило, независимо от их родовой принадлежности. Род и община тесно связаны, но по своей сущности, по происхождению род — институт не экономический. Если для общины земля выступает как экономическая основа ее существования, то членов рода интересуют прежде всего тотемические святилища, расположенные на ней. Конечно, в основе тотемических связей с землей находятся хозяйственные связи, в чем Ф. Роуз абсолютно прав и что очень убедительно доказывает. Но, наверное, не следует упускать из виду то обстоятельство, что это, по существу, экономические связи общины со своей землей, что и сама родовая организация формируется в недрах общины. Сформировавшись, род преобразует изначально существующие объективно-экономические связи, которые теперь принимают религиозно-мифологическую ритуализованную форму. Однако сама земля, на которой расположены тотемические святилища, по-прежнему экономически осваивается всей общиной, а не только членами определенного рода. Права членов общины на природные богатства общинной территории определяются — хотелось бы отметить еще раз — не принадлежностью к роду — в этом отношении члены общины равноправны. Ограничения или преимущества в правах на те или иные продукты охоты или собирательства, существующие внутри общины, обычно определяются принадлежностью к различным половозрастным группам, из которых состоит община. Но это не вносит в общину какого-либо элемента экономического неравенства. Полагаю, что нет оснований утверждать, будто земля находится в собственности лишь части общины, ее родового ядра, членов локализованного рода — она принадлежит всему трудовому коллективу в целом. Точно так же нет оснований утверждать, что повседневными делами общины, основными ее экономическими функциями ведают люди, живущие в других местах, хотя бы они и были членами рода, на земле которого живет община,— нет, всем этим ведают сами члены общины независимо от родовой принадлежности. И даже если соседи какой-либо общины, по предварительной договоренности или без нее, добывают средства существования на ее земле, территория, на которой члены общины, все без исключения, имеют преимущественное право охотиться, собирать растительную пищу, добывать сырье для орудий, находится в ее собственности. Иной формы реализации права собственности на землю, собственности в экономическом смысле слова, первобытное общество не знает. Мы говорим о том, что исторически родовая организация возникла внутри общины и на ее основе, но что, возникнув, род постепенно приобретает все большее значение как социально-регулирующий институт. Принадлежность к роду определяет мировоззрение и поведение австралийцев, их нормативно закрепленные взаимоотношения с другими людьми, в частности указывает, на ком можно жениться, следовательно, конструирует и саму общину. Заключение браков внутри общины, а значит, и сам ее состав, отныне регулируется родовой принадлежностью вступающих в брак, что, в свою очередь, связывает представителей различных общин и родов, вступающих в брак, не только родственными, но и экономическими узами, как весьма доказательно показывает Ф. Роуз. Вследствие всего этого род начинает рассматривать себя собственником не только тотемических святилищ, но и самой земли, на которой они расположены. Объективная, реально существующая общинная собственность на землю с развитием родовой организации воспринимается людьми как родовая. Социальной психологии вообще свойственно воспринимать объективные, реальные отношения сквозь призму идеологических наслоений. Да и сами исследователи подчас смешивают идеологическое по преимуществу отношение рода к земле, на которой находятся тотемические святилища, с экономической собственностью на землю. Это происходит, возможно, потому, что сами члены родовой общины зачастую не различают идеологическое отношение к земле и экономическую по своему содержанию собственность на землю. Иначе говоря, тотемическое, религиозно-культовое отношение к земле неправомерно отождествляется исследователями с собственностью как экономическим отношением, и в этом они нередко следуют за самими аборигенами. Но, будучи родовой по форме, по внешнему своему выражению, собственность на землю все же остается общинной по существу. Содержание понятия «собственность» составляют объективные отношения, складывающиеся между людьми в процессе производства и присвоения ими материальных благ. Но отношения собственности воспринимаются людьми субъективно, и в этом — одна из причин того, что общинная собственность выступает в сознании людей как 2—320 собственность родовая. Такое субъективное восприятие отношений собственности не исключает, конечно, того, что по мере развития рода он, в лице части его членов, может стать и фактическим распорядителем земли, но этот процесс не является необходимым и универсальным и, как правило, реализуется лишь в относительно редких, строго определенных социальными нормами случаях, что можно наблюдать в отношениях типа «владелец» — «управляющий», о которых пишет Ф. Роуз. Объективные экономические отношения внутри первобытной общины находят многообразное — нередко противоречивое — нормативное выражение. И все же исследователь, хочется отметить, должен отличать объективно-экономические отношения собственности от субъективно-идеологического их выражения, от их преломления в общественном сознании. Формальная родовая собственность на землю еще не свидетельствует о фактической экономической собственности рода на землю и естественные ресурсы. Не является она и «пережитком» далекого прошлого, когда род был якобы экономическим институтом. Она — не пережиток исчезнувших отношений, а свидетельство становления новой их системы, укрепления родовой организации, продолжающегося в этнографической современности. Гораздо определеннее, четче выступает общинная собственность на землю у тех охотников и собирателей, где родовая организация еще не сложилась или по тем или иным причинам исчезла — у бушменов, эскимосов, у многих других народов Африки, Америки, Юго-Восточной Азии, при всех социально-исторических, культурных, экологических различиях между ними. Экономические отношения не затемнены здесь родовыми наслоениями и предстают в более обнаженном облике. Эти и другие факты и проблемы, о которых говорится в настоящем предисловии, подробіно рассмотрены в моей книге «Первобытная доземледельческая община» (М., 1986). В работах многих авторов недостаточно отражена внутренняя динамика общины, что ведет к неясностям и противоречиям в описании ее структуры: у одного автора мы читаем о стабильности общины и ее состава, у другого — о ее неустойчивости и изменчивости. По мнению Ф. Роуза, любая группа аборигенов, с которой вступал в контакт наблюдатель, «всегда выступала в основе своей производственной единицей», тогда как другие исследователи, у других охотников и собирателей, различают целевую, или производственную, группу и «региональную общину», которая якобы не является производственной единицей. В действительности, как показывают материалы по охотникам и собирателям всех регионов, у этих народов общинная структура характеризуется, в принципе, едиными универсальными чертами: общины состоят из семей и в определенное время года, в зависимости от условий хозяйственной жизни, распадаются на небольшие группы семей, или хозяйственные группы. Кроме того, для выполнения единовременных задач (войны, охоты, собирательства) общины выделяют из своей среды целевые группы, состоящие из мужчин либо женщин. Будучи относительно стабильным институтом, община в то же время является совокупностью подвижных, меняющих свой состав и величину хозяйственных групп. В определенное время года хозяйственные группы рассеиваются по территории общины, чтобы затем снова объединиться; цикличность состояний дисперсии и концентрации находится в зависимости от цикличности природных условий. Община как бы совмещает в себе две противоположные тенденции — стабильность и устойчивость, с одной стороны, непостоянство и изменчивость, с другой. Это делает ее гибким социальным образованием, способным перестраиваться в соответствии с изменениями в природной среде, в демографической ситуации и, наконец, и прежде всего, в связи с требованиями хозяйственной деятельности. Именно пластичность и адаптивность общинной структуры, главного производственного механизма первобытного общества, позволили первобытному человечеству сохраниться в самых неблагоприятных климатических условиях и заселить целые континенты. В этом — один из главных источников устойчивости и жизнеспособности первобытно-общинного строя. Названные свойства и сделали общину ведущей его общественной формой. Хотелось бы обратить внимание еще на одну проблему. Формулируется она следующим образом: характеризуя традиционное общество аборигенов Австралии, можем ли мы, и в какой мере, опираться на современные этнографические материалы? У Ф. Роуза есть замечания относительно того, что выводы этнографов, работавших среди аборигенов в послевоенные годы, нельзя переносить на традиционное общество. В то же время он пишет и нечто иное, например что значительная часть аборигенов племени валбири в 1950-е годы, когда их изучал М. Меггит, вела традиционный образ жизни охотников и собирателей. Надо сказать, что верно, на мой взгляд, последнее утверждение и относится оно не только к валбири — многие исследователи и после второй мировой войны имели возможность наблюдать аборигенов, еще сохранявших традиционный образ жизни. Если он и существенно менялся, то такие перемены охватывали не все стороны жизни и не все группы аборигенов одновременно; они находились в зависимости от конкретных исторических и социальных условий. Исследователь, полагаю, в состоянии учесть характер, глубину и направленность перемен, выяснить, в чем именно и в какой мере выразилось воздействие колонизации и иных факторов, а значит, и восстановить первоначальную картину. Наконец, этому помогают срвнительные исследования, опирающиеся на сопоставление современных материалов с источниками прошлого века, когда перемены еще не наступили. Наши критические замечания ни в коей мере не умаляют значения книги Ф. Роуза. Они относятся к сложным и дискуссионным вопросам, имеющим весьма важное теоретическое значение, где существуют иногда и противоположные взгляды. Здесь мы только хотели, в интересах научной истины, показать, что возможен иной подход к тем же вопросам. Важность этих проблем оправдывает и даже требует их обсуждения. Рассматривая кардинальную проблему истории первобытного общества — проблему социально-экономических отношений в обществе охотников и собирателей,— автор насыщает свою книгу изобилием фактов и мыслей, причем очень многое у Роуза по-настоящему своеобразно. Особенную, и уже отмеченную мною, ценность, безусловно, представляют результаты полевых исследований автора. Упомяну, к примеру, главу о семье у аборигенов Австралии, где читатель найдет яркий материал о браке и его экономическом содержании, о возрастной структуре брака и полигинии, об экономическом значении инициации, о классификационных системах родства, которые автор освещает по-новому — именно как отражение производственных отношений. Нельзя не отметить такие крупные проблемы, поднимаемые автором, как соотношение биологического и социального, природного и человеческого, как планирование в первобытном обществе. Этот перечень можно легко расширить — круг научных интересов Ф. Роуза, основанный на его колоссальном опыте, весьма обширен. Итак, перед нами книга, полезная не только для специалистов. Ее с интересом прочтет каждый, кого волнуют проблемы генезиса человеческого общества и культуры. Таких людей становится все больше, все чаще и настойчивее обращается современное человечество к своему далекому, первобытному прошлому, отыскивая в нем ответы на многие вопросы современной жизни, ибо там, в глубинах истории, заложены истоки всего того, чего достигло человечество на своем пути. Современного человека поражают богатство, разнообразие и насыщенность общественной и духовной жизни людей каменного века. Их жизнь, теперь достаточно всесторонне изученная этнографами, оказалась совсем не такой бедной и примитивной. За внешней отсталостью открылось богатство и материальной культуры, и духовного мира, бесконечное многообразие обрядов, верований, мифов, сюжетов и форм изобразительного искусства, других проявлений народного творчества, сложнейшие системы родства и непростая, хотя и соответствующая первобытному укладу, социальная организация. Жизнь аборигенов Австралии продолжается. Согласно последним официальным данным, относящимся к 1981 г., их численность составляет 145 тыс. человек. Более 20 тыс. из них живут на своих коренных землях, при миссиях и правительственных поселениях в отдаленных областях Северной Территории, Квинсленда и Западной Австралии. Они еще сохраняют отдельные элементы традиционной культуры и общественного строя. Некоторые группы не отказались от охотничье-собирательского хозяйства и проводят часть времени в традиционных условиях, а другую — в постоянных поселках, сочетая сезонно-оседлый образ жизни и работу по найму с охотой и собирательством. Увеличивается количество коренных жителей Австралии в городах. Из-за невозможности получить удовлетворительное образование и вследствие бытующих в обществе расовых предрассудков большинство из них вынуждено довольствоваться неквалифицированной работой. Средний годовой доход семьи составляет у аборигенов 6 тыс., а у остальных австралийцев — 12 тыс. австралийских долларов. И все же, несмотря на тяжелую и сложную экономическую ситуацию, с каждым годом увеличивается число аборигенов, получивших среднее и высшее образование. Интеллигенция, вышедшая из среды аборигенов, вносит своей деятельностью значительный вклад в развитие современной национальной культуры и в борьбу за улучшение условий жизни. Аборигены уже выдвинули из своей среды самобытных писателей, поэтов, художников, идеологов национального движения. В Центральной Австралии, в Алис-Спрингсе, аборигены издают собственную газету. Здесь же находятся первая в Австралии коммерческая телевизионная станция, обслуживаемая и руководимая аборигенами, и служба радиовещания для аборигенов Центральной и Северной Австралии. Новые тенденции в национально-освободительном движении и этническом развитии аборигенов наметились в 1970-е годы. Основным направлением политической борьбы аборигенов стало требование возвратить им в собственность древние племенные земли. Можно сказать, что социально-политическое и этническое развитие аборигенов происходит сейчас под знаком борьбы за право на землю предков. В этом ярко отразилось все значение для аборигенов связей с землей, не только экономических — последние в большинстве случаев под натиском колониализма утрачены,— но и духовных связей с нею. В 1976 г. австралийское правительство приняло Акт о земельных правах аборигенов Северной Территории, в соответствии с которым 32% земель штата отошло к аборигенам на правах их общинной собственности. В 1982 г. в Южной Австралии был издан Акт о земельных правах крупной этнической группы — питьянтьяра, в соответствии с которым они получили право коллективного владения своими коренными землями. В 1983—1985 гг. были приняты аналогичные законодательства в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Западной Австралии. В распоряжение аборигенов предоставлено уже свыше 11 % территории континента, и процесс передачи им в собственность новых земель, главным образом бывших резерваций, продолжается. Осложняется этот процесс прежде всего тем обстоятельством, что на территориях, с которыми аборигены традиционно связывают себя, сосредоточены природные ресурсы, на которые претендуют крупные горнодобывающие компании. Именно по этой причине аборигены нередко оказываются не в состоянии полностью реализовать права, формально предоставленные им земельными законодательствами. Одним из самых примечательных явлений последних лет является так называемое движение децентрализации. Группы аборигенов, численностью в несколько десятков человек, покидают миссии, правительственные поселения, фермы, уходят на свои древние племенные земли и основывают там так называемые «внешние поселения», возрождая утраченные общинно-родовые связи. Движением охвачены те области континента (Северная, Центральная и Западная Австралия, Квинсленд), где в наибольшей степени сохранились традиционная социальная организация и культура аборигенов. На земле предков они стремятся освободиться от навязываемого им контроля и организовать свою жизнь так, чтобы зависеть от чуждого им общественного устройства как можно меньше* Одни группы возвращаются к охотничье-собирательской деятельности, сочетая ее с современными формами жизни, другие (таких больше) создают на кооперативных началах земледельческие и скотоводческие хозяйства или художественные мастерские. В тенденции к созданию кооперативов проявляются давно укоренившиеся начала коллективизма. Для децентрализованных групп характерен более определенный возврат к традиционным нормам общинной жизни, к древним религиозным верованиям и обрядам. Во «внешних поселениях» появляются продовольственные склады, медпункты, школы. Аборигенам удается удовлетворять свои нужды в значительной мере собственными силами. Движение децентрализации принимает все более совершенные формы. Так, в Центральной Австралии им руководит организация, созданная самими аборигенами, с центром в Алис-Спрингсе. Название ее Ингкерреке, что означает «Люди, работающие вместе». Она оказывает вновь созданным поселениям всевозможную материальную помощь, содействует им в приобретении земли, строительстве жилищ, улучшении бытовых условий, а главное, поддерживает и развивает у соплеменников самосознание, чувство собственного достоинства. Подобные организации, как и все движение в целом, порождены стремлением аборигенов к самостоятельному существованию, к управлению своими делами. Это — выражение осознанного единства и солидарности когда-то разобщенных племен и общин. В настоящее время насчитывается до 400 «внешних поселений» в различных штатах. Примером успеха движения децентрализации стало правительственное поселение Манингрида на севере Австралии, в Арнемленде, где было собрано более 1 тыс. коренных жителей континента из различных племен. В 1970 г. они начали покидать Манингриду и к 1977 г. образовали 18 «внешних поселений», куда переселилось около 800 человек. Они стремились начать там новую жизнь, основанную на традиционных ценностях, но с сохранением тех элементов европейской культуры, которые представляются им полезными. У них появились клиника, радиостанция, автомобили, моторные лодки; в школе учитель-абориген преподает на местном и аглийском языках. Во «внешних поселениях» Центральной Австралии развиваются земледелие и скотоводство — формы производящего хозяйства, не свойственные предкам аборигенов. Такова диалектика движения децентрализации — возвращение к духовным ценностям прошлого и обращение к современным достижениям техники и хозяйствования. И обе тенденции сочетаются органично. Децентрализованные поселения имеют немало нерешенных проблем, но аборигены хотят сами решать собственные дела, сами определять свое будущее. К числу важнейших событий современной истории аборигенов следует отнести и развернувшееся в последние годы движение за национальное самоопределение. Культурная и языковая разобщенность, общинный и племенной сепаратизм, надо признать, все еще глубоки, но социальные и политические организации аборигенов, их идеологи национально-куль' урного возрождения стремятся преодолеть разобщенность и выковать новую этническую общность, которой не было прежде,— общность аборигенов Австралии как этническое целое, с едиными национальными интересами и задачами, с собственной самобытной национальной культурой и демократическими традициями. В этом процессе все большее значение приобретает традиционное культурное наследие, прежде всего ценности духовной культуры. Аборигены не просто хотят жить на своей земле. Земля снова обретает для них всю свою ценность, теперь уже не только экономическую,— она символизирует для них связь с культурным наследием, с прошлыми поколениями, она становится символом национального возрождения. В. Р. Кабо Введение Появление этой книги было вызвано двумя основными причинами. Во-первых, давно существовала потребность в таком исследовании и, во-вторых, необходимо было изучить и проанализировать организацию именно традиционного общества австралийских аборигенов. Прошло уже более четверти века с тех пор, как я начал читать лекции и проводить семинары по этнографии аборигенов на отделении этнологии в Университете им. Гумбольдта в Берлине. За эти годы я не раз бывал в Австралии, устанавливая новые и возобновляя старые связи с коллегами-этнографами. Они не считают себя марксистами, хотя некоторые стоят на материалистических позициях и проявляют большой интерес к моим исследованиям и методологии. Часто меня просили написать подробнее о методе, который я использовал при изучении традиционного общества аборигенов. Я обычно соглашался, но другие, более срочные дела вынуждали меня откладывать задуманное. Лишь в 1980 г., когда я ушел в отставку в звании заслуженного профессора и освободился от административной работы в университете — хотя и продолжал читать лекции,— у меня появилась возможность выполнить пожелания моих австралийских коллег. И хотя в последующие годы дел, как оказалось, не уменьшилось и работу все время приходилось откладывать, все же я постепенно пришел к мысли, что мой долг надо исполнять не только перед нынешним, но и перед будущими поколениями этнографов и, более того, перед самими аборигенами. Так с опозданием я все же взялся за эту книгу. Мне удалось осуществить не все задуманное. Первоначально я планировал при изучении традиционного общества аборигенов Австралии исследовать не только способ производства, но и надстройку. Однако от детального рассмотрения надстройки пришлось отказаться, поскольку объем книги увеличился бы вдвое и это еще больше затрудняло подготовку ее издания. Была еще одна важная причина, по которой я не стал подвергать материалистическому анализу надстройку. В отличие от традиционного базиса надстройка разносторонне и систематически изучалась как в классической этнографической литературе, так и в послевоенных исследованиях. Словом, материалов по ней имеется много, и мои коллеги лучше меня смогут справиться с изучением надстроечных элементов традиционного образа жизни и культуры аборигенов. Еще одна причина создания этой книги состоит в необходимости дать материалистический анализ традиционного способа производства. Сегодня в обществе аборигенов Австралии традиционные производственные отношения более не существуют, хотя надстройка еще сохраняется. Вторая мировая война — начиная с событий в Пёрл-Харборе 7 декабря 1941 г.— явилась переломным этапом в истории австралийских аборигенов. С этого времени племенное общество аборигенов быстро вовлекается в товарно-денежные отношения, а их традиционные производственные отношения неизбежно разрушаются. Это, конечно, не исключает того, что традиционные орудия труда и производственные процессы частично сохранились и могут быть выявлены при полевых исследованиях. В связи с тем, что и эти традиционные производительные силы исчезнут в ближайшие десятилетия, большое значение — надо заметить — приобретает обобщение деятельности Австралийского института по изучению аборигенов в Канберре. Оценивая ситуацию в целом, нельзя не констатировать, что современному поколению этнографов уже не доведется изучать традиционные производственные отношения, поскольку после второй мировой войны они были окончательно разрушены. Кроме того, было бы иллюзией приравнивать стабильные, почти оседлые группы аборигенов, живущие в так называемых «внешних поселениях» (то есть поселениях, создаваемых ныне добровольно самими аборигенами), к их традиционным объединениям3 и называть их первобытными охотниками и собирателями нашего времени. Мы не касаемся здесь причин подобных заблуждений, но все же отметим, что их реальная опасность состоит в том, что ученые последующих поколений, используя эти работы, получат совершенно искаженное представление о нынешнем положении вещей. Необходимость предостеречь от подобных заблуждений также явилась мотивом моего исследования. Таким образом, немало было причин для написания этой книги, но непосредственным толчком послужил некролог по случаю кончины У. Э. X. Станнера в лондонской «Таймс» (26 октября 1981 г.), и в частности следующая фраза: «Он глубоко сожалел, что не успел подготовить к печати материалы своих многолетних полевых исследований». Уильям Станнер был одним из последних этнографов, которым удалось еще проводить исследования в Северной Австралии в предвоенные годы и изучать традиционное общество аборигенов Австралии, но он слишком поздно взялся за перо. Сегодня можно пересчитать по пальцам одной руки остающихся в живых этнографов, имеющих подобный опыт; почти все они теперь на пенсии. Через немного лет навсегда уйдут и они... Хотя работа любого полевого исследователя ограничена географическими рамками, его опыт изучения традиционных условий, даже и на небольшом участке, дает превосходный эталон для оценки других работ, например этнографов прошлого века. Эти соображения, а в особенности же, полагаю, уникальность моих довоенных исследований и объективность метода, на котором они были основаны, убедили меня, что работу над этой книгой больше нельзя откладывать. Мой труд можно было бы охарактеризовать как опыт применения марксистской методологии к изучению охот-ничье-собирательского общества аборигенов Австралии. Он состоит из 9 глав. В первой из них критически оцениваются существующие источники. Это необходимо, так как большинству работ об аборигенах присущ этноцентрический субъективный уклон. Однако при изучении объективных процессов в традиционном обществе аборигенов и внутренних законов, управляющих ими, этот субъективный подход ряда авторов нельзя не принимать во внимание. В главах со второй по четвертую исследуются производительные силы, причем вторая глава посвящена самому человеку как основной производительной силе. В пятой главе дается анализ естественного и общественного разделения труда (последнее в традиционном обществе аборигенов только зарождается). В шестой — девятой главах исследуются различные экономические объединения, через которые реализуются производственные отношения. В заключение подводятся итоги с пояснениями на ряде примеров. Эта работа никоим образом не претендует на то, чтобы быть «истиной в высшей инстанции», это было бы не по-марксистски. Наоборот, с горечью я должен признать наличие в ней ряда пробелов; мои взгляды не раз менялись, в частности по вопросу о естественном или половозрастном разделении труда. Во многих отношениях возрастное разделение труда — ключ к пониманию традиционных производственных отношений в целом, и далее мы будем возвращаться к этому не раз. Чаще всего вопрос о возрастном разделении труда сводится к следующей классификации, построенной по внешним признакам: лица, слишком молодые, чтобы принимать участие в производстве; взрослые, участвующие в производстве; лица, участвовавшие в производстве, но сейчас слишком старые для этого. Классификацию эту применяют в равной мере как для мужчин, так и для женщин. Но для моей работы она не подходит, так как в данном исследовании одним из важнейших вопросов является следующий: в каком возрасте мужчина достигает наибольшей продуктивности как охотник, а женщина как собирательница. Оказалось, что фактов в литературе для решения этого вопроса в отношении мужчин очень мало, а о женщинах почти нет. В 1960-х годах я, на основе данных своей полевой работы 1941 г., определял возраст наибольшей продуктивности для мужского труда примерно 42 года, исходя из того, что именно в этом возрасте мужчина обычно имеет наибольшее количество жен, а значит, может добыть наибольшее количество белковой пищи на охоте для своей семьи. Женщины же в возрасте 24 лет имеют наибольшее количество малолетних детей, которые нуждаются в их заботе. Однако это не давало ответ на вопрос, в каком возрасте женщины достигают наибольшей продуктивности труда как собирательницы. Противники моей гипотезы не смогли переубедить меня, и прежде всего потому, что в их работах отсутствовали статистические данные. Но в дальнейшем, на основании собственных данных, собранных во время экспедиции в 1962 г., я изменил свою точку зрения и теперь склоняюсь к мысли, что мужчина-охотник достигает наибольшей экономической продуктивности в возрасте 26 лет, то есть когда его физические возможности также максимальны. Не найдя аналогичных данных для женщин, я счел возможным провести параллель с мужчинами и считать для них возрастом наибольшей экономической продуктивности 26 лет, то есть именно тот период, когда женщины также достигают пика своих биологических возможностей. Очевидно, что доказательство по аналогии имеет свои недостатки, но я применил его, так как в то время почти отсутствовали какие-либо иные данные. В теоретических дискуссиях выдвинутые мною вопросы, к сожалению, никогда не поднимались. Анализ материалов о сборе моллюсков, сделанный Б. Михан в ее монографии, вышедшей в 1982 г., убедил меня в том, что женщина достигает наибольшей продуктивности около 45 лет, то есть в тот период, когда она уже не обременена малолетними детьми, а не в 26 лет, как я предполагал ранее. Конечно, собирательство моллюсков — это только одна, к тому же не самая важная форма собирательства у женщин-аборигенов, тем не менее данные Михан показывают, что доказательство по аналогии не оправдало себя и для женщин пик экономической продуктивности не совпадает с расцветом их физических сил и биологических возможностей. За последние 10—15 лет наиболее важным вкладом в наше понимание традиционного общества аборигенов стало исследование вопроса о земельной собственности. Это был настоящий переворот в этнографическом изучении социально-экономических отношений у аборигенов. Кроме того, надо подчеркнуть, что этот переворот явился непосредственным результатом политической борьбы аборигенов за право на землю. Изучение отношений собственности у аборигенов показывает тесное взаимодействие брака, инициации и прав на землю. Традиционное общество оказывается, таким образом, единой интегрированной системой. По существу, традиционное общество, конечно, относительно простая социально-экономическая система по сравнению, например, с капиталистическим обществом, но его деятельность труднее планировать на длительный срок, так как — при отсутствии письменности — знания и опыт сохраняются лишь в памяти старшего поколения. В то же время необходимо со всей определенностью подчеркнуть, что способностью к долгосрочному планированию аборигены обладают в полной мере наряду со всеми другими народами. Ее отрицание является формой расизма, даже если это и невольное заблуждение исследователя. Обратимся теперь к весьма важному институту традиционного общества — институту полигинного герон-тократического брака. Его легко можно «трактовать» как проявление половой и экономической эксплуатации женщин старшими мужчинами, которые таким образом лишают молодых мужчин их потенциальных жен. И ведь именно молодые неженатые мужчины, а не старики вносят львиную долю в общественное производство. К данной проблеме, однако, можно подойти и по-другому, без предвзятого мнения о том, эксплуатируют или нет старшие мужчины женщин и молодых мужчин. Это подход с точки зрения необходимости поддержания жизнеспособности семьи, рода6 и в конечном счете жизнеспособности общества в целом. В то время как молодые неженатые мужчины являются самыми искусными охотниками, мужчины старшего поколения благодаря своему опыту выступают лучшими организаторами производства и распределения пищи. Именно это позволяет им становиться во главе полигин-ных семейных объединений. Чтобы понять законы, управлявшие традиционным обществом аборигенов, нужно прежде всего отрешиться от этноцентрических понятий, которые рассматриваются как «всеобщие истины». Одно из них состоит в том, что аборигены якобы считали женщин прежде всего пассивным объектом противоположного пола. Такое явление может иметь место в нашем обществе, но это отнюдь не значит, что подобные взаимоотношения были свойственны традиционному обществу аборигенов. Бесспорно, «кража» женщин считается главной причиной убийств среди аборигенов. Эти факты также охотно «объясняются» этноцентрически, с точки зрения преступлений из-за ревности. Но ведь женщин «крадут» как мужчины, принадлежащие к тому же роду, что и их муж, так и представители других родов. Причем в первом случае убийство никогда не происходит, во втором же случае месть осуществляет или муж, или кто-либо из его рода. Такой факт явно противоречит предположению, что женщины рассматриваются преимущественно как пассивный объект противоположного пола. Но если мы вспомним, что аборигены видят в женщине, так же как и в мужчине, активную производительную силу, все становится на свое место. В известной степени женщина как собирательница имела даже большую ценность, чем мужчина. Она вносила свой вклад в средства существования семьи и, более того, воссоздавала главную производительную силу — мужчин и женщин, замещая тех членов рода ее мужа, которые старились и умирали. К убийству вела именно потеря членами рода мужа женщины как производителя и воспроизводителя. Один из «пороков», приписываемых традиционному обществу аборигенов, состоит в том, что девочек до наступления половой зрелости отдавали в «жены» мужчинам, которые годились им в отцы или даже в деды. Здесь опять проявляется этноцентризм, так как подобные браки — это мы подробно проанализируем в соответствующих главах — неверно истолковываются. Нам известно, что мальчики начиная с 9 лет подвергались чрезвычайно сложному обучению в процессе инициации для подготовки их к будущим взрослым экономическим и социальным ролям. С другой стороны, поскольку большинство исследователей традиционного общества были мужчины, мы фактически ничего не знаем об обучении девочек до наступления половой зрелости. Из этого выводится заключение, что девочки не подвергались обучению своим будущим экономическим и социальным ролям и что мужчины-аборигены рассматривали их только как объект противоположного пола, которому подобное обучение не нужно. Эта точка зрения опровергается следующим предположением: когда девочка, став «женой», входит в коллектив жен ее мужа, старшие жены обучают ее. Хотя детали этого обучения неизвестны, этот процесс представляется вполне рациональным. Ведь ее будущая жизнь будет проходить именно в этом коллективе жен, и знания старших женщин, например способы распределения растительной пищи, следует передать ей, чтобы в будущем, став взрослой, она смогла эффективно выполнять свои социально-экономические функции. Другими словами, годы полового созревания девочки в коллективе жен ее мужа были периодом обучения, а не половых отношений с ним. Известно, что Австралия, являясь самым маленьким континентом, имеет тем не менее существенные различия в климате и природной среде. В то же время способ производства в обществе аборигенов и особенно производственные отношения по всей Австралии были в высшей степени единообразными. Это единообразие проявляется, например, в отношениях собственности на землю, одинаковых во всей Австралии, несмотря на не только географические различия, но и на относительную древность заселения отдельных районов. Как можно объяснить этот феномен? По моему мнению, причина состоит в том, что аборигены производили ненамного больше своих повседневных потребностей. Другими словами, у них не было значительного прибавочного продукта, который они могли бы использовать. Одним из последствий этого явилось то, что общественное разделение труда только зарождалось, в то время как, напротив, биологическое половозрастное разделение труда было определяющим. Это не исключает того, что в разных местах Австралии зарождалось социальное расчленение, например в сфере руководства обрядовой жизнью. Но предпосылка в виде прибавочного продукта для развития этой тенденции отсутствовала. Дальнейшему ее развитию способствовало бы формирование племенных объединений с централизованной властью, но, как известно, аборигены дошли только до стадии «лингвистического племени», обладающего общим языком или взаимопонятными диалектами. Вторжение европейских колонизаторов прекратило развитие в этом направлении, и само традиционное общество австралийских аборигенов перестало существовать. Заключая вводные замечания, хотелось бы выразить надежду, что моя работа поможет достойно оценить традиционное общество, которым аборигены имеют все основания гордиться. Ведь гуманистическое кредо их состояло в поддержании воспроизводства человека и природы и продолжении жизни общества в формах, наиболее приспособленных к данным природным условиям.
Источники: критическая оценка О бщеизвестно, что об австралийских аборигенах существует огромное количество описательной и прочей литературы. Когда после второй мировой войны проблема австралийских аборигенов приобрела политический характер, публикуемые материалы составили настоящий поток. Библиография Дж. Гринвея1, охватывающая литературу с первых сообщений до 1959 г., зарегистрировала более 10 тыс. публикаций. Несомненно, что за последующие годы число это возросло минимум в 2 раза. С течением времени тип и качество публикаций претерпевали значительные изменения. А. Элькин2 хорошо описал исторические этапы развития общей этнографии Австралии, и мы здесь не будем специально останавливаться на освещении этого вопроса. Но поскольку мы рассматриваем традиционное общество аборигенов, и в том числе их традиционное хозяйство, нам необходимо ясно представлять себе один из его аспектов, а именно: в какой мере коренное население, описанное в том или ином сообщении, вступило в контакт с белыми поселенцами и другими европейцами. Это важно, так как способ производства у аборигенов при столкновении с европейцами быстро разрушался3. Однако следует иметь в виду, что общественная надстройка в определенной степени сохранялась, по крайней мере ее удается описать даже спустя немало времени после того, как традиционный экономический базис уже распался. Если говорить о путешественниках по Австралии, то большинство из них подробно описывали жизнь аборигенов; работы Э. Эйра4 и Дж. Грея5 можно назвать классическими в этом плане. С другой стороны, некоторые, например JI. Лейхардт, такому описанию уделяли очень мало внимания. Однако, как бы то ни было, можно уверенно сказать, что аборигены, которых встречали ранние путешественники, вели традиционный образ жизни, и поэтому подобные материалы представляют большую ценность. Но эти исследователи имели одну существенную помеху — они фактически не могли общаться с аборигенами. Им был незнаком язык коренных жителей, а аборигены-переводчики, которых они брали с собой, тоже ничем особенно не могли им помочь: как только путешественники покидали тот район, где жил такой «переводчик», связь обрывалась и надо было искать нового6. Ясно, что для того, чтобы получить даже элементарные данные о таком сложном объекте, как традиционная экономическая структура, необходимо было более тесное общение с аборигенами. Например, такой сравнительно простой в этом ряду вопрос, как состав «орды» (horde)7 и принадлежность ее членов к тому или иному роду8, никогда не ставился ранними путешественниками, и, конечно, они не могли дать на него ответа. Этот вопрос и не мог быть поставлен, так как они не подозревали, что «орда» и род — это разные группы. К тому времени, когда тесное общение стало возможно, то есть когда среди аборигенов уже распространился пиджин-инглиш, их контакт с европейцами насчитывал немало лет. Коренное население жило оседло, по большей части в «туземных лагерях» на овцеводческих станциях (фермах) или при миссиях; их традиционное хозяйство, а с ним и традиционная «орда» больше не существовали. Это последнее обстоятельство вызвало проблему локальной организации аборигенов, определяемую как «Ловушка 22» (то есть положение, из которого нельзя найти удовлетворительный выход, по названию романа Дж. Хеллера «Ловушка 22».— Прим, пер .), которую не смогла разрешить австралийская этнография со времен А. Радкли-фа-Брауна, высказавшего свои взгляды на соотношение «орды» и рода более пятидесяти лет назад. Мы еще вернемся к данному вопросу в этой главе в другой связи. Несомненно, что разъяснение экономической организации общества аборигенов, и прежде всего производственных отношений при традиционном образе жизни, является одним из наиболее сложных вопросов, стоящих перед австралийской этнографией. Дж. Барнс9, выступая в 1961 г., удачно охарактеризовал сложившееся положение, и я думаю, что стоит процитировать несколько выдержек из его речи: «Одна из сторон жизни аборигенов, о которой мы знаем особенно мало,— это их хозяйственная и производственная деятельность при традиционных условиях. Это определяется двумя главными причинами. Общество охотников и собирателей всегда трудно изучать; во всей мировой литературе совсем немного отчетов о подобных полевых исследованиях. Охота как хозяйственная деятельность не постоянна; ее приходится изучать на протяжении длительного периода, чтобы составить надежное статистическое описание. Кроме того, жизнь охотников сопряжена с большими трудностями, и, если исследователь хочет ее изучить, он сам должен иметь хорошую физическую форму, быть таким же крепким, как и изучаемый им народ. ...Вторая причина малой изученности традиционного хозяйства состоит, конечно, в том, что оно более, чем какая-либо иная сторона жизни аборигенов, подверглось продолжительному и сильному воздействию со стороны белых переселенцев. Мука, табак и чай уже давно стали желанными средствами существования для аборигенов. Многие из них все еще добывают значительное количество пищи и других предметов в буше, но ясно, что теперь уже лишь частичное и сезонное обращение к продуктам, которые дает буш, ведет к совершенно иным отношениям с окружающей средой по сравнению с теми, что существовали ранее. ...Следовательно, вполне оправданно полагать, что изучение хозяйства аборигенов — это изучение экономики смешанного . типа, где происходит выбор между говядиной и игуаной, мукой и диким ямсом, нейлоновыми и природными волокнами. Во многих отношениях изучение этой гибридной экономической системы менее трудная задача для полевого исследователя по сравнению с изучением чистого охотничье-собирательского хозяйства, но эта задача заслуживает не меньшего внимания». Дж. Барнс сделал эти замечания более четверти века назад; уже в то время в лучшем случае лишь горстка аборигенов в Западной пустыне еще вела образ жизни, близкий к традиционному укладу (большинство жило в правительственном поселении Папунья10). Сегодня аборигенов, живущих при традиционных условиях, не осталось вовсе, и все сведения об их жизни мы можем почерпнуть лишь из письменных источников, причем написанных по большей части до второй мировой войны. Поэтому большое значение приобретает критическая оценка этих источников11. В связи с этим следует сказать, что, как бы ни относился исследователь к функционализму Б. Малиновского, надо отдать должное разработанным им методам полевой работы. При этом надо иметь в виду, что, когда Б. Малиновский писал исследование «Семья у австралийских аборигенов», у него совершенно не было собственного опыта полевой работы ни в одном из регионов, в том числе и среди австралийских аборигенов, и, следовательно, он должен был опираться только на письменные источники. О его проницательности свидетельствует то, что он при оценке подобных источников вполне осознавал стоящую перед ним проблему и писал в связи с этим следующее12: «Если какое-либо утверждение (в отчете исследователя.— Ф.Р .) представляет собой простую запись фактов или — еще лучше — если оно иллюстрируется конкретным примером, то в целом нет оснований не верить ему... но если утверждение влечет за собой суждение, обобщение или абстракцию, то мы должны к таким утверждениям подходить гораздо более осторожно». И далее13: «Есть причина не доверять общим мнениям, выдвинутым профессиональными этнографами, так как очень часто перед нами не просто обобщения, а теоретические заключения. Нередко встречаются случаи, когда замечание общего характера, которое на первый взгляд кажется констатацией факта,— и часто оно дается в такой форме — оказывается после тщательного анализа не чем иным, как предположительным выводом из чисто гипотетических предпосылок...» Теоретические концепции, которых придерживается наблюдатель, окрашивают в тот или иной цвет сообщения не только «профессионального этнографа»; любой человек, будь он ученым, скваттером или миссионером, при описании фактов неминуемо испытывает воздействие взглядов своей социальной среды. Б. Малиновский хотел устранить этот субъективизм, учитывая, поддерживается ли то или иное утверждение конкретными фактами. Что ж, в этом с ним можно согласиться! Но ведь подобная субъективность проявляется и в том, какие факты автор не сообщил, а объективность — напротив — в сообщении всех фактов. Самым наглядным примером субъективизма такого рода может служить тот факт, что подавляющее большинство исследователей традиционного общества аборигенов были мужчины. Частичный подсчет, сделанный по библиографическому указателю Дж. Гринвея, показал, что женщины составляют менее 8% авторов, пишущих об аборигенах, причем вклад их часто ограничивается 1—2 работами. Не ясно также, наблюдали ли они сами жизнь аборигенов, и если да, то в какой степени она сохраняла еще традиционный характер. Четкое разграничение жизни аборигенов по половому признаку, будь то в религиозной сфере или в такой земной области, как хозяйство, значительно снижает ценность наблюдений мужчин-исследователей о деятельности женщин-аборигенок, и, естественно, наоборот. Следствием этого является очень неполное описание жизни женщин-аборигенок, искаженное «мужским субъективизмом» исследователей. Э. Ликок14, к примеру, писала о подобном искажении: «Анализ (положения женщин в эгалитарных обществах, например в обществе австралийских аборигенов.— Ф.Р.) все еще тормозится стремлением навязать западные концепции о роли полов совершенно иным обществам». Вследствие указанных причин отход от реальности обнаруживался и обнаруживается не только при теоретическом анализе, но и в любом отчете полевого исследователя или просто наблюдателя. В качестве конкретного примера необходимости критического подхода к опубликованным отчетам ранних наблюдателей можно привести два случая. Первый связан с сообщениями о полигинии, второй — с локальной организацией аборигенов — упомянутой выше «Ловушкой 22». Итак, прежде всего вопрос о полигинии. В 1880 г. А. Хауитт15 писал: «Всеобщей истиной можно назвать тот факт, что мужчина как индивидуум или как представитель своего класса будет, если он имеет достаточно сил, стремиться присвоить себе привилегии и преимущества за счет других. История и наш опыт полны подобных примеров. Это именно то, что делают старшие мужчины... монополизируя обладание женщинами за счет своих соплеменников». В основном и поныне такое объяснение принимается большинством этнографов. Различие в их взглядах состоит обычно только в определении того, каким образом старшие мужчины достигают «монополии», какими способами16 им удается управлять обществом и лишать более молодых мужчин обладания женщинами. Здесь нет нужды цитировать другие примеры подобных объяснений17 из старой и даже более новой литературы: представляется, что приведенного выше высказывания А. Ха-уитта вполне достаточно. Рассмотрим его более подробно. Во-первых, он исходит из того, что мужчина как индивидуум изначально, по своей природе, себялюбив и эгоистичен и будет «стремиться присвоить себе привилегии и преимущества за счет других». Во-вторых, именно в связи с этим он использовал слово «класс». А. Хауитт, конечно, не был марксистом и, возможно, никогда не слышал о Карле Марксе, но тем не менее он явно учел значение классовой характеристики. В-третьих, он ссылается на историю (которая для него была историей классовых обществ). Но в учебниках истории середины XIX века Австралия, так же как и понятие «класс», даже не упоминалась. В-четвертых, он ссылается на «опыт», однако совершенно ясно, что свой опыт он приобрел в классовом обществе Австралии середины XIX века. Как видим, А. Хауитт объяснил «монополию» на женщин со стороны старших мужчин терминами и понятиями, распространенными в капиталистическо-коло-ниальной Австралии XIX века, принятыми — говоря его же словами — в качестве «всеобщей истины». Нельзя сказать, что он контрабандой протащил эти идеи в свои объяснения, используя — продолжим метафоры — ловкость рук, поскольку они очень точно сформулированы. Нынешние этнографы намного искуснее в этом плане, но суть ситуации от этого не меняется18: их объяснения наполнены понятиями, полученными от классового общества, в котором они живут. По-другому и быть не может. Оставим в стороне различные способы, которыми старшие мужчины поддерживали свою «монополию», и обратимся к совершенно иному — материалистическому — объяснению австралийской полигинии. Как доказывается в этой работе, семья — полигинно-геронтократическая семья, по моему определению,— являлась одним из фундаментальных традиционных институтов, через который оформлялись и проявлялись производственные отношения в обществе австралийских аборигенов. Как будет показано, аборигены рассматривали женщин не как «объект противоположного пола», а как весьма ценных производителей, причем производителей в двух смыслах: во-первых, как производителей необходимой, фактически в количественном отношении преобладающей части потребляемой пищи, и, во-вторых, женщины были воссоздателями (по своей биологической природе) главной производительной силы — самих мужчин и женщин. В дальнейшем изложении мы еще остановимся на структуре полигинно-геронтократической семьи, выполнявшей, на мой взгляд, две важные функции. Здесь же отметим, что одна из них состояла в помощи женщине, когда та была обременена наибольшим количеством маленьких детей, со стороны других жен, объединенных в коллектив во главе с их мужем, обладавшим большим жизненным опытом и обеспечивавшим и организовывавшим производство и распределение. Вторая функция семьи состояла в том, что коллектив жен выступал лучшей школой для обучения девочки-подростка ее будущим социально-экономическим обязанностям. Несомненно, применяемое мною материалистическое объяснение явления — заметим, уже прежде достаточно «объясненного» — покажется странным и, возможно, неприемлемым некоторым, например западным, читателям. Ответим им так: до тех пор пока этнографы рассматривают женщин как «дефицитный товар», монополизировать который стремятся старшие мужчины за счет более молодых, основное — материалистическое — объяснение традиционной семьи австралийских аборигенов будет ускользать от них. Мы только что рассмотрели, как один «профессиональный этнограф» субъективно объяснил полигинно-геронтократическую семью на языке понятий, распространенных в его время. Совершенно другой, но столь же важный вопрос состоит в том, какие виды сообщений мы в действительности имеем о семье аборигенов и какие выводы мы можем сделать (причем большинство сообщений могут носить также «субъективный характер»), учитывая, что форма этого института, а более точно, и его содержание, менялись со временем. Особенно нас интересует, насколько семья аборигенов изменилась за относительно небольшой промежуток времени с момента первых контактов с европейскими поселенцами. Конечно, это был не простой процесс, он по-разному проходил в тех или иных частях континента, начавшись раньше всего на юго-востоке и относительно недавно придя на север. Эти соображения дают объективный критерий для оценки различных сообщений и, что особенно важно, дают нам возможность делать выводы о традиционном состоянии общества австралийских аборигенов. Если, как было отмечено, полигинно-геронтократи-ческая семья при традиционном образе жизни играла определенную важную экономическую роль, то можно было бы ожидать, что после того, как аборигены вступили в контакт и стали зависеть от европейцев19, перейдя к оседлому образу жизни в окраинных поселениях, сопровождаемого разрушением их первоначального хозяйственного уклада, то и типичная полигинно-геронтокра-тическая семья должна была бы измениться °. Перед войной А. Элькин писал21: «Обычай стариков жениться на молодых девушках меняется в тех частях Северной Австралии, куда пришли белые люди. Сейчас часто можно увидеть молодых мужчин с молодыми женами, но они редко имеют детей. Полигиния также уходит в прошлое. Изменения, очевидно, являются результатом прямого или косвенного влияния белых». Другими словами, полигинно-геронтократическая семья под «влиянием белых» подвергается радикальным изменениям, если не исчезает полностью. На христианских миссионерских станциях такие традиционные обычаи не одобрялись; были предприняты специальные меры с целью их упразднения22. Эти соображения имеют прямое отношение к тому, сообщалось ли — ив какой форме — о наличии полигинии и геронтократии в той или иной группе. Если наблюдали группу аборигенов, ведущих традиционный образ жизни, то об этом типе брачно-семейной организации сообщали. Но если аборигены находились в контакте или под влиянием европейцев на протяжении некоторого времени, то такие сообщения обычно отсутствовали. Следовательно, если отмечалось, что группа аборигенов моногамна (или имеет лишь отдельные случаи полигинии), то сразу можно сказать, что она подверглась влиянию европейцев, и для того, чтобы оценить сообщение о ней, необходимо знать историю данного места обитания группы и особенно когда проводились наблюдения. Конкретный случай может проиллюстрировать это положение. В 1950-х годах я хотел выяснить, была ли свойственна тасманийцам, при традиционных условиях жизни, типичная австралийская форма полигинно-герон-тократической семьи. Я обратился к ценной сводке материалов, сделанной Л. Ротом23, и обнаружил, что разные источники сообщают, что тасманийской семье была свойственна полигамия, моногамия и полиандрия. Надо учесть, что Тасмания начала заселяться европейцами в 1804 г.; к 1832 г. коренные жители, насчитывающие первоначально 4 тыс., были в значительной степени истреблены, а оставшиеся 200 человек выселены на о. Флиндерс. Возникает вопрос: наблюдали ли и описывали ли когда-нибудь тасманийцев, ведущих традиционный образ жизни? Выясняется, что их описывали путешественники, в частности французские, побывавшие на Тасмании до 1804 г., и в нескольких случаях — ранние поселенцы. Во всех этих описаниях отмечалось, что тасманийцам была свойственна полигиния и, кроме того, в отдельных случаях — геронтократия в той же степени, как показали мои наблюдения в Северной Австралии на Грут-Айленде в 1938 г. и 1941 г.24 Затем я проанализировал тасманийские дневники и материалы Дж. А. Робинсона, жившего среди тасманийцев в 1829—1834 гг.; этот большой том издан Н. Плом-ли25. В нем на 900 с лишним страницах упоминается лишь один случай полиандрии 26 и два случая полигинии27. Согласно сведениям, сообщенным Дж. А. Робинсоном, тасманийская семья практически всегда представлялась моногамной. Но обращение к диаграмме Р. Джонса28 показывает, что в тот период, когда Дж. А. Робинсон жил с ними, общество тасманийцев быстро приближалось к закату, их традиционное хозяйство уже было разрушено, а вместе с ним и традиционная форма семьи. Следовательно, свидетельство Дж. А. Робинсона нельзя использовать для опровержения сообщений ранних путешественников о том, что при традиционном образе жизни тасманийцам была свойственна полигинно-геронтократи-ческая семья. Э. Карр29, основывая свои выводы на ранних отчетах, категорически утверждал, что «полигамия (именно так.— Ф. Р.) распространена почти повсеместно... в Австралии», но он привел при этом 4 исключения и отметил: «Какие обстоятельства... вызывают эти исключения из общего правила, невозможно определить». Несомненно, что Э. Карр смог бы решить эту проблему, если бы обратил внимание на то, кто именно и когда изучал эти 4 группы аборигенов, ставшие исключением. Мы видели, как А. Элькин отмечал, что в Северной, Австралии перед второй мировои войной «полигиния исчезла ... как ... результат воздействия белых». Этому утверждению мог бы противоречить тот факт, что в Арнемленде случаи полигинии отмечали почти через 40 лет после войны31. Ясно, что если мое утверждение верно, то с разрушением традиционного хозяйства должна была бы исчезнуть и полигинно-геронтократическая семья. В связи с этим следует сделать ремарку: тот факт, что полигиния все еще существует, можно в значительной степени объяснить коренным отличием отношений аборигенов с европейцами до и после второй мировой войны. До войны, когда аборигены на севере вступали в контакт с европейцами (последние в основном принадлежали к трем категориям: скотоводы, миссионеры и полицейские), то коренные жители оказывались, как правило, в зависимости от белых. Кроме того, в рассматриваемый период в результате подобного воздействия аборигены представляли собой разобщенный народ, разделенный на небольшие изолированные группы, и, несомненно, осознавали, что они — «вымирающая раса». Полигиния и геронтократия осуждались европейцами, а миссионеры предпринимали шаги, чтобы вообще искоренить эти «нравственно греховные» обычаи. После войны аборигены уже не были вымирающей расой, прирост населения у них стал выше, чем по стране в целом. Они больше не жили изолированными группами, а стали частью общеавстралийского политического развития. Их прямая зависимость от местных белых также сильно сократилась. Традиционное хозяйство аборигенов давно исчезло, и, следовательно, больше не существовало экономической основы для поли-гинно-геронтократической семьи. Полигиния и геронтокра-тические браки — насколько последние еще сохранялись — по-прежнему предавались европейцами анафеме. Аборигены, по-видимому, признавали, что при изменившихся условиях более не было причин для сохранения ге-ронтократических браков. Но полигиния рассматривалась теперь ими как основная часть их «аборигенности». С ростом их утверждения в отношениях с белым населением аборигены оказались в состоянии пренебречь мнением белого человека и продолжить или вернуть традицию по-лигинных браков. В этом отношении весьма примечательны события на Грут-Айленде. В 1938 и 1941 гг. миссионеры из миссии на юго-западе острова считали аморальными и ужасными обычай полигинии и брак девочек до наступления половой зрелости со старшими мужчинами. Мнение Фреда Грея, жившего в Умбе-Кумбе (поселении аборигенов на северо-востоке острова) и хорошо знавшего островитян, опиралось не только на моральные нормы, но он тоже считал, что в интересах аборигенов было бы отказаться от этих обычаев. В 1941 г. во время полевых исследований систем родства я опросил около двух третей населения Грут-Айленда о родственных отношениях каждого из них совсеми остальными известными мне жителями острова . Эти данные показывают, что каждая аборигенка (и соответственно каждый абориген) вне зависимости от возраста называла родственным термином «муж» 5-^—10 мужчин-аборигенов. В большинстве случаев каждая молодая женщина, жившая со старшим мужчиной, называла термином «муж» и какого-нибудь молодого человека. В традиционном обществе со временем молодой человек в конечном счете наследовал женщину в результате левирата, возможно, после того, как она уже несколько раз побывала замужем за старшими мужчинами после смерти ее первого мужа. К этому времени она, конечно, уже была не подростком, а зрелой женщиной. На основе моих данных 1941 г. со старшими мужчинами обсуждался вопрос о предоставлении свободы их молодым женам с тем, чтобы последние могли выйти замуж за своих ровесников, которые являлись их потенциальными мужьями в соответствии с системой родства. Это обсуждение оказалось плодотворным, и, когда я вернулся на остров в 1948 г., молодые женщины и девочки-подростки жили с более молодыми мужчинами. Старшие же мужчины продолжали жить в полигинных браках, но их женами теперь являлись только старшие женщины33. К 1950-м годам пришли в действие новые факторы. Во-первых, произошло то, что можно назвать демографическим взрывом на острове. Во-вторых, в 1952—1953 гг. П. Уорсли было отмечено преобладание женского пола в предподростковой возрастной группе. Он предположил, что через несколько лет снова возникнет потребность в полигинии с тем, чтобы девушки по достижении брачного возраста могли найти себе мужей. И действительно, к 1958 г. аборигены, жившие на миссионерской станции, стали требовать возврата к полигинии34. Полигиния вновь распространилась и все еще существовала в 1979 г.35 Но полигиния, существующая в настоящее время, судя по сообщениям, имеющимся в моем распоряжении, не является всеобъемлющей, и ей не свойственна такая традиционная черта, как ярко выраженная геронтократия. Интересно было бы сравнить нынешнее положение с тем, что наблюдалось в 1941 г. Похоже, что аналогичные процессы происходили и в других частях Арнемленда, где аборигены лишь недавно расстались с традиционным образом жизни, а полигиния как черта их «аборигенности» все еще сохраняется. В Центральной Австралии положение, очевидно, несколько отличается. Здесь многие аборигены не так давно перестали вести традиционный образ жизни, но они в значительной степени остаются под влиянием миссий, местных скотоводов и полиции, кроме того, они более изолированы и им не свойствен радикализм, распространившийся среди северных аборигенов. В центральных районах происходит процесс отмирания полигинии, подобный отмеченному А. Элькином на севере перед второй мировой войной. Но при традиционном образе жизни в центральных районах, так же как и в северных, полигиния, конечно, существовала36. Рассмотрев формы традиционной австралийской семьи и отметив необходимость критической оценки каждого сообщения о ней при помощи такого объективного критерия, как учет глубоких исторических изменений, которым подвергается этот институт после столкновения с европейской цивилизацией, мы теперь обратимся к еще одной важной проблеме. Это уже отмеченная «Ловушка 22» — вопрос о традиционной локальной организации аборигенов. Этот вопрос так назван потому, что, во-первых, в традиционном обществе наблюдатели не могли изучить его, поскольку они — как отмечалось — были не в состоянии в достаточной мере общаться с аборигенами, а, во-вторых, когда взаимопонимание стало возможным, традиционный способ производства, а с ним и локальная организация были уничтожены. Очевидно, что не существовало способа разорвать этот замкнутый круг, и традиционная локальная организация аборигенов, казалось, была обречена так и остаться неразрешимой проблемой. Отметим здесь, что историки первобытного общества и археологи не могут (или скажем более осторожно: при современном уровне техники не могут) пролить свет на эту проблему, так же как не могут они раскрыть форму первобытной семьи. Неразрешимость «Ловушки 22» не помешала нескольким этнографам попытаться описать отношения между родом и «ордой». Первым среди них можно назвать А. Радклифа-Брауна, обосновавшего свою точку зрения материалами полевых исследований, проводившихся в северо-западной Австралии до первой мировой войны. А. Радклиф-Браун, прежде изучавший андаманцев, заслужил признание как крупнейший специалист в области австралийской этнографии и стал первым профессором социальной антропологии в Сиднейском университете. Взгляды А. Радклифа-Брауна на данную проблему, подкрепленные его академическим авторитетом, считались общепризнанными в австралийской этнографии и оставались незыблемыми на протяжении почти сорока лет, пока их не начали оспаривать в конце 1950-х — начале 1960-х годов. В мои намерения не входит детальное рассмотрение его взглядов. Суть же в следующем. А. Радклиф-Браун утверждает37, что мужская половина одного рода, а также жены, пришедшие из других родов, и их незамужние дочери используют в качестве «орды» землю, принадлежащую роду мужчин из этой «орды». Другими словами, род был патрилинейным и экзогамным, а «орда» — патри-локальной. Вследствие этого только мужчины, принадлежащие к определенному роду, обычно живут и охотятся на земле этого рода. Я также не предполагаю детально рассматривать контраргументы, которые были выдвинуты в конце 1950-х — начале 1960-х годов и оспаривали эту точку зрения38. Целесообразно, полагаю, лишь задать вопрос: почему опровержение взглядов А. Радклифа-Брауна произошло именно в этот период? Ответ на данный вопрос, как мне кажется, связан с тем, что именно в это время борьба аборигенов за право на землю впервые стала живой политической проблемой, и простейшая модель А. Радклифа-Брауна локальной организации австралийцев совершенно не соответствовала представлениям самих аборигенов о собственности на землю. Так возникла потребность в создании новой модели. Как бы там ни было, совершенно ясно, что опровержение прежних взглядов происходило со стороны более молодых этнографов (за исключением У. Станнера), которые учились и проводили полевые исследования уже после второй мировой войны и, следовательно, не могли изучать аборигенов, живших при традиционных условиях39. Таким образом, противопоставить опровержениям молодых этнографов можно было бы тот факт, что именно А. Радклиф-Браун наблюдал традиционное положение, со временем изменившееся. В другой связи40 я уже доказывал, что А. Радклиф-Браун был фактически — по сравнению с Б. Малиновским — очень слабым полевым исследователем41. Кроме того, он никогда не работал среди аборигенов, живших при традиционных условиях. Он писал42 о племени карие-ра и соседних группах, среди которых он работал в 1911 году: «Их страна была заселена белыми почти 50 лет назад, и в последующие годы их численность неуклонно сокращалась. В настоящее время осталось всего не более 100 мужчин, женщин и детей... все они, за исключением стариков, вполне сносно говорят по-английски... Мои расчеты показывают... что минимальная численность племени составляла около 750 человек... Это, однако, очень приблизительная оценка, и на нее не следует полагаться». Другими словами, взгляды А. Радклифа-Брауна на локальную организацию аборигенов являются классическим примером того, что Б. Малиновский назвал «теоретическим заключением профессионального этнографа», и подобные взгляды после более тщательного анализа оказываются лишь предположительными выводами из чисто гипотетических предпосылок. Однако на протяжении десятилетий эта догма некритически принималась фактически всеми этнографами как неопровержимая истина. Никто не станет утверждать, что у Д. Томсона не было огромного опыта работы среди аборигенов, все еще сохранявших традиционный образ жизни. Однако и он принял эту догму без всякой критики. В своей классической работе о хозяйстве и обменном цикле в Арнемленде43 он, очевидно, изложил свои собственные взгляды на локальную организацию аборигенов, но они фактически совпадали с точкой зрения А. Радклифа-Брауна. Взгляды Д. Томсона были изложены в общей форме, но позже44 он писал: «(Во время сухого периода.— Ф. Р.) большие стойбища влажного сезона разбиваются на маленькие группы, состоящие из нескольких семей, которые расходятся и ведут кочевую жизнь на территории, принадлежащей их роду (по-видимому, мужской половине рода.— Ф. Р.)». Должны ли мы рассматривать эти выводы Д. Томсона как независимое подтверждение концепции А. Радклифа-Брауна о локальной организации аборигенов, сделанное другим общепризнанным специалистом и, более того, в данном случае основанное на свидетельстве очевидца, наблюдавшего традиционное общество? Конечно, это можно было бы представить и подобным образом. Но более тщательное рассмотрение того, что писал Д. Томсон, даже лишь в этой работе, обнаруживает противоречие между приведенным выше общим утверждением и взглядами, высказанными им в других местах. Прежде всего возмож но, что в «стойбище влажного сезона», упомянутом выше, жили мужчины, принадлежавшие к разным родам, к тому же Д. Томсон приводит специальные примеры сотрудничества мужчин из разных родов, например поджигание травы при охоте45 во время сухого сезона. Другой пример — общая рыбная ловля46. Кроме того, о том, что «орда» включала мужчин из разных родов, свидетельствует и У. Уорнер, работавший приблизительно в том же районе перед Д. Томсоном47. Возьмем другой, на этот раз послевоенный пример. П. Уорсли работал на Грут-Айленде в 1952—1953 гг. и, конечно, прекрасно зная концепцию А. Радклифа-Брауна о локальной организации аборигенов, предполагал обнаружить ее и у ваниндильяугва. Но то, что он нашел, совершенно отличалось от описания А. Радклифа-Брауна, и П. Уорсли счел, что Грут-Айленд является исключением. Он писал48: «В отличие от многих других групп аборигенов орды (на Грут-Айленде.— Е. Г.), принадлежащие к определенному роду, ни в коей мере не были ограничены лишь теорриторией этого рода». Совершенно ясно, что он с неохотой вынужден был отказаться от общепризнанной «истины» А. Радклифа-Брауна. Но, как мы в дальнейшем увидим, мужская половина «орды» в традиционном обществе обычно принадлежала не к одному роду, а к нескольким. Естественно, сторонники А. Радклифа-Брауна могли бы возразить, что ваниндильяугва, когда П. Уорсли работал с ними, уже подверглись влиянию европейцев — и это совершенно верно — и что локальная организация вследствие этого претерпела изменения, отмеченные П. Уорсли, а, следовательно, его данные не опровергают взглядов А. Радклифа-Брауна. Очевидно, что мы до сих пор не смогли разорвать порочный круг «Ловушки 22» — проблемы локальной организации аборигенов. Это объясняется тем, что мы все еще не обратились к конкретным фактическим свидетельствам о том, как мужская половина «орды» идентифицирует себя в качестве членов рода при традиционных условиях жизни. Более молодые этнографы, работавшие в послевоенные годы среди групп аборигенов, подвергшихся в той или иной степени влиянию европейцев, свидетельствуют о том, что концепция А. Радклифа-Брауна была неверной. Ряд этнографов старшего поколения, например Дж. Берд-селл , упорно отрицают ценность подобных свидетельств послевоенного периода. Но, как говорит английская пословица, «что соус для гусака, то соус и для гусыни» — ведь и материалы А. Радклифа-Брауна, относящиеся к 1911 г., тоже вызывают не меньшее подозрение, так как то общество, которое изучал он, уже не жило при традиционных условиях. Вполне возможно, что молодые этнографы ошибались, налагая свои выводы на традиционное положение, существовавшее в прошлом, и австралийская этнография получила новую «истину», которая является не меньшей догмой, чем концепция А. Радклифа-Брауна. Можно ли как-нибудь разрешить эту дилемму? Мне удалось собрать среди племени ваниндильяугва конкретные и точные данные, полностью соответствующие критериям Б. Малиновского, которые свидетельствуют о том, что «орда» при традиционном образе жизни действительно включала взрослых мужчин, принадлежащих к различным родам. Чтобы понять суть этих в своем роде уникальных данных, прежде всего необходимо проследить историю контактов ваниндильяугва с внешним миром и историю их этнографического изучения. Контакты эти происходили на протяжении длительного периода. Макассары каждый год останавливались на острове для сбора трепанга; М. Флиндерс посетил остров в начале XIX в., а в конце XIX в. в этих местах, вероятно, побывали золотоискатели. Скот предположительно попал на остров в 1880-х годах. Но постоянных поселений посторонних на острове не было, и нет никаких признаков того, что традиционные производственные отношения аборигенов претерпели коренные изменение (например, в результате использования долбленой макассарской лодки и т. п.) вследствие контактов с внешним миром. Н. Тиндейл посетил Грут-Айленд в 1921 —1922 гг. и провел первое систематическое изучение островитян. Он сфотографировал и группы, и отдельных аборигенов; несколько фотографий он поместил в своей работе50. Вскоре после пребывания Н. Тиндейла Церковное миссионерское общество основало миссию в юго-западной части острова, но не для обращения аборигенов в христианство, а как приют для детей-метисов с материка. На протяжении ряда лет контакты миссии с местными аборигенами были минимальными. Однако в 1936 г. миссионеры обратили внимание и на них. В 1938 г. в северо-восточной части острова была создана база для гидропланов, а также поселение для аборигенов, во главе которого стал Фред Грей. Впервые я жил на острове в 1938—1939 гг. и продолжил свои научные наблюдения во время второго посещения его в 1941 г. Даже в этот относительно поздний период традиционные производственные отношения аборигенов по существу оставались ненарушенными. Подавляющее большинство женщин по-прежнему жили в буше и волей-неволей вынуждены были вести традиционное хозяйство, мужчины же занимались рыболовством и охотились с гарпуном на морских животных, составлявших традиционную пищу51. После войны, в 1948 г., я вновь побывал на острове с американско-австралийской научной экспедицией, изучавшей Арнемленд. К этому времени традиционный хозяйственный уклад ушел в прошлое; аборигены жили оседло в поселении Фреда Грея и при миссии. В 1948 г. я взял с собой на Грут-Айленд работу Н. Тиндейла 1925—1926 гг. и попросил аборигенов определить, кто был изображен на воспроизведенных в ней фотографиях, сделанных Н. Тиндейлом 27 лет назад52. В данном случае большой интерес представляют две фотографии. На одной изображена группа мужчин-аборигенов (Н. Тиндейл не видел на острове ни одной женщины вследствие обычая их изоляции), сфотографированная в юго-восточной части острова, на другой — в северо-западной. Оказалось, что в обоих случаях мужчины принадлежали к различным родам и, кроме того, 2 из 10 аборигенов на первом снимке были членами родов, живших на о. Бикертон в 80 км на северо-запад от Грут-Айленда. Опыт 1948 г. был примечательным в двух отношениях: во-первых, удалось установить родовую принадлежность членов групп, т. е. «орды» аборигенов, живших еще при традиционных условиях, и, во-вторых, выяснить, что мужчины, входившие в одну группу, принадлежали к разным родам. Кроме того, «родовые» территории членов группы оказались отстоящими далеко друг от друга. Таким образом, мой опыт опровергал концепцию А. Радклифа-Брауна о традиционной локальной организации аборигенов и в то же время на конкретном примере подтверждал взгляды молодых этнографов. Но это подверждение таит в себе определенную опасность. В последние годы в австралийской официальной печати53 было отмечено распространение среди аборигенов так называемого движения «на землю предков» или «назад в буш»54. Эти группы аборигенов, «возвращающихся на землю предков», насчитывают около 50 мужчин, женщин и детей; они постепенно возвращаются к традиционной культуре и в некоторой степени к традиционному образу жизни. В литературе они также известны как «традиционно ориентированные» группы. Однако надо подчеркнуть и обратить особое внимание на то, что подобные группы не живут при традиционных экономических условиях. Они неразрывно связаны с товарно-денежной экономикой и уже не ведут полукочевой образ жизни. Именно в таких группах аборигенов, «возвратившихся на землю предков», большинство, а возможно и все исследователи, проводили полевую работу в послевоенные годы. Но было бы совершенно неверно некритично экстраполировать выводы, полученные ими при изучении подобных групп, на традиционное общество и приравнивать эти группы к последнему55. Это особенно важно учитывать не только при изучении населения и демографической структуры, но также и в отношении традиционного способа производства в целом. Выводы . В этой главе была сделана попытка на основе ряда примеров показать, какими критериями следует пользоваться при оценке этнографических данных об аборигенах. В целом данные, содержащиеся в литературе, представляют подход к фактам в основном с точки зрения мужчин; материалов о деятельности женщин-аборигенок намного меньше, чем о деятельности мужчин. Обычно в работах заметна тенденциозность, объективно вызванная социальным окружением исследователя. Такой подход становится особенно очевидным, когда мы обращаемся к сообщениям и исследованиям профессиональных этнографов, что происходит вследствие их академическо-схо-ластической подготовки. Тенденциозность была связана и с тем, что ученые, как правило, не работали среди аборигенов, живущих при традиционных условиях. Кроме того, многие квалифицированные полевые исследователи считают, что они наблюдали традиционное общество, в то время как в большинстве случаев изучаемые ими аборигены уже давно не вели такого образа жизни. Следовательно, необходимо при оценке всех данных — и не только тех, что собраны подготовленными наблюдателями,— использовать объективный исторический метод для выяснения, насколько та или иная группа сохранила (или сохраняла) традиционный образ жизни в момент изучения.
Австралийские аборигены: население и демография В этой главе исследуется человек как главная производительная сила в традиционном обществе. Возможно, ее заглавие выглядит чересчур широким, так как может показаться, что мы с точными цифрами в руках собираемся заняться изучением различных демографических параметров традиционного общества аборигенов. Это отнюдь не так, и надо еще раз подчеркнуть, что в первобытном обществе не было регистрации рождений, браков и смертей, и, таким образом, мы не располагаем даже основной статистикой естественного движения населения56. Как мы в дальнейшем увидим, есть только некоторые данные оценочного характера57, и их, за отсутствием более точных, приходится использовать. Но нужно постоянно помнить о том, что даже те цифры, которыми мы располагаем, нуждаются в массе оговорок и имеют различную степень надежности, и ее не всегда можно установить. Следовательно, их надо использовать с крайней осторожностью. На первый взгляд, эта осторожность может показаться странной современным полевым исследователям. Так, при посещении современного поселения аборигенов они могут просто пересчитать оседлых жителей5 и получить статистические данные путем опроса на пиджин-инглиш. Неясные вопросы, например точные даты рождения, могут быть выяснены по записям в соседних миссиях или в местных органах управления. Но при традиционном образе жизни это было невозможно, так как аборигены были кочевниками или полукочевниками и не имели центров постоянной оседлости, где их можно было бы учесть 9. Кроме того, во многих случаях отсутствовали средства связи. В предыдущей главе был дан общий критический обзор материалов, относящихся к австралийским аборигенам. В известной мере настоящая глава — продолжение этого обзора по проблемам, касающимся населения и демографии. Как мы увидим, во многих случаях идеи и моральные нормы, которые исследователь берет от своего собственного общества, невольно делают необъективными и собранные им статистические данные. Не имея достаточно места и не будучи демографом, я не пытаюсь исчерпывающе проанализировать данный вопрос60. Я остановлюсь только на отдельных аспектах, важных для затрагиваемого мною круга проблем, так как в процессе исследования экономики традиционного общества мы будем обращаться к различным демографическим параметрам. 1. Население О коренном населении Австралии к началу европейской колонизации наиболее надежные сведения дает работа А. Радклифа-Брауна61. Общепризнано, что в то время насчитывалось 300 тыс. аборигенов, входящих в 600 «лингвистических племен», каждое из которых в среднем состояло из 500 человек. Это дает среднюю плотность населения один человек на 25 кв. км. Мы знаем, что размер «лингвистического племени» варьирует, но нам не известно, насколько точно определена первоначальная цифра в 300 тыс. человек. Ведь большинство ранних путешественников довольствовались голословным утверждением, что то или иное племя или группа насчитывает столько-то человек. Конечно, такие отчеты приводили к противоречиям, так как один наблюдатель давал одни цифры, следующий же спустя несколько лет в том же месте, но в другое время года обнаруживал совершенно другие данные. И хотя большая заслуга А. Радклифа-Брауна, обработавшего всю эту противоречивую информацию, несомненна, до сих пор остается неясным, насколько достоверна оценка общего числа аборигенов в 300 тысяч. Проблема состоит в том, возможно ли найти какие-либо способы, чтобы определить процент «погрешности» в этом числе, или по крайней мере выяснить, насколько этот процент значителен. Лучше всего для этого сравнить реальную численность какой-либо группы аборигенов по переписи и данные для той же группы, полученные путем предварительной оценки. В нашем распоряжении есть подобный случай для Северной Территории. После второй мировой войны численность ее коренного населения оценивалась в 13 тыс. человек. В результате введенного законодательства62 была проведена перепись аборигенов, давшая около 16 тыс. человек63. Таким образом, отклонение первоначальной оценки от реальных данных составляло почти 19%. Но при любых приблизительных подсчетах невозможно сказать, завышена или занижена численность. И в рассмотренном случае, учитывая, что отклонение составляло 19%, первоначальное число 13 тыс. теоретически может варьировать в пределах 38% (2x19%). Один из недостатков в расчете численности отдельных групп аборигенов, особенно в старой литературе, доступной А. Радклифу-Брауну, состоял в том, что наблюдатели почти никогда не указывали максимального и минимального пределов, внутри которых находится сделанная ими оценка. Этот недостаток был исправлен в нескольких случаях, когда в последнее время подсчет населения производился этнографами. Такие случаи представляют возможность оценить отклонение от среднего числа. Пример этому дает М. Меггит, очень способный этнограф, который работал в разное время на протяжении 1953—1960 гг.64 в племени валбири. Часть этого племени жила в правительственных поселениях и на скотоводческих станциях (фермах), но по меньшей мере такое же количество аборигенов все еще вело традиционный образ жизни охотников и собирателей. По его подсчетам, численность валбири составляла от 1000 до 1400 человек65. Это дает отклонение от среднего числа на 33%. Другой пример — мой собственный опыт работы среди ваниндильяугва в 1941 г., когда они еще вели традиционный образ жизни. Чтобы изучать их, особенно женщин, приходилось отправляться в буш. В результате опроса и фотографирования 218 аборигенов я оценил численность племени ваниндильяугва между 300 и 350 человеками66, что дает относительно небольшое отклонение от среднего числа 15 %67. В действительности я провел частичную перепись этих людей, но тем не менее должен был довольствоваться 15%-ным отклонением. Одна из наиболее интересных и заслуживающих внимания попыток подсчета или оценки численности тасманийских аборигенов была проведена в последние годы68. Предыдущие подсчеты, сделанные современниками, колебались от 500 до 20 тыс. человек. Здесь мы не будем вдаваться в подробности сложных расчетов, сделанных Р. Джонсом в его исследовании. В заключение он пишет следующее: «Я думаю, что вернее всего мы приблизимся к истине, если определим численность тасманийцев в пределах между 3 и 5 тыс. человек»69. Таким образом, отклонение от среднего числа, равного 4 тыс., составляет 2 тыс., или 50%. В целом же мы получаем следующие отклонения от средней численности: 38% для Северной Территории; 33% для валбири; 15% для ваниндильяугва и 50% для тасманийцев. Насколько же эти отклонения помогут нам уточнить общепринятую среднюю численность австралийцев 300 тыс. человек? Не претендуя на папскую непогрешимость70, я рискну высказать мнение, что отклонение в данном случае составляет около 35%. То есть общая численность австралийских аборигенов в 1788 г. находилась в пределах 247,5 тыс. и 352,5 тыс. человек, а отклонение от среднего числа 300 тыс. составляло 17,5% в каждую сторону. При оценке материалов о численности аборигенов возникает еще одна сложность, связанная с учетом изменений, происходящих в их традиционной жизни. Так, Р. Лоуренс71 приводит в пример аборигенов района Сиднея. В 1788 г. плотность коренного населения здесь оценивалась в 1,9 чел. на кв. км, спустя же 22 года — в 1810 г.— она сократилась до 1 чел. на 40,5 кв. км. Если считать, что прежние условия сохранились, а первое число верно, то это очень значительная недооценка. В действительности же такой разительный перепад в числах связан с тем, что аборигены подверглись подлинному геноциду, который постепенно, с развитием овцеводства, распространялся на соседние районы. Особенно интенсивное истребление аборигенов происходило в 20—60-е годы XIX в. К 1895 г. в районах гор Бур и Гамбьер в Южной Австралии насчитывалось около 2 тыс, аборигенов — численность их сокращалась наполовину каждые 5 лет72. Такие темпы геноцида не были исключением, тот же процесс происходил и на Тасмании. Так, диаграмма Р. Джонса73 показывает, что тасманийцы подверглись наиболее интенсивному истреблению в 1804—1830 гг. Данные Д. Барвик74 рисуют подобную же картину в Виктории. После второй мировой войны наблюдается противоположная тенденция в численности коренного населения75, причем в некоторых районах отмечен подлинный демографический взрыв76. Таким образом, ясно, что использование данных о численности той или иной группы аборигенов без учета того, в какой степени она сохраняет традиционный образ жизни, привело бы к серьезным ошибкам. Необходимо каждый раз знать, на каком уровне исторического развития эта группа находится, как далеко зашло воздействие на нее европейской колонизации. 2. Плотность населения То, что было сказано выше о численности населения, вносит соответствующие изменения и в подсчет его плотности. К. Мэддок писал77: «Некоторое представление о местных различиях в плотности населения могут дать следующие цифры: гидьингали (Арнемленд) — 1 чел. на 1,25 кв. км, ваниндильяугва (Арнемленд) — 1 чел. на 7,7 кв. км, валбири (Центральная Австралия) — 1 чел. на 88 кв. км, аранда (Центральная Австралия) — 1 чел. на 31 кв. км, аборигены района Сиднея — 1 чел. на 0,25—0,5 кв. км, аборигены района р. Муррей — 1 чел. на 0,4—0,5 км реки». К этим данным, однако, надо подходить с большой осторожностью, так как они отражают численность племени в доконтактном состоянии. Например, численность гидьингали в послевоенный период (1958—1960 гг.) значительно возросла по сравнению с довоенным временем, кроме того, они стали вести оседлый образ жизни. Как уже отмечалось, аборигены района Сиднея тоже представляют проблему. Р. Лоуренс писал78: «Через некоторое время после прибытия Первого флота его участники в своих дневниках стали отмечать значительные сезонные изменения в образе жизни аборигенов района Сиднея. Большие группы собирались весной и в начале лета, что совпадало с появлением косяков рыбы. Зимой, когда рыбы было мало и часто приходилось голодать, группы распадались, отправляясь во внутренние районы охотиться, либо дробились на еще меньшие группы и расходились вдоль побережья. Мы имеем мало свидетельств, подтверждающие ту или иную модель поведения». Конечно, абсурдно подсчитывать плотность населения прибрежных аборигенов, не зная, живут ли они часть года во внутренних районах или, оставаясь на побережье, используют только внутренние районы для сбора пищи. Мы не имеем достаточно данных, чтобы сделать обоснованный подсчет для аборигенов района Сиднея. Можно согласиться с Р. Лоуренсом79, который, касаясь этих аборигенов, отмечает: «Оценки плотности населения, возможно, часто бессмысленны, так как неясны условия, к которым они относятся». Чтобы подкрепить свою мысль, Р. Лоуренс приводит следующий пример: «В Центральной Австралии М. Меггит дает плотность для племени аранда 1 человек на 32,4 кв. км. Если его данные верны, то определенная А. Радклифом-Брауном численность всех аборигенов в 300 тыс. была бы возможна только при условии, что средняя плотность населения по всей Австралии не превышала плотность в самых благоприятных районах Центральной Австралии». 3. Численность аборигенов, с которыми абориген вступает в контакт С каким количеством людей встречается абориген от рождения до смерти при традиционном образе жизни? Это не досужий академический интерес, а показатель размеров той сети человеческих контактов, внутри которой проходит его производственная деятельность. Дж. Блей-ни80 первым поставил этот вопрос и предложил число 2 тысячи контактов. Я попытался сделать такой подсчет для аборигенов племени ваниндильяугва, допуская, что численность их при традиционных условиях составляла 325 человек и что она остается постоянной. Также было принято, что каждый абориген вступает в контакт со всеми членами своего племени. Когда он еще ребенок, все остальные члены племени старше его, и, таким образом, он знает 325 человек. Когда абориген становится стариком, все остальные аборигены уже младше его, и он знает еще 325 своих соплеменников. Следовательно, в процессе человеческой жизни абориген встречает или знает 650 человек из племени ваниндильяугва. Две соседние группы, или «лигвистических племени», на материке, с которыми вступали в контакт ваниндильяугва, жившие на о. Грут-Айленд, были баламуму и нун-губуйю. Их численность в традиционных условиях неизвестна, но будем считать, что для каждой группы она составляла 400 человек. Члены племени ваниндильяугва редко выходили за пределы расселения этих двух соседних групп. Если за свою жизнь абориген из племени ваниндильяугва знает всех членов соседних двух племен, то это составит 2x400 для баламуму и столько же для нунгубуйю, и, таким образом, круг его знакомств достигает 650 + 800 + 800 = 2250 человек. Однако, несмотря на общие обряды, обмен и другие социальные контакты, трудно допустить, что абориген из племени ваниндильяугва вступает в фактические отношения более чем с Vs всех членов групп баламуму и нунгубуйю. При таком предположении он в течение жизни вступит в контакт с 650 (ваниндильяугва) +160 (баламуму) + 160 (нунгубуйю) = 970, или около 1000 человек. Итак, мои данные наполовину меньше, чем число Дж. Блейни, но, несмотря на это, они такого же порядка. Дело в том, что ваниндильяугва в отличие от большинства других племен были в значительной степени изолированы на своем архипелаге. От места поселения нунгубуйю на континенте их отделяло 8 км, а от баламуму — 12 км. Для нас важно в данном случае не точное число контактов каждого аборигена на протяжении жизни, а то, как неправдоподобно мало это число в первобытном обществе по сравнению с нашим. В это число мы не включаем тех людей, о которых человек знает только понаслышке от других, но которые тем не менее оказывают на него косвенное влияние в общественной и экономической жизни. 4. Использование генеалогий для получения данных о населении и демографии Отцом генеалогического метода считают У. Риверса81. Он подчеркнул большое значение этого метода для «социологической и демографической статистики» в самом заглавии своего классического исследования. У. Риверс применил генеалогический метод впервые для исследования коренных жителей Торресова пролива и меланезийцев, но при сборе данных о родстве он еще не отводил своему методу главную роль. Однако со временем этот метод стал почти синонимом сбору и анализу данных о системах родства. Нет нужды повторять все оговорки, которые я сделал при его использовании для этих целей8 . Здесь я остановлюсь на первоначальном применении этого метода для исследования статистики естественного движения населения. Логично, по крайней мере теоретически, что при сборе генеалогических сведений от информантов мы могли бы получить демографические данные о прошлых поколениях. Нас интересуют, конечно, численность населения и другие демографические параметры при традиционных условиях. В Арнемленде, таким образом, мы можем изучить одно или в лучшем случае два поколения (считая длину поколения 25 лет). На первый взгляд это кажется не столь значительной задачей. Однако в будущем ученые, которые будут располагать только полевыми материалами нынешних исследователей, спросят, почему же не были предприняты постоянные согласованные усилия для сбора демографических данных традиционных обществ. Ведь и те одно или два поколения, что известны нам, неизбежно все дальше и дальше уходят в прошлое. Однако я без большого оптимизма отношусь к генеалогическому методу, так как считаю применение его при анализе родства неадекватным и обманчивым, а сбор демографических данных при помощи этого метода — ошибочным. Мое отношение объясняется тем, что аборигены, как и мы сами, не обладают умом компьютера, который помнит все. Кроме того, они часто нерасположены, а иногда и совсем отказываются говорить об умерших родственниках. Р. и К. Берндт работали в Арнемленде с перерывами с 1946 г. В 1970 г. К. Берндт объявила о своем намерении опубликовать «исследования генеалогий северо-восточного Арнемленда»83. Эта работа, вероятно, покажет раз и навсегда, возможно ли получить серьезные демографические данные из генеалогий, и в частности за послевоенные годы в Арнемленде, являющемся «заповедником» традиционного общества. Хотя, как сказано выше, я смотрю на подобное применение генеалогического метода без большого оптимизма, но все же надеюсь, что мне докажут ошибочность моих взглядов. Остановимся еще на одном специфическом случае из моего опыта. В 1962 г. я работал среди группы аборигенов питьяндьяра на скотоводческой станции Энгас Даунс. Это так называемые аборигены пустыни, которые первоначально жили западнее хребта Петермана. На место их нынешнего расселения они перебрались после того, как местные коренные жители здесь были почти истреблены, а остатки их перешли в восточные и южные районы. Я не смог собрать генеалогические сведения у питьяндьяра, так как они отказывались называть имена умерших родственников84. А. Енгоян, работавший с другой группой питьяндьяра в 1966—1967 гг., столкнулся с теми же трудностями. Однако он нашел способ, хотя и не описал его, «частично преодолеть это препятствие» . Характерно его замечание о том, что «умерших братьев и сестер быстро забывают». По-видимому, он не использовал генеалогические сведения, которые ему удалось собрать, для демографической статистики, так как его удовлетворили данные, хранящиеся на местной миссионерской станции. В противоположность исследованиям А. Енгояна и моим Дж. Бердселл утверждает, что он смог составить генеалогии и применить их для демографической статистики. Он пишет86: «Исследования 194 супружеских пар аборигенов пустыни на основе генеалогических сведений, отражающих до-контактное состояние (126 изучались Дж. Бердселлом, 68 — Н. Тиндейлом), показало, что соотношение полов среди взрослого населения составляло примерно 150% (то есть 150 мужчин на 100 женщин). С другой стороны, соотношение полов при рождении составляет 100%. Такое расхождение объясняется тем, что по меньшей мере 15% детей аборигенов умерщвлялись, причем в Австралии инфантициду подвергались, как правило, девочки. Это явление наблюдалось как в пустынных, так и в более благоприятных районах. Надо сказать, что 15%—это минимальное число, материалы же ранних наблюдателей показывают, что это число вскоре после начала контактов с европейцами достигало 50%...» Мы уже видели, как неукоснительное следование теоретической концепции А. Радклифа-Брауна о локальной организации аборигенов привело Дж. Бердселла к противоречивым выводам87. Его только что процитированное высказывание несет следы «общих мнений, выдвинутых профессиональными этнографами», которым Б. Малиновский «не доверял»88. С моей стороны было бы некорректно предположить, что Дж. Бердселл не смог бы получить сведения о докон-тактном состоянии аборигенов пустыни на основе генеалогий, и подвергать сомнению его выводы, которые он сделал на основе своей внутренней логики. Вполне возможно, что он действительно преуспел там, где А. Енгоян и я потерпели поражение. Надо учитывать и то, что он работал не с питьяндьяра, а с другой группой аборигенов. Во всяком случае, я позволю себе скептически отнестись к выводам Дж. Бердселла и считать их недоказанными, пока его данные, то есть генеалогии, на основе которых они получены, не будут доступны детальной проверке. Следует также отметить, что получение выводов на основе неопубликованных данных, как поступил Дж. Бердселл, именно тот случай, который Т. Стрелов подверг критике . Замечания Д. Барвик, изучавшей генеалогии аборигенов Виктории, в высшей степени наглядны, так как они показывают, что генеалогическое древо обрывается, как раз дойдя до имен аборигенов, живших в «доконтактное время»90. Д. Барвик в 1960-х годах смогла составить полные генеалогии послеконтактного периода, начавшегося в 1837 г., когда был основан г. Мельбурн — центр Виктории, то есть с того времени, когда стали записывать имена и прозвища (1850-е годы) и фамилии (1870-е годы) аборигенов. 5. Определение возраста В этой работе мы будем касаться возрастной структуры общества аборигенов, в том числе и такого вопроса, как возраст девушки при первом замужестве. В миссиях и правительственных поселениях с конца второй мировой войны (а иногда и раньше) была предпринята попытка вести систематический учет естественного движения населения, включая даты рождения. Но успех этого начинания был прямо пропорциональным степени отхода аборигенов от традиционного образа жизни. Следовательно, при определении возраста аборигенов, живущих в традиционных условиях, мы должны полагаться на неспециалистов (а этнограф в данной ситуации является именно неспециалистом). Здесь же мы встречаемся еще с одной проблемой. Э. Монтегю пишет91: «Оценка европейцами возраста представителей бесписьменных обществ совершенно ненадежна...» Но вопрос состоит в том, насколько она «ненадежна». Э. Эбби, антрополог и анатом, утверждал, что с учетом состояния зубов и общего физического развития при определении возраста детей до трех лет ошибка может составить ± 6 месяцев; от 3 до 12 лет — ±1 год и от 12 до 20 лет — ±2 года. Причем Э. Эбби подразумевает максимальные ошибки. Но непрофессионал, в том числе и этнограф, не имеет той специальной подготовки, которой обладал Э. Эбби. И вопрос о «совершенной ненадежности» оценок неспециалиста сохраняется. Когда я проводил полевые исследования на Грут-Айленде в 1941 г., мне приходилось определять возраст каждого аборигена по его внешнему виду. Было ясно, что подобная оценка ненадежна, но в то время у меня не было способа определить степень ее достоверности. Позже я разработал метод93 «корректировки» первоначальных приблизительных оценок, учитывая старшинство всех детей каждой родительской пары; таким образом, возраст всех аборигенов — мужчин и женщин — оказался взаимосвязанным. Этот способ не устраняет всех ошибок, например, вполне возможно и даже вероятно, что я преуменьшил или преувеличил данные, относящиеся к возрастной группе 40—50-летних аборигенов. Эту «оставшуюся невыясненной» ошибку мне не удалось устранить. Тем не менее даже при наличии этой ошибки (а она значительно уменьшается в более молодых возрастных группах) мы можем определить степень «погрешности» между первоначальной оценкой и уточненными данными. Мы видели, что Э. Эбби определил возможную ошибку в возрастной группе от 12 до 20 лет в ±2 года. В моем примере, после уточнения первоначальных данных, было 22 юноши и 19 девушек, относящихся к этой возрастной группе. В случае с юношами расхождение между первоначальными и уточненными данными составляло ±4,1 года, причем максимальное завышение возраста было 12 лет, а недооценка — 8. Для девушек отклонение составляло ± 4,0 года (максимальное завышение — 11 лет, недооценка — 5 лет). Из этого примера ясно видно, что Э. Монтегю был прав, когда писал, что «оценка европейцами... совершенно ненадежна». Определение возраста небольшой группы коренного населения Грут-Айленда провел также Ф. Грей, ученый, имеющий гораздо больший опыт в изучении аборигенов, чем я. Хотя он получил отклонения меньше моих, в целом они были того же порядка94. Это показывает, что получение мною «ненадежных данных» не является исключением. Однако, с некоторыми оговорками, я могу смело использовать «уточненные» возраста для определения особенностей возрастной структуры общества. Эти результаты будут использованы в следующих главах. 6. Возраст девушек-аборигенок при вступлении в первый брак Для европейцев обязательным условием любого брака являются половые отношения, и предполагается (по крайней мере признается обычным правом), что муж и жена вступают в такие отношения. Если же они отсутствуют, то брак может быть признан недействительным. Далее, предполагается, что половые отношения не могут начаться до наступления половой зрелости, за исключением изнасилования, и что при достижении совершеннолетия, наступающего несколько позже, чем половая зрелость, женщина сама имеет право решать, вступать или нет в половые отношения. Следовательно, когда европеец встречает чету, состоящую в браке, подразумевается, что оба партнера достигли половой зрелости и имеют половые отношения. В данном исследовании мы будем считать, что половая зрелость как у девочек, так и у мальчиков наступает в 14 лет. В свете вышеизложенного определенный интерес представляет мой опыт установления возраста девушек-абори-генок, вступающих в первый брак. Мне было известно еще до моего прибытия на Грут-Айленд в 1941 г., что аборигенки выходят замуж очень рано. Но я предполагал, что они по крайней мере достигают к этому моменту половой зрелости и имеют не менее 14 лет. И поскольку я был воспитан своим обществом, мысль о том, что девушка может выйти замуж до наступления половой зрелости, просто не могла прийти мне в голову. Однако увиденные мною на острове замужние молодые женщины, которых я расспрашивал и фотографировал, иногда казались мне намного моложе 14 лет. При определении их возраста я гнал от себя эту мысль, считая ее своей субъективной ошибкой. Через несколько недель я побывал на миссионерской станции, и миссионеры с ужасом рассказали, что несколько их подопечных девочек не старше 8—9 лет живут с мужчиной и, по-видимому, имеют половые сношения с этим своим «нареченным» мужем, которому они обещаны в жены. Для христианских миссионеров это было совершенно неестественное положение. После их рассказа я понял, что мое первоначальное предположение о возрасте девушек, живущих с мужем или с «нареченным» мужем, не обмануло меня. Теперь при определении возраста замужних молодых женщин я учитывал эти факты и постепенно пришел к заключению, что девушки переходили жить к своему первому мужу обычно в возрасте 8—10 лет. Надо подчеркнуть, что в данном случае мне удалось всего за несколько недель полностью пересмотреть представления, полученные мною в том социальном окружении, где я воспитывался. Теперь посмотрим, какие данные о возрасте вступающих в брак девушек дает нам этнографическая литература. К. Мэддок писал95: «Возраст, в котором женщины впервые вступают в брак сейчас, под влиянием европейцев, увеличивается, но в традиционных условиях он составлял 13—14 лет, а иногда и меньше. Девочки из племени тиви начинали сожительство (cohabitation) в возрасте 8 или 10 лет, по данным Дж. Гудейл, ...14 лет, по данным К. Харта и А. Пиллинга...; из племени валбири — в 9 или 12 лет...; из племени ваниндильяугва — в 9; и из племени питьяндьяра, где женщины обычно очень поздно выходили замуж,— в возрасте 18—19 лет, а иногда и несколькими годами позже (А. Ен-гоян, 1970)...» Числа, приведенные К. Мэддоком, проливают свет на определение возраста девушек, впервые вступающих в брак при традиционных условиях. Но в каждом случае необходимо учитывать уровень развития данного общества на соответствующем этапе и, что также немаловажно, кто собирал материал. Обратимся прежде всего к примеру тиви. К. Харт работал в этом племени в 1928 и 1929 гг.96 К этому времени католическая миссия на о. Батерст, где живут тиви, действовала около 20 лет97. Отец Гзелл, ее глава, еще перед первой мировой войной ввел новую систему отношений в обществе аборигенов, «которая ставила вне закона или по крайней мере осуждала полигинные браки, а также брачные союзы между лицами с большой разницей в возрасте и все «помолвки», совершаемые еще до рождения ребенка или в раннем детстве»98. Сомнительно, что в 1928 г. К. Харт мог наблюдать вступление в традиционный брак юных девушек. Число, приводимое им,— 14 лет — должно быть получено от информантов, либо аборигенов, либо миссионеров. Скорее всего, на его вопрос ответили, что девушка вышла замуж по достижении половой зрелости, то есть в 14 лет. Для миссионеров это был предельно допустимый возраст вступления в брак. Если же К. Харт получил это число от муж-чин-аборигенов, то, возможно, они также дали возраст половой зрелости, не рискуя назвать меньшую цифру, чтобы не навлечь на себя гнев миссионеров. Весьма сомнительным представляется, что К. Харт обращался с этим вопросом к женщинам-аборигенкам. А. Пиллинг был на острове в 1953—1954 гг., когда традиционные брачные отношения ушли в прошлое. Дж. Гудейл работала с тиви почти в то же самое время, что и А. Пиллинг. Она также не имела возможности наблюдать традиционные браки и могла получить приводимые ею числа «8 или 10 лет» от информантов. Но в отличие от К. Харта и А. Пиллинга она, будучи женщиной, имела возможность говорить с женщинами-информантами об интимных половых отношениях. Учитывая это, можно предположить, что данные Дж. Гудейл, хотя она сама и не наблюдала подобных браков, заслуживают большего доверия, чем сообщения К. Харта и А. Пиллинга. А. Енгоян" дает возраст для женщин племени питьяндьяра, несомненно, на основе своих наблюдений. Он работал среди них в 1966—1967 гг.100, и его материалы сходны с полученными мною в том же племени в 1962 г.101 Пресвитерианская миссия в Эрнабелле, в районе которой проводил исследования А. Енгоян, была основана в 1937 г.102 Вероятно, это повлияло на больший отход данной группы питьяндьяра от традиционного образа жизни по сравнению с той группой, которую изучал я. Например, «аборигены А. Енгояна» освоили автомобили103, «мои» же аборигены пользовались только верблюдами. При таких условиях данные А. Енгояна никоим образом не отражают традиционные отношения. Кроме того, мы уже отмечали трудности, с которыми он столкнулся при сборе генеалогических сведений104, так что едва ли он мог получить данные о браках, исходя из «доконтактных» генеалогий. Прежде чем завершить обсуждение вопроса о возрасте выходящих замуж девушек, мы должны обратиться к материалам Э. Карра. Его работы относятся к 80-м годам XIX в. и в основном посвящены аборигенам южных районов Австралии. Э. Карр определяет этот возраст между 8 и 14 годами105. Его исследование было составлено на основе материалов ряда старых авторов, и можно легко догадаться, что возраст 14 лет, который дают некоторые ранние путешественники, был основан на предположении, что девушки выходят замуж по достижении половой зрелости. Число же 8 лет, вероятно, более точная оценка действительного возраста девушек, вступающих в брак. И наконец, надо сказать об объективных причинах, которые заставляют девочку задолго до половой зрелости переходить жить к ее «нареченному» мужу, а также о действительном значении для нее этого перехода. Состояла ли причина просто в том, что пожилым мужчинам половые сношения с юной партнершей доставляли приятное возбуждение? Это было очевидное заключение миссионеров Грут-Айленда в 1941 г. и, вероятно, большинства европейских исследователей. Допуская же, что среди аборигенов, живущих в традиционных условиях, не было запретов на половые отношения с юными, даже незрелыми девушками, причина так называемых ранних браков с 8-летними девочками окажется совсем иной. Когда такая девочка переходила жить к своему «нареченному» мужу, у него уже была по крайней мере одна опытная старшая жена. Девочке предстояло прожить несколько лет с мужем в коллективе его жен. В дальнейшем она рожала ему детей. Однако цель включения ее в таком возрасте в коллектив жен состояла — на что мы уже обращали внимание выше — не в немедленном предоставлении мужу дополнительных половых контактов, а в обучении девочки старшими женами в том коллективе, где ей в будущем предстояло выполнять социальные и экономические задачи. Поскольку предполагалось, что она проживет с мужем в коллективе его жен несколько лет, наиболее подходящими наставниками для нее, естественно, являлись старшие женщины. Первоначальное обучение девочка получала от матери, живущей в коллективе жен ее отца. Но ее дальнейшая взрослая жизнь, вследствие экзогамии и патрилокально-сти, должна была протекать в новой семье в отдаленном районе с другими экологическими условиями. Ясно, что, чем раньше девочка сможет приспособиться к своей новой семье в качестве одной из жен ее «нареченного» мужа и познать окружающую природу, тем лучше. Вот почему девочка расставалась с матерью задолго до наступления половой зрелости и переходила в коллектив жен ее «нареченного» мужа. Именно на этот вопрос обучения детей в традиционном обществе аборигенов почти совсем не обращали внимания исследователи106. Поскольку экономические роли мужчин и женщин у аборигенов были совершенно различны, различались и процесс и методы обучения девочек и мальчиков. «Ученический период», если можно так выразиться, молодой женщины проходил в коллективе жен ее будущего мужа. Этот факт привел, как мы только что видели, к искаженным представлениям о браке у аборигенов. Для большинства европейцев «брак» девочки до наступления половой зрелости неестествен, но если учитывать, что первые годы при таком «браке» являли собой прежде всего ученический период, то этот «брак» представляется не только естественным, но в условиях традиционного общества в высшей степени логичным и разумным. 7. Инфантицид До сих пор остается спорным вопрос о том, насколько широко был развит инфантицид в традиционном обществе и подвергались ли ему преимущественно девочки. Он наблюдался по всей Австралии и был обусловлен в основном экономическими причинами. Но я бы согласился с мнением Р. и К. Берндтов, писавших: «Мы располагаем лишь незначительной достоверной информацией по этому вопросу» . Дж. Блейни с насмешкой говорит о современных этнографах, которые «деликатно избегают этой темы... и поэтому в настоящее время она редко упоминается в работах о традиционном образе жизни аборигенов»108. Это, может быть, и остро сказано, но далеко от реального положения вещей. Мы видели выше109, как Дж. Бердселл, основываясь на данных, полученных из составленных им «генеалогий доконтактного периода аборигенов пустыни», определил, что инфантицид, «как минимум, достигал 15%». Он ссылался на сообщения ранних очевидцев, чтобы доказать, что инфантицид мог достигать 50%. Неизвестно, у каких «ранних очевидцев» почерпнул Дж. Бердселл эти сведения, но если они наблюдали традиционное общество аборигенов, только входящих в контакт с европейцами, то это должно было происходить на границе продвижения поселенцев, и, следовательно, это были, по всей видимости, первые скваттеры 20—60-х годов XIX в. В этот период против аборигенов велась настоящая партизанская война, развязанная скваттерами, стремящимися получить в полное владение их земли для своих овец. Надо сказать, что не все скваттеры стремились к истреблению аборигенов, известно, что некоторые (например, Э. Карр) стояли за гуманное отношение. Но в целом положение на границе было таково, что печать и мемуары того времени изображали аборигенов как недочеловеков. Можно ожидать, что и инфантицид, который, несомненно, существовал, в большой степени преувеличивался. Некоторых комментариев требует и значительное преобладание мужчин, наблюдавшееся в ряде групп аборигенов. На первый взгляд это предполагало, что инфантициду подвергались в основном девочки. Однако в этом отношении показательно проведенное Д. Барвик исследование изменений в населении Виктории110. Она изучила две переписи аборигенов Виктории, относящиеся к 1863 и 1877 годам. Мы можем взять в качестве начала контактов с европейцами 1837 год, когда был основан г. Мельбурн, столица Виктории. Коренное население Виктории непосредственно перед этим насчитывало 11 500 человек111, но на сокращение его численности уже оказали влияние одна или две эпидемии оспы между 1789 и 1835 годами. Перепись 1863 г., то есть через 26 лет после начала колонизации, зарегистрировала 1540 взрослых и 380 детей, причем лица мужского пола среди взрослых составляли 187%, среди детей — 125% (женщины взяты за 100%). В 1877 г. было всего 636 взрослых и 138 детей, лица мужского пола составляли соответственно 201% и 106%. На первый взгляд эти числа наводят на мысль об умерщвлении девочек. Но Д. Барвик доказывает, что процент мальчиков среди детей в 1863 г. был «совершенно нормальный» и, хотя инфантицид, может быть, еще сохранялся в 1850-х годах, никакого специального умерщвления именно девочек не проводилось112. Она пишет о переписи 1863 года113: «...Бесплодие и детская смертность в основном были связаны с нарушением возрастной структуры населения. Мы не располагаем достаточными данными, чтобы объяснить чрезмерное преобладание мужчин среди аборигенов Виктории в 1863 г. и раньше. Ни один из этнографических отчетов не указывает (с позволения Дж. Бердселла.— Ф. Р.), что инфантициду повергались в основном девочки... Преобладание мужчин может быть в значительной степени результатом различных уровней смертности среди мужчин и женщин. Записи о смерти чистокровных аборигенов между 1876 и 1912 гг. показывают, что в возрастных группах детей и молодежи преобладала женская смертность». Не говоря уже об опасности выведения заключений об инфантициде, исходя из преобладания мужчин, из генеалогий доконтактного периода, а также из таких переписей населения, какие были в распоряжении Д. Барвик, совсем не просто сделать обоснованные выводы и на основе этнографических данных о существовавших традиционных обществах. Хорошим примером здесь может служить коренное население Грут-Айленда. Хотя Н. Тиндейл, работавший здесь в 1921—1922 гг., не видел ни одной женщины вследствие строгого соблюдения обычая их изоляции, он решил, что «женщины составляют меньшинство»114. Это не значит, что, не увидев женщин, Н. Тиндейл не должен был определять соотношение мужчин и женщин на основе опроса мужчин-информан-тов. Важно, что его оценка населения острова ненамного отличается от моей собственной. Н. Тиндейл считал, что на Грут-Айленде было «немного более трехсот человек»115. Среди аборигенов, которых я фотографировал и опрашивал в 1941 г., мужчины преобладали116. Кроме того, из 20 детей младше 1 года 13 были мальчики и 7 — девочки. Сама собой напрашивалась мысль об умервщлении девочек. Тем не менее я пришел к выводу117, что если мужчины и преобладали в обществе в целом, то в незначительной степени. К тому же можно предположить, что различие в соотношении полов среди детей младше 1 года было случайным. За все время моей работы мне удалось только один раз зарегистрировать случай инфантицида, но надо подчеркнуть, что я не видел ребенка до или после убийства. Этот случай сообщил мне в 1941 г. информант-мужчина, а не сама мать. В то время я не занимался специально этой проблемой и просто записал происшедшее так, как мне о нем рассказали. Матери было 14 лет, и причину умерщвления объяснили тем, что молодая женщина не хотела обременять себя ребенком. Учитывая юный возраст матери, случай, должно быть, произошел совсем недавно, и мне его, по-видимому, рассказали, так как он был еще свеж в памяти информанта. Следует отметить также и тот факт, что миссионеры в 1941 г. ничего не сообщили мне об инфантициде как одном из «ужасных пороков» аборигенов118. Из всего этого можно заключить, что на Грут-Айленде инфантицид существовал при традиционном образе жизни аборигенов, но не был широко распространен, составляя намного меньше 15%. 8. Гомицид Гомицид (убийство), или, как его иногда неправильно называют, «военные столкновения», был распространен в значительной степени среди аборигенов. Вопрос о том, насколько его можно понимать как средство поддержания демографического равновесия, остается дискуссионным, но несомненно то, что он применялся как крайнее средство в конфликтах между локальными группами119. Надо подчеркнуть роль гомицида как межгруппового, а не внутригруппового (внутриродового) наказания. Мой опыт говорит о том, что убийство человека членом его же локальной группы никогда не совершалось, за исключением несчастных случаев. Если такие убийства и совершались, то это было чрезвычайно редким явлением. К чести Дж. Блейни120 надо сказать, что он первый перевел на язык статистики смертность в результате го-мицида в двух группах аборигенов — в Арнемленде121 и в Виктории122. Он показал, что в процентном отношении ежегодные потери здесь в результате убийств были только наполовину меньше наблюдавшихся в армиях нацистской Германии и Советского Союза во время второй мировой войны. Не приходится сомневаться, что данные о гомици-де в других группах аборигенов в процентном отношении находились бы на таком же уровне. Оценивая выводы Дж. Блейни, надо отметить, что У. Уорнер (чьи данные послужили ему одним из источников) был, как мне уже доводилось доказывать123, тенденциозным автором. Не менее тенденциозными могут быть и другие источники, использованные Дж. Блейни. Тем не менее верно, что в традиционном обществе потери в результате убийств по всей Австралии были велики. Но называть такой гомицид «военными столкновениями» неправомерно, так как в этом случае на него могут быть некоторым образом перенесены и наши представления о современной войне с оружием массового уничтожения. А отсюда недалеко до того, чтобы назвать человека изначально агрессивным воинственным существом124. Главной причиной убийств, как отмечается в литературе, служили конфликты из-за женщин. Интересно, однако, что данные У. Уорнера125 показали, что раздоры непосредственно из-за женщин составляли менее 20% причин «военных столкновений» и убийств. Но убийства в результате кровной мести, начавшейся из-за борьбы за женщин, значительно увеличили бы это число, возможно, до 50% или больше. Книга Дж. Моргана, написанная на основе рассказа У. Бакли126,— другой источник, которым пользовался Дж. Блейни,— дает еще более высокий процент убийств из-за женщин. Типичным сообщением на эту тему явился и отчет Ф. Маккарти об Арнемленде127: «...Главной причиной внутриплеменных военных столкновений была постоянная кража женщин и в результате нее вендетта и гомицид...» Подобные же сообщения можно найти и у других авторов . Наряду с тем, что женщины обычно фигурировали как главная причина столкновений и убийств, к тем же последствиям приводили конфликты на путях обмена, из-за священных источников 9 и осквернения священых мест . Надо подробнее остановиться на том факте, что главной причиной убийств была борьба из-за женщин. На первый взгляд это кажется прямым противоречием сообщениям о свободе половых отношений в обществе аборигенов, которые одалживают, делят жен и обмениваются ими131. Противоречие несколько смягчится, если мы поймем во внимание, что «кражи» мужчинами жен совершались так же часто в своей локально группе , как и в чужих. Причем в первом случае «оскорбленный» муж едва ли занимался преследованием обидчика с копьем в руках, второй случай мог закончиться убийством. Разрешить же это противоречие мы можем, только осознав, что отношение аборигенов к женщинам, как и отношения между полами в целом, совершенно отличается от нашего собственного. Если мы кратко определим наше отношение к женщинам преимущественно как к объектам противоположного пола (а именно это предполагается, если не называется прямо в большинстве работ, написанных, как правило, мужчинами), то аборигены рассматривали женщин, как и мужчин, преимущественно в качестве — я уже писал об этом выше — производительной силы. Это связано с тем, что женщины не только вносили большой вклад в добывание пищи, но вследствие своих биологических особенностей были воссоздателями новой производительной силы, так как рожали и растили новое поколение, которое в свою очередь должно было заменить нынешних членов локальной группы по мере того, как они старились и умирали. Половые отношения между мужчинами и женщинами не имели для аборигенов большого значения, этим же можно объяснить и явное отсутствие у них ревности. С другой стороны, похищенная женщина переставала быть производителем материальных благ и воссоздателем производительной силы в той локальной группе, к которой принадлежал ее бывший муж, а это уже могло явиться поводом к войне и убийствам. Убийство из-за потери женщины не было, как его обычно рисуют, преступлением из ревности между отдельными лицами, а являлось крайней мерой выяснения отношений между локальными группами, связанной с потерей производителя и воспроизводителя. На изображение таких убийств как преступлений из ревности, очевидно, влияли те представления, которые исследователь получил от своего общества. Общий взгляд большинства наблюдателей, чьи воззрения на отношения полов были воспитаны в их обществе. приводил, как мы видели ° , к оценке «браков» молодых девочек, не достигших половой зрелости, как «неестественных». Здесь снова на примере убийств, связанных с борьбой за женщин, мы видим еще одно проявление того, как представления исследователя влияют на его выводы. Надо подчеркнуть, что, только когда ученый в состоянии избавиться от своего предвзятого отношения, он может понять внутренние законы, которые управляли традиционным обществом аборигенов. 9. Плодовитость женщин и выживаемость детей При традиционном образе жизни плодовитость женщин и выживаемость потомства являются двумя параметрами, определение которых необходимо для понимания экономической структуры общества и особенно характеристики и разграничения различных аспектов производственных отношений. В обществе, где хорошо поставлен статистический учет, эти два параметра легко определить. Но статистикой естественного движения населения в традиционном обществе аборигенов мы не располагаем. Кроме того, не существует ни одного демографического исследования традиционного общества австралийских аборигенов, подобного, например, исследованию бушменов кунг области Добе, сделанному Н. Хауэлл134. Хотя работа Н. Хауэлл заслуживает высокой оценки, надо отметить, что неясно, как далеко бушмены кунг, которых она изучала, ушли от традиционного образа жизни и насколько изменился их способ производства. Это, конечно, потребовало бы исторического исследования, которое здесь, разумеется, невозможно. Но, по-видимому, эти бушмены все еще использовали традиционные средства производства и питались традиционной пищей. Это само по себе не исключает внешние воздействия на них, и прежде всего со стороны негров банту. С такими оговорками можно сказать, что Н. Хауэлл изучала охотничье-собирательское общество, ненамного отличающееся по уровню своего развития от аборигенов Австралии. Одним из ее важнейших выводов был следующий: «Уровень плодовитости у кунг значительно ниже, чем у других народов, не ограничивающих естественную рождаемость»1 . Она доказывает, что этот низкий уровень плодовитости связан не с безбрачием женщин, абортами и другими методами контрацепции, инфантицидом или болезнями136. Что касается традиционного общества австралийских аборигенов, то можно утверждать, что уровень их плодовитости так же низок, как и у бушменов кунг, и объясняется теми же причинами. Отличается он в большую или меньшую сторону, трудно сказать, так как нет статистических данных, сравнимых с демографическими параметрами Н. Хауэлл. Как мы увидим дальше, некоторые материалы свидетельствуют о том, что у австралийских аборигенов этот уровень несколько выше, другие же приводят к противоположным выводам. До недавнего времени предполагалось, что низкая плодовитость, или «естественная рождаемость», у аборигенок и большие промежутки между рождениями детей были связаны с тем, что их долго кормили грудью. Это задерживало возобновление у женщин менструаций и овуляции и, как результат, препятствовало беременности. Другими словами, была прямая причинно-следственная связь между длительным кормлением грудью и большими промежутками между рождением детей. В действительности же эта связь не абсолютна, и известно много случаев, когда кормящая мать могла забеременеть и родить ребенка137. Н. Хауэлл138 упомянула «гипотезу Фриша о критической полноте (fatness)», которая предполагает, что для любой женщины существует порог полноты и, только достигнув его, она может забеременеть. В то время когда Н. Хауэлл проводила исследование, эта гипотеза еще не была всесторонне изучена. Ясно, что я не вправе обсуждать ее обоснованность, но если допустить, что гипотеза верна, то это дало бы интересный материал для размышлений. Например, можно было бы ожидать, что в благоприятное время года кормящие матери скорее могут забеременеть, чем в более голодный период. Даже если и не существует причинно-следственной связи между длительным кормлением грудью, препятствующим менктруации и овуляции, и большими перерывами между рождениями, все равно сохраняется зависимость между этими двумя параметрами. Н. Хауэлл отмечает для кунг139, что «...ребенок перестает нуждаться в грудном молоке не раньше 4—5, а то и 6 лет...». Это сходно с тем, что отмечали ранние наблюдатели у австралийских аборигенок, кормивших грудью детей «старше 2 лет» или даже «до 6 лет»140. Таким образом, подтверждается, что уровень плодовитости у них был близок к уровню, определенному Н. Хауэлл у бушменок кунг. Н. Хауэлл писала о кунг : «Срок последующего рождения зависит в некоторой степени от возраста; молодые женщины имеют меньший промежуток между рождениями детей, чем старшие. Редко этот промежуток составляет менее трех лет, обычно длина его около четырех лет. Среднее количество живорождений для когорты женщин, родившихся 45— 49 лет назад, на протяжении репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) составляет 4,7; для когорт же родившихся более 50 лет назад — 5,2. Расхождения в количестве живорождений у бушменов кунг невелики; максимальное число составляет только 9 детей». Об инфантициде Н. Хауэлл сообщила следующее142: «В 1968 г. было отмечено 6 случаев инфантицида на 500 живорождений... Инфантицид уродов, близнецов и «незаконнорожденных» (сравни «незаконные» браки у австралийцев.— Ф. Р.) оказывал незначительное влияние на численность населения, поскольку, как правило, ему подвергались те дети, которые так или иначе все равно бы умерли. Основным результатом его было сокращение периода послеродовой инфертильности и, следовательно, повышение вероятности для матери вскоре снова забеременеть». Главные причины инфантицида среди кунг — невозможность растить и выкармливать более одного ребенка и т. д.— те же, которыми объясняли инфантицид австралийские аборигенки143. Младенческая смертность у кунг была высокой, составляя примерно 20% всех живорождений144, а до достижения совершеннолетия умирало 50% детей 145. Данные Н. Хауэлл показали предполагаемую среднюю продолжительность жизни для женщин 32,5 года 146. Н. Хауэлл писала147, что «первое живорождение происходит в среднем в возрасте 19,5 года...». Исходя из этого, можно предположить, что существовал определенный период юношеской стерильности. В целом образ жизни кунг сходен с традиционным образом жизни австралийских аборигенов. Однако данные, полученные мною в 1941 г. для племени ваниндильяугва, показывают некоторые отличия. Так, среди 11 женщин ваниндильяугва в возрасте от 14 до 19 лет148 (после проведенного мною уточнения возраста) 4 не кормили ребенка грудью, но одна из них (14 лет) недавно родила ребенка и умертвила его. Среди оставшихся трех в возрасте 15, 17 и 19 лет нельзя было с уверенностью сказать, что они не имели умерших детей. Эти данные показывают, что по крайней мере среди ваниндильяугва, а возможно, и среди других австралийских аборигенов не было определенного периода юношеской стерильности. На основе количества женщин в возрастных группах длиной в 10 лет (11—20, 21—30 лет и т.д.)149 я определил, что предполагаемая продолжительность жизни женщин составляет примерно 33 года. Это почти не отличается от числа Н. Хауэлл для бушменок кунг, однако это совпадение может быть случайным, так как в моих данных, вероятно, была незначительная ошибка, вызванная их ограниченностью и оставшейся «необъясненной погрешностью» при «уточнении» возрастов. Однако поскольку здесь, очевидно, не было юношеской стерильности, продуктивный период у австралийских аборигенок вполне может быть длиннее, чем у кунг. Бушменки кунг рано выходили замуж, почти сразу после наступления половой зрелости, но не так рано, как австралийские аборигенки при традиционном образе жизни. Однако интересно, что Н. Хауэлл рассматривает некоторые данные150, свидетельствующие о том, что раньше женщины, возможно, выходили замуж в более раннем возрасте (фактически до наступления половой зрелости), чем удалось наблюдать самой исследовательнице. Если это так, то возраст матери при рождении первого ребенка мог бы быть значительно моложе. Это хотя бы отчасти объяснило, почему у женщин старше 55 лет средняя плодовитость была 5,1 детей, а у женщин 45— 55 лет—только 4,1151. Н. Хауэлл объясняет эту разницу как следствие гонореи, которая частично поразила возрастную группу 45—55 лет. Мы можем заключить, что в традиционном обществе австралийских аборигенов плодовитость женщин и выживаемость потомства, как и связанные с ними демографические и социальные параметры, очень близки к данным Н. Хауэлл для бушменов кунг. Говоря об этом, надо подчеркнуть, что в остальном эти два общества были совершенно различны, например в отношении полигинии и возрастной структуры общества. Однако есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что в прошлом полигиния наблюдалась и у бушменов, но была ли она связана с геронтократией, как у австралийцев, не ясно. 10. Возрастная структура в обществе аборигенов При анализе возрастной структуры коренного населения Грут-Айленда я показал1 , что женщины вне зависимости от возраста имели тенденцию быть замужем за мужчинами 42 лет и что эта тенденция была максимальной, когда возраст женщины составлял 24 года. Другими словами, это означало, что мужчина 42 лет имел наибольшую вероятность состоять в полигинном браке, а женщина 24 лет, вероятнее всего, входила в одну из полигинных семей. В сущности, мои данные показали, что в 1941 г. все женщины 20—27 лет на Грут-Айленде входили в полигинные семьи, то есть жили в коллективе жен своего мужа. Я объяснял значение 24-летнего возраста для женщин тем, что в это время они были более всего заняты уходом за грудными и маленькими детьми. К тому времени, когда женщина достигала 24-летнего возраста, она имела по крайней мере двух детей, причем возраст старшего приближался к 9 годам. Вскоре старший ребенок расставался с матерью: мальчик подвергался обрядам инициации, девочка переходила жить к своему первому мужу. Хотя женщина имела детей и после 24 лет, бремя ее забот было максимальным именно в этом возрасте, и поэтому она испытывала наибольшую потребность в помощи со стороны других жен ее мужа. Примерно в этом же возрасте женщина была наиболее плодовита. Э. Монтегю писал153: «Для женщин возраст 23 ±2 года является периодом зрелости. Оптимальные условия для воспроизводства, свойственные организму в этом возрасте, сохраняются примерно в течение 5 лет. В конце этого периода, т. е. в возрасте 28—30 лет, начинается обратное развитие, завершающееся около 45 лет менопаузой...» «Оптимальные условия для воспроизводства» приходятся, согласно данным Э. Монтегю, на возраст от 21 до 30 лет, в среднем на 25,5 года, что, с возможным отклонением или ошибкой ± 2 года, близко к критическому 24-летнему возрасту. В 5 главе мы рассмотрим традиционное половозрастное разделение труда у австралийских аборигенов. Есть данные, показывающие, что мужчины были наиболее искусными охотниками примерно в возрасте 26 лет, то есть когда они достигали максимального физического развития. Для женщин же нет достаточного сравнительного материала. Те данные, которыми мы располагаем, показывают, что существовало значительное расхождение между периодом, когда женщины достигали пика своих физических возможностей (в это время они были наиболее обременены уходом за младенцем и/или маленькими детьми) и пиком их экономической продуктивности, когда они были значительно старше. Таким образом, женщина в возрасте 24 лет, в конечном счете из-за причин биологического характера, более всего нуждалась в помощи коллектива жен, а ее вклад в обеспечение семьи пищей достигал максимума значительно позже, возможно, когда ей было более 40 лет. Значение возраста 42 года для мужчины будет рассмотрено ниже . Заключение . В этой главе было показано, что те демографические данные, которые мы имеем о традиционном обществе австралийских аборигенов, во многих случаях не что иное, как предположения на основе информации. В той или иной степени эти данные страдают от различных ошибок, причем степень эта обычно неизвестна. Субъективное положение исследователя и особенно идеология, полученная им от своего общества, являются важным фактором, влияющим на отбор и интерпретацию материала. В этой работе я предполагаю не ограничиться критикой источников, а применять марксистский метод к отдельным проблемам. И тем не менее важно знать ограниченность ряда источников. Земля как основное средство производства П режде чем мы обратимся к теме этой главы, посмотрим, что сам К. Маркс говорил о земле как основном средстве производства. В главе «Капитала», озаглавленной «Процесс труда и процесс увеличения стоимости», он писал155; «Земля (с экономической точки зрения к ней относится и вода), первоначально обеспечивающая человека пищей, готовыми жизненными средствами, существует без всякого содействия с его стороны как всеобщий предмет человеческого труда». Следовательно, мы можем рассматривать почву, то есть землю как «всеобщий предмет человеческого труда». Он писал далее156: «Все предметы, которые труду остается лишь вырвать из их непосредственной связи с землей, суть данные природой предметы труда. Например, рыба, которую ловят, отделяют от ее жизненной стихии — воды, дерево, которое рубят в девственном лесу, руда, которую извлекают из недр земли. Напротив, если сам предмет труда уже был, так сказать, профильтрован предшествующим трудом, то мы называем его сырым материалом, например уже добытая руда, находящаяся в процессе промывки. Всякий сырой материал есть предмет труда, но не всякий предмет труда есть сырой материал. Предмет труда является сырым материалом лишь в том случае, если он уже претерпел известное изменение при посредстве труда». Отсюда вытекает интересный теоретический вопрос: хотя земля Австралии была, конечно, «всеобщим предметом» труда для аборигенов, следует ли ее считать, по определению К. Маркса, «сырым материалом», то есть предметом труда, который «уже претерпел известное изменение при посредстве труда»? Очевидно, что такое изменение могло произойти в результате выжигания растительности157, хотя были возможны и другие способы, например рытье канав и т. д. Учитывая это, следует ли рассматривать австралийский буш, где жили аборигены до прихода белого человека, как «девственный лес» или нет? Снова обратимся к К. Марксу158: «За ислючением добывающей промышленности, которая находит свой предмет труда в природе,— как горное дело, охота, рыболовство и т. д. (земледелие лишь постольку, поскольку впервые обрабатывается девственная почва),— все отрасли промышленности имеют дело с таким предметом, который представляет собой сырой материал, т. е. предмет труда, уже профильтрованный процессом труда, и который сам уже является продуктом труда». Были ли охота и собирательство у аборигенов в марксистском понимании «добывающей промышленностью» (то есть присваивающим хозяйством), «которая находит свой предмет труда в природе», или мы должны рассматривать охоту как «сельское хозяйство с горящей головней»159, или как «зарождающееся животноводство», при котором в землю вложен предварительный труд? И аналогично, следует ли рассматривать собирательство как «зарождающееся сельское хозяйство»160, хотя в этом случае труд предварительно не вложен в землю? Земля является не только предметом труда, но, строго говоря, и «средством труда» (in> Орудия производства Б ольшинство орудий труда аборигенов было сделано из дерева, кости, или других органических материалов. Ряд каменных орудий применялся непосредственно при добыче пищи, и поэтому они были более специализированными. Примером таких орудий могут служить наконечники копии . Но по большей части каменные инструменты использовались для изготовления орудий из дерева, кости и других органических материалов, а те в свою очередь уже применялись в хозяйстве. Австралийская этнография, а вернее, первобытная история австралийских аборигенов дает мало материалов для подкрепления той точки зрения, что форма каменных орудий и техника обработки камня действительно252 отмечает этапы культурного развития человеческого общества. Несомненно, что тасманийская каменная индустрия к началу европейской колонизации была гораздо менее развита, чем австралийская, и это относится ко всей материальной культуре тасманийцев, в которой отсутствовали многие черты, свойственные коренным жителям материка. Различие между мужчинами и женщинами, проявлявшееся в их хозяйственной деятельности , нашло свое выражение в орудиях труда, используемых разными полами. В хозяйстве это различие меньше всего проявлялось в рыбной ловле. Д. Томсон254 отмечал, что при добыче рыбы мужчины и женщины работали вместе. Р. Лам-перт , однако, сообщает, что в юго-восточной Австралии рыболовством занимались оба пола, но мужчины использовали копье, а женщины — крючок и леску. П. Уорсли256 отметил такой факт, что на Грут-Айленде деятельность мужчин носила более индивидуальный характер, в то время как женщины чаще работали сообща. Это наблюдение имеет более широкое теоретическое значение. Говоря о совсем ином охотничье-собирательском обществе, X. Ватанабе257 высказал банальное на первый взгляд замечание, что «растения стоят на одном месте, а животные двигаются». Но, исходя из этого, он пришел к заключению, что в большинстве случаев одновременное использование растительных и животных ресурсов одной и той же группой неминуемо приводит к разделению ее по половому признаку. А. Енгоян258 выразил ту же мысль, говоря об аборигенах Центральной Австралии: «Женщины обычно собирают продукты питания на расстоянии 6—8 км от лагеря, в то время как мужчины при охоте на крупную дичь уходят на 11—13 км. Когда пищевые ресурсы в радиусе 10—13 км от стоянки использованы, локальная группа обычно переходит на новое место». Аборигены не применяли для охоты лук и стрелы259. Само по себе это неудивительно, так как только несколько столетий назад они вступили в контакт с народом, макассарами, который использовал или знал лук и стрелы. Многие другие охотничьи народы применяли отравленное метательное оружие (простые стрелы и стрелометательные трубки). В Австралии, что может показаться еще более удивительным, чем отсутствие лука и стрел, аборигены никогда не использовали яд для увеличения силы воздействия своих копий. Они прекрасно знали ядовитые растения и применяли, как мы уже знаем, специальные способы их обезвреживания перед употреблением в пищу. Они также использовали измельченную кору, корни и листья различных деревьев и кустарников, которые подсыпали в водоемы, чтобы отравить или одурманить рыбу, эму и других птиц. Хорошо знали аборигены и ядовитых змей260. Можно даже утверждать, что часть этих знаний они принесли с собой, когда пересекли пролив между Сун-дой и Сахулом. Дж. Блейни отметил, что «...в результате опыта, наблюдений или несчастных случаев их знания о ядах, вероятно, значительно расширялись по мере того, как они заселяли континент». Мы могли бы предположить, что воздействие яда было эффективным, только когда он наносился на небольшое метательное оружие типа стрелы, поэтому его не применяли для копий. Но ведь большинство так называемых копий, используемых с копьеметалкой, были такими же легкими, как стрелы и не превышали их по размеру. Данные Дж. Полтера262 показывают, что значительная часть метательных копий, для броска которых применялась копьеметалка, были не более 160 см длиной и весили 100 г или даже меньше. Для полноты можно отметить сообщение Ф. Маккарти263 о том, что наконечники боевых копий специально обрабатывались таким образом, чтобы вызвать заражение. Но речь здесь идет, конечно, не об охотничьих копьях; жертва австралийцев умирала от заражения крови только через несколько дней, а не через несколько часов, как случалось у охотников в других частях света при использовании отравленных стрел264. О сходстве типов австралийского оружия Ф. Маккарти265 писал: «Замечательная особенность оружия аборигенов — это постоянство его типов по всему континенту, хотя есть многочисленные и важные различия и даже отсутствие в ряде мест тех или иных его видов... Основными типами оружия служат копье, копьеметалка, палица, бумеранг и щит, хотя в некоторых местах использовалось и другое дополнительное оружие». За исключением щита, все типы оружия, о которых упомянул Ф. Маккарти, служили также орудиями труда. К орудиям производства, распространенным по всему континенту, надо, кроме того, добавить применявшиеся женщинами палку-копалку и различные емкости, служащие для переноски вещей. Не всегда можно было провести четкую грань, использовалось ли то или иное орудие как боевое, охотничье или собирательское. Некоторые вещи, несомненно, служили только оружием, например щиты, в то время как другие — только орудиями труда, например корытца или сумки женщин. Но ряд орудий, использовавшихся для охоты и собирательства, мог также служить оружием. Примером являются копья, некоторые типы их использовались и как охотничье, и как боевое оружие. Палка-копалка также при необходимости могла превратиться в оружие. Но чаще для этих целей аборигены использовали более крупную пали цу _ нулла-нулла,— которая из-за своей тяжести не могла выполнять функции палки-копалки. В целом можно сказать, что предметы, служившие оружием, например копья, были изготовлены более тщательно, чем орудия труда. Карты распространения266 различных орудий производства можно найти в литературе. Эти карты очень наглядны, особенно когда они показывают места, где тот или иной предмет не использовался. У. Соллас267 указал, например, распространение различных видов копьеметалок и судов. Копьеметалки не использовались в большинстве районов центрального и южного Квинсленда и на севере и северо-западе Нового Южного Уэльса. Они также не применялись племенем тиви, живущим на островах Мел-вилл и Батерст, и тасманийцами. Никакие виды судов не были известны во всем огромном районе к югу и востоку от Северо-Западного мыса в Западной Австралии почти до границ нынешней Виктории. Долбленые лодки использовались как в Арнемленде, так и на п-ове Кейп-Йорк, но конструкция их была совершенно различной. Кроме того, на Кейп-Йорке часто применяли аутригер. Жители Арнемленда научились делать свои долбленые лодки у ма-кассаров, в то время как аборигены Кейп-Йорка, по всей видимости, переняли лодку с аутригером у папуасов. Б. Хайден268 дал карту распространения метательных палиц, бумерангов и топоров, зашлифованных по рабочему краю. На юго-западе и юге Западной Австралии все три вида этих орудий не применялись. Но некоторые орудия были распространены по всему континенту, не только на материке, но и на Тасмании и на островах у северного побережья Австралии. Это метательные копья, используемые мужчинами с применением или без применения копьеметалки, а также употреблявшиеся женщинами палки-копалки и корытца для переноски растительной пищи269. В это «стандартное снаряжение» также входил кусок кремня для обработки дерева при изготовлении копий и палок-копалок. В некоторых местах для этих целей применяли раковины с заостренным краем. Копье В основном было два типа копий, используемых как оружие и орудия труда. Это ударное копье, которое не бросали, и метательное копье. Последнее можно было бросать либо рукой, либо копьеметалкой или вумерой. В отдельных случаях метательное копье могло также использоваться как ударное270, но не наоборот. Это было связано с существенными различиями в баллистике этих двух типов копий. Различие вызывалось положением центра тяжести271. У метательного копья вне зависимости от того, бросали его рукой или копьеметалкой, центр тяжести всегда находился в передней части, в то время как центр тяжести ударного копья находился в его заднем конце, противоположном наконечнику. Обычно, но не всегда, копья, бросаемые рукой, были тяжелее тех, для броска которых использовали копьеметалку. В связи с различиями в баллистической характеристике ударное копье при броске начинало задираться и его острие поворачивалось в обратном направлении, так что поразить цель таким копьем было очень трудно. Ударное копье — очень простое орудие272, его легко изготовить, заострив тонкий конец подходящего молодого деревца или ветки дерева. Острый конец можно было сделать более прочным, поместив его в горячую золу костра так, чтобы высушить из него влагу. Хотя основным типом копий, используемых аборигенами, были метательные, применялись также и ударные копья. Для изготовления метательного копья брали прямое деревцо или ветвь дерева, но заостряли толстый конец. Очевидно, что легче заострить тонкий конец, чем толстый, поэтому без познания на практике законов баллистики первобытный человек изготовлял бы и использовал только ударные копья. Вероятно, ему потребовалось много сотен тысячелетий, чтобы приобрести практические познания о баллистике этих двух основных видов копья. Возможно, предки аборигенов, когда они пришли 40 или более тыс. лет назад в Австралию, уже имели такие знания. Все группы аборигенов к началу европейской колонизации использовали метательные копья. Исследование мною более ста австралийских копий в Музее народоведения в Лейпциге показало, что 4— 5% из них были ударными. Копья, которые бросали рукой, в основном сделанные из одного куска дерева, составляли 5 _ 6 %. Остальные были преимущественно составными, для броска этих копий использовалась копьеметалка. Более обширное исследование Дж. Полтера273 показало примерно то же процентное соотношение различных типов копий. Л. Брейс274 вслед за Ф. Гребнером и Д. Давидсоном составил карту распространения копьеметалок в Австралии. Только на Тасмании использовались исключительно простые метательные копья, изготовленные из деревца с заостренным толстым концом, причем копьеметалка не применялась. Тиви также не использовали копьеметалку; их метательные копья почти всегда имели зазубренные наконечники, вес которых переносил центр тяжести к переднему концу копья, в результате чего улучшались его метательные свойства. Тиви использовали зазубренные наконечники не только для так называемых «церемониальных копий» (которые, строго говоря, не были копьями или по крайней мере не применялись как таковые), но и для более легкого охотничьего и боевого вооружения. Значительная часть австралийских охотничьих и рыболовных копий были составными орудиями, под этим мы подразумеваем, что они изготовлялись из двух или более материалов, даже в том случае, когда недалеко от острия сухожилиями кенгуру просто привязывали небольшой деревянный зубец — своего рода «зачаток» более сложного наконечника. Древко копья всегда делалось из какого-ли-бо вида дерева, часто из двух разных видов, например, для хвостовой части шел легкий бамбук, а для передней — более тяжелое твердое дерево. Боевые копья аборигенов почти все были метательными275, их бросали либо рукой, либо копьеметалкой. Боевые копья аранда и, возможно, племен, обитающих в Западной пустыне276, имели широкий плоский наконечник и вырезались из одного куска твердого дерева. Мы уже отмечали, что метательное копье служило аборигенам универсальным боевым и производственным инструментом.. Ф. Маккарти277 писал, что «... копье — главное оружие аборигенов, охота с копьем являлась основным видом охоты». Д. Томсон278 писал об Арнемленде: «Перед восходом лагерь аборигенов полон жизни, люди начинают расходиться. Если каждая семья охотится самостоятельно, мужчина берет копьеметалку и пучок копий — основное охотничье оружие,—■ а также одно или два боевых копья...» Дж. Лонг279 писал о пинтуби: «Мужчины всегда вооружены копьем или копьеметалкой...» На Грут-Айленде в 1941 г., даже когда аборигены отправлялись со мной в буш, они всегда несли с собой копьеметалку и острогу, которая не очень-то удобна при охоте на наземных животных . Именно здесь противоречие становится очевидным. Дж. Блейни281 отмечал это, когда он писал: «Во многих частях Австралии растительная пища преобладала, и поэтому палку-копалку можно было бы назвать более жизнено важным инструментом, чем копье...» Дж. Лонг282 также отметил, говоря о пинтуби: «Наиболее важные повседневные орудия и оружие изготавливались из дерева; для женщин, а, возможно, также и для мужчин наиболее необходимыми были приспособления для выкапывания корней... Конечно, большую часть пищи, которую люди могли бы принести в лагерь, можно было добыть подобным образом. Возможно, тупые концы копий и подобранные необработанные палки, которые потом выбрасывали, а также копьеметалки использовались для выкапывания корней...» Можно спросить, почему же тогда мужчины-аборигены всегда несут с собой копья, хотя большую часть пищи, которую приносят в лагерь, можно было бы получить не охотой, а другими способами? Почему они не оставляют копья в лагере? При индивидуальной охоте на крупную дичь283 — а в Австралии самыми крупными сумчатыми являются, как известно, различные виды кенгуру, валлаби и т. д.— абориген применял способ, который можно назвать типично австралийским,— он выслеживал и незаметно подкрадывался на расстояние полета копья к животному. Это, конечно, не исключает других способов охоты на крупную дичь (например, при коллективной охоте), а также того, что других больших животных добывали без применения копья. Но поскольку редко удавалось встретить группу или стадо диких животных, аборигенам, отправлявшимся в буш, приходилось всегда быть наготове, чтобы не упустить внезапно появившегося кенгуру или отыскать его по свежим следам. Именно поэтому в буше аборигены никогда не разлучались с копьями. Однако это, конечно, не исключает возможности или в некоторых частях Австралии вероятности того, что большая часть животного белка в рацион аборигенов поступала отнюдь не за счет крупной дичи. Мы только что отметили наблюдения Дж. Лонга о деятельности пинтуби, но в то же время он упомянул об уро и кенгуру. Аборигены почти всегда охотились на них индивидуально, хотя интересно отметить его сообщение о том, что собаки помогали загонять кенгуру284. Пролить свет на рассматриваемое нами противоречие или аномалию может изучение остатков пищи на местах стоянок, исследуемых археологами. Прибрежные стоянки, где преобладают остатки рыбы, моллюсков и морских животных, едва ли могли бы реально отобразить ту роль крупных млекопитающих, которую они играли в хозяйстве аборигенов, живущих на небольшом расстоянии от побережья. С. Боудлер, считавшая, что процесс первоначального заселения Австралии происходил вдоль побережий, рассматривает интересные данные из нижних слоев пещеры Кейв Бэй285, находившейся в плейстоцене в глубине континента. Приводимая С. Боудлер таблица «дает приблизительное минимальное число млекопитающих, на которых охотились аборигены по данным одного из раскопов» . Выделены два слоя: 1) приблизительно 7—18 тыс. лет назад и 2) приблизительно 18—23 тыс. лет назад. Самым крупным млекопитающим (кроме, вероятно, вомбата), являлся щеткохвостый валлаби, на которого, по всей видимости, охотились индивидуально, выслеживая и подкрадываясь к нему. В нижнем слое щеткохвостые валлаби составляли немного менее 40%, а в верхнем слое — немного менее 50% среди всех потребленных млекопитающих. Конечно, данных о животной пище только с одной материковой стоянки недостаточно, и необходимо делать оговорки при сравнении плейстоцена с новейшими материалами. С. Боудлер прекрасно знала об этом и именно так и поступила, сравнивая фауну стоянок Манго I и Басс Пойнт287. Ее археологические сообщения о пещере Кейв Бэй показали, что охота на крупных млекопитающих в то время играла более важную роль в хозяйстве аборигенов, чем свидетельствуют этнографические наблюдения. Кроме того, как мы увидим, подобную деятельность редко наблюдали и описывали* Хотя наиболее распространенный способ охоты на крупных млекопитающих (сумчатых) состоял в том, что отдельный охотник подкрадывался к животному, это не исключало сотрудничества с другими членами общины. Так,. Ф. Маккарти 8 описал такую кооперацию на Арнемленде, где «... трое или четверо мужчин выходят на охоту вместе. Они не предпринимают никаких специальных предосторожностей, пока не завидят кенгуру. Тогда охотники начинают разговаривать шепотом и, используя язык жестов, разрабатывают план нападения, причем на предполагаемую добычу обычно указывают копьеметалкой. Затем наиболее искусный охотник подкрадывается к дичи с подветренной стороны; он пробирается вперед, перебегая или быстро переходя с места на место под прикрытием деревьев и кустарника, если необходимо, низко склонившись; на открытых участках он продвигается медленно. Один или два загонщика заходят с противоположной стороны таким образом, чтобы из-за холма или группы деревьев направлять животных к охотнику с копьем, но так, чтобы не слишком их встревожить. Охотник бросает копье либо в стоящего, либо в бегущего кенгуру, а если удается, и еще несколько копий, чтобы поразить не одно животное...» . Из описания Ф. Маккарти ясно, что только один человек подкрадывается и метает копье, хотя другие мужчины помогают ему, направляя животное (или животных). Сотрудничество на охоте, согласно Ф. Маккарти290, наблюдалось не только между мужчинами, но охотнику могла помогать и его жена: «Часто мужчине приходится выслеживать и преследовать кенгуру в сухих районах в то время, когда дичь встречается редко и ведет себя настороженно. Это изнурительное занятие, особенно для одинокого охотника, и необходимо высочайшее мастерство в течение одно-, а то и двухдневного преследованя, пока животное удастся убить... В северо-западной Австралии охотник гонит кенгуру до полного изнеможения последнего. При выполнении этой задачи жена может помогать ему, подавая сигналы о передвижении животного» . Один из вопросов, вызвавших дискуссию в последние годы, состоит во взаимодействии гигантских сумчатых плейстоцена и предков нынешних аборигенов. Кенгуру, достигавшие трехметровой высоты, и дипротодонты, размером с большого носорога, были самыми крупными формами. Дж. Кэлэби292 писал: «Семейство дипротодонтовых, в которое входили самые крупные млекопитающие, когда-либо жившие на земле, начало вымирать с появлением человека (в Австралии.— Ф. Р.)». Он продолжает далее более осторожно: «Мы не знаем, в какой степени крупная фауна плейстоцена сохранилась к моменту появления человека. Данных... мало, и в ряде случаев они сомнительны, но можно утверждать, что к этому моменту по крайней мере некоторые гигантские сумчатые все же существовали». Он293 же поставил важный вопрос: «Охотились ли люди, жившие в плейстоцене, на огромных сумчатых?» Но ответ самого Дж. Кэлэби был уклончивым. Р. Джонс294 предположил, что первые австралийцы охотились на этих животных и именно в результате истребления и выжигания обширных зарослей кустарников они начали вымирать. Как отметили Дж. Кэлэби295 и Н. Петерсон296, если в плейстоцене человек истребил этих гигантских сумчатых, то сделал он это при помощи деревянного копья. Использование деревянных ударных копий при добыче крупных млекопитающих вполне доказано для палеоантропов и даже архантропов в Европе и поэтому на первый взгляд нет причин, почему бы первобытный человек в Австралии не мог охотиться и истреблять гигантских сумчатых грубыми деревянными копьями. Но решающие археологические доказательства, которые показывали бы взаимосвязь человека эпохи плейстоцена с местами убийств гигантских млекопитающих, все еще не найдены297. Те останки животных, что были обнаружены на археологических стоянках эпохи плейстоцена, как, например, пещер Кейв-Бэй и в Лейк Манго, имеют поразительно современный характер, а останки вымерших животных здесь полностью отсутствуют. С. Боуд-лер298 обратила внимание на это противоречии, отметив, что на стоянках обнаружились бы останки плейстоценовой фауны, если бы действительно человек был одной из причин вымирания гигантских сумчатых. Д. Хортон299 считает, что именно климатические изменения привели к исчезновению гигантов. Допуская, что наиболее важный и производительный способ охоты состоял в том, что отдельный охотник с копьем подкрадывался к дичи, надо отметить, что это был не единственный метод добычи мяса.. Ф. Маккарти300 отметил около 18 основных способов охоты, хотя и не все они были распространены в Австралии повсеместно. К ним относится использование ям-ловушек и западней, охота загоном с применением или без применения огня301, использование изгородей вокруг водоемов, чтобы заставить животных пройти на расстоянии полета копья, употребление сетей, добавление яда в водоемы, чтобы одурманить эму и других животных, приходящих на водопой, маскировка руками . Совершенно очевидно, что не все способы, известные какой-либо группе аборигенов, применялись круглый год — они менялись в зависимости от времени года. Так, водоплавающих птиц легко ловили во время линьки, в другое же время к ним трудно было подобраться. Хотя для большинства дополнительных способов, перечисленных . Ф. Маккарти, не характерно подкрадывание к животному отдельным охотником, тем не менее и здесь животное обычно умерщвлялось копьем. При том большом значении, которое применение копья имело в хозяйстве аборигенов, не удивительно, что оно играло важную роль и в их идеологии, а также в надстройке общества в целом. Некоторые так называемые копья303 были церемониальными предметами и не применялись ни для охоты, ни для сражений. Классический пример представляют церемониальные копья тиви с островов Мелвилл и Батерст. Они изготавливались из одного куска дерева или — ре-же — из двух. Особенностью этих «копий» были тщательно вырезанные (а затем покрашенные) одинарные или двойные зубцы. Эти зубцы специально вырезались чрезмерно большими и длинными, что делало копье очень тяжелым, хотя по баллистическим параметрам эти копья можно отнести к метательным с центром тяжести в передней половине. Копья, обычно используемые как охотничьи и боевые, иногда применялись при возведении церемониальных объектов304, а затем, после выполнения обряда, снова выполняли свои прямые функции. Иногда копья приобретали сакральную ценность. Д. Томсон305 рассказывал, что «мясо кенгуру или другого животного, убитого копьем или иным оружием, считающимся «яркомирри» — буквально «имеющим имя» (это означает, что оно посвящено сакральному родовому тотему),— также является священным, и такое мясо могут есть только представители ограниченной группы, состоящей из членов рода, прошедших полную инициацию». На Грут-Айленде считалось, что нанесение узора на копья или другое оружие делает их более эффективными (вероятно, в результате магического воздействия)306. Подобный обычай существовал еще в 1941 г. Копью придавалось большое символическое значение во время инициации юношей. Едва мальчик начинал самостоятельно ходить, он ѵже учился бросать игрушечные копья307. Но Г. Базедов308 отмечал, что использование настоящих копий и другого оружия было запрещено юношам, не прошедшим инициацию; нарушение этого рассматривалось как оскорбление достоинства инициированных мужчин. Б. Спенсер309 сообщал, как во время инициации мальчику давали копье в знак того, что теперь он получает право использовать оружие мужчины. Тасманийские копья Существует мнение, что вследствие их простоты тасманийские копья были этнографическим прототипом метательных копий, которые применял человек при первичном заселении Австралии. В европейских музеях, куда я направил запросы, тасманийские копья не обнаружены, и поэтому при изложении этого вопроса я вынужден буду опираться в основном лишь на сведения, которые можно найти в литературе. Это в основном Н. Пломли310 и Л. Рот311. Дж. А. Робинсон312 описал способ изготовления копий, но надо отметить, что ни в своих дневниках, ни где-либо еще он не сообщает о том, чтобы заостряли именно толстый конец деревца. Сведения, приводимые Л. Ротом313, представляют больший интерес, причем этот факт отмечают как Мелвилл, так и миссис Принсеп, процитированные им. Наблюдение Л. Рота, что десять копий в Хобартском музее имели «почти тупые соскобленные наконечники», нуждается в пояснении. Возможно, под «тупым наконечником» Л. Рот подразумевает, что тот имел угол более 90.° С другой стороны, острым можно считать наконечник, у которого угол небольшой (например, меньше 20°) и зна- чительная часть дерева с него срезана. При изготовлении «тупого наконечника» путем «опиливания его кремнем», как описал этот процесс Уидоусон, процитированный Л. Ротом, с острия копья приходилось снимать совсем немного дерева. Центр тяжести молодого чайного деревца — из него обычно тасманийцы делали копья — находился не очень далеко от середины. Если бы с толстого конца сняли много дерева, то это ухудшило баллистическую характеристику копья, так как центр тяжести переместился уже не к середине, а ближе к хвостовой части копья. Тасманийцы, очевидно, знали об этой особенности и поэтому использовали «тупые наконечники». Из описаний Л. Рота и Дж. А. Робинсона ясно, что аборигены соскребали с деревца кору, неясным остается лишь, насколько они соскабливали дерево с заднего конца копья, чтобы улучшить его баллистические свойства. Еще одна особенность копий, описанных Л. Ротом, состоит в значительном варьировании их длины: от 488— 549 см, по данным Ж. Лабилардьера, до 152 см, по данным Мелвилла. Дж. А. Робинсон314 упоминает о 488-сантиметровом копье, но, вероятно, его можно рассматривать как исключительный случай. Длинные тасманийские копья превышают размеры австралийских (в Лейпцигском музее самое длинное австралийское копье составляет 373,5 см). Дж. А. Робинсон315 отмечал, что более короткие копья использовались для охоты на кенгуру, а длинные, по-видимому, для сражений. Дж. А. Робинсон316 сообщал и о том, что маленькие мальчики упражнялись в метании игрушечных копий. Из его дневника можно заключить, что копья, их изготовление и использование были связаны с духовным миром тасманийцев, подобное же положение отмечено и у австралийцев. Слагаемые охотничьего успеха Что являлось решающими факторами, делающими охоту с копьем успешной? Как мы увидим ниже, подход аборигенов к данной проблеме совершенно не совпадает с мнением большинства исследователей, основывающемся на в корне ошибочных представлениях. В первой главе была подчеркнута необходимость критической оценки каждого сообщения о той или иной деятельности или обряде аборигенов до выведения общих заключений. Очень часто предубеждения наблюдателя подсознательно влияли на его сообщения. Вследствие того, что охота с метательным копьем велась в основном индивидуально, ее редко могли наблюдать посторонние. В результате отчеты о ней являлись логической интерпретацией исследователя на основе его собственных предположений о том, что происходит на такой охоте, и также на основе тех ограниченных наблюдений, которые ему действительно удавалось сделать. Тому, кто не наблюдал традиционной охоты аборигенов, тот факт, что существует очень мало (если они вообще существуют) сообщений из первых рук об индивидуальной охоте с метательным копьем, может показаться странным, а то и вообще недостоверным. Это тем более удивительно, поскольку именно охота с копьем на крупных млекопитающих была наиболее развита у аборигенов, и наблюдатель, пожелай он в ней участвовать, мог бы получить достаточно неприятный опыт, достойный описания. Не говоря уже о малочисленности отчетов непосредственных наблюдателей, имеется очень немного (если они вообще есть) фотографий, показывающих, как абориген метает копье в крупное животное или готовится к броску. Существует множество фотографий, на которых абориген несет убитого им кенгуру318 или разделывает и готовит его319. Но единственная известная мне фотография, которая должна изображать аборигена, готового метнуть копье в кенгуру, описывается следующим образом: «Наррана с реки Ливерпул (Арнемленд) приготовился бросить копье в кенгуру, в то время как его семье знаками сообщается, чтобы они сидели тихо и не шевелились»320. Этот снимок сделал известный фотограф Аксель Пуиньан, но я очень подозреваю, что абориген позировал специально, так как фотограф находился там, где должен быть кенгуру, а жена и дети — на расстоянии всего нескольких метров за спиной у охотника. Важность охоты с копьем на крупных сумчатых и то уважение, которое приносил успех на ней, отмечаются почти по всей Австралии, и материалы Д. Томсона321 об Арнемленде могут быть полезны и при изучении других районов. Но, не говоря уже о фотографиях, описания настоящих охот чрезвычайно редки в литературе. Можно задать вопрос: отчего же литература столь очевидно пренебрегает такой важной стороной жизни аборигенов? Говоря о том, почему сообщения о хозяйстве аборигенов так неполны, мы уже ссылались на мнение Дж. Барнса: одна из причин состояла в том, что для получения подобных данных требовалась напряженная деятельность, в том числе, очевидно, и походы с аборигенами в буш. Д. Томсон, несомненно, ходил в буш с аборигенами, но, насколько мне известно, он никогда не сообщал о настоящей охоте с копьем на кенгуру. Здесь мой опыт поможет объяснить это явное противоречие. Я часто бывал в буше с аборигенами Грут-Айленда, в том числе когда они пытались охотиться с копьем на валлаби (кенгуру на Грут-Айленде не водятся). То, что им редко сопутствовала удача, не столь важно в данном случае, одна из причин этого, возможно, состояла в том, что они всегда брали с собой только остроги — либо деревянные, либо с зубцами из заостренных проволочных прутьев. Итак, когда абориген видел валлаби и начинал подкрадываться к нему, мне тут же давали знак тихо стоять на месте322. Если с нами были другие аборигены, то они тоже останавливались, в то время как охотник в одиночку продолжал подкрадываться к животному. Охота с копьем на крупных сумчатых была индивидуальной деятельностью, особенно завершающий ее этап, и именно это препятствовало фотосъемке и описанию ее на должном уровне. Большинство наблюдателей предполагают, что чем дальше брошено копье, тем больше его эффективность. Копье может быть брошено рукой на определенное расстояние, еще дальше его можно запустить с помощью копьеметалки, стрелу же можно послать совсем далеко . Мышление чисто техническими понятиями позволяло предположить, что охотник будет стремиться повысить именно техническую эффективность имеющегося в его распоряжении оружия всеми доступными ему практическими способами. Эти способы должны были бы состоять в техническом улучшении самого оружия и методов его применения. Такой «технический» подход к этому вопросу проявился хотя и косвенно, но вполне определенно в сообщениях о максимальных расстояниях, на которые абориген мог бросить копье. Дж. А. Робинсон324 наблюдал как тасманиец метнул легкое копье на 91 м. Ф. Маккарти325 сообщает о броске небольшого копья с помощью копьеметалки на 183 м, а в соревнованиях, организованных Б. Спенсером326 среди тиви, рекорд составлял 43,7 м. Эти цифры сами по себе, даже с чисто «технической» точки зрения, не имеют большого значения, ведь дальность полета меняется обратно пропорционально весу копья327. Продолжим эти «технические» рассуждения: на определенное расстояние абориген может метко бросить копье и точно попасть в цель. Б. Смит328 писал, что это расстояние составляет 18,3—27,4 м, Ф. Маккарти329 утверждал, что при использовании копьеметалки оно достигает 54,9 м, а движущуюся цель можно поразить на расстоянии 22,9 м. Должны ли мы заключить из утверждения Ф. Маккарти, что аборигены бросали копья в пасущихся на одном месте кенгуру с расстояния около 55 м, а в прыгающего кенгуру могли попасть только с 23 м? Ф. Маккарти не указал, где он получил эти данные, и вряд ли он сам наблюдал индивидуальную охоту с копьем на кенгуру. Судя по всему, утверждение Ф. Маккарти — это общее мнение профессионального этнографа; к таким мнениям Б. Малиновский330 относился с недоверием. Оставим «технический» подход, навязанный аборигенам европейским образом мышления, и посмотрим, на-сколко это возможно, что же происходит в действительности. Некоторые внимательные наблюдатели отметили, что фактически аборигены не так уж метко бросали копья. Э. Эйльман331 писал, что по сравнению с белыми им реже везло на охоте, поскольку они недостаточно уверенно метали копья. Б. Спенсер33 писал в связи с организованным им соревнованием: «...собственно говоря, копье летело не так уж метко». О том же свидетельствует и мой собственный опыт на Грут-Айленде. Одна из причин, почему аборигены были не особенно метки, состоит в технических недостатках самих копий. Известно, что все их метательные копья, как бросаемые рукой, так и копьеметалкой, имели как уже было отмечено выше, центр тяжести ближе к наконечнику,— в ином случае они были бы неустойчивыми в полете,— причем оптимальные баллистические параметры достигались тогда, когда центр тяжести находился примерно на расстоянии 1 /3 длины копья от наконечника. Мое исследование ряда копий из фондов Лейпцигского музея народоведения показало, что, вероятно, аборигены не знали или не придавали большого значения этой особенности. И все-таки, несмотря на недостатки их копий, аборигены были превосходными, или по крайней мере вполне хорошими охотниками. Как же разрешить это явное противоречие? То, что аборигены теряли в эффективности при использовании метательного копья, они возмещали искусным подкрадыванием к животному на очень близкое расстояние. Дело состояло не в точном попадании в цель с дистанции в 55 м, а в том, чтобы приблизиться к животному, не будучи замеченным, и бросить копье с гораздо меньшего расстояния. Поскольку подлинную индивидуальную охоту с копьем удавалось наблюдать и описывать редко (а возможно, что такой опыт вообще отсутствует), то данных о том, как близко охотнику удавалось подойти к животному перед метанием копья, фактически не существует. Э. Эйльман писал, что аборигены подбираются «очень близко»333 и находятся «в непосредственной близости»334 от животного, но это были не количественные данные. Дж. Уитнелл335, однако же, утверждает следующее: «Они также упражняются, бросая копья во что-нибудь мягкое, например в кусок неплотной коры, с расстояния 13,7—18,3 м. Дичь же они обычно поражают копьем с гораздо меньшей дистанции». Итак, здесь определено расстояние, с которого абориген бросает копье в добычу,— менее 18,3 м. При такой дальности недостатки их копий и точность броска не имеют существенного значения. Как же удавалось аборигену приблизиться менее чем на 18 м к кенгуру, не будучи замеченным? Прежде всего необходимо было выследить животное, и в литературе часто отмечаются336 превосходные способности аборигенов в этом отношении. Какой особенностью должен был обладать абориген, чтобы близко подобраться к животному, после того как он его выследил и заметил, скажем, на расстоянии 200 м? Это совершенно иная способность по сравнению с умением выслеживать животное, и на нее редко обращают внимание. Превыше всего она требовала незаурядного знания и понимания поведения животного. Другими словами, абориген должен был быть искусным практическим этологом. Эти знания он приобретал двумя путями, во-первых, своим собственным практическим опытом охоты и, во-вто-рых, что не менее важно, в результате обучения во время инициации старшими, более опытными мужчинами. Это обучение состояло не просто в пассивном усвоении и повторении мифов и песен о различных тотемных животных, хотя и они, несомненно, имели большую этологическую ценность; юноша под руководством старших мужчин должен был имитировать поведение того или иного животного337. Это также являлось частью, и очень важной частью, образовательной стороны инициации и продуцирующих обрядов. Кроме того, этот процесс растягивался на много лет, на протяжении которых наряду с практическим опытом охоты инициируемый юноша расширял знания о поведении животных . В литературе подчеркивалась превосходная способность аборигенов выслеживать дичь и не обращалось должного внимания на их умение подбираться на поразительно небольшое расстояние к животному. Причина подобной недооценки, возможно, состоит в том, что большинство общепризнанных специалистов, несмотря на их большой опыт работы среди аборигенов, должно быть, не осознают, в чем в действительности заключалась традиционная охота. Э. Эйльман 339 был единственным, кто написал: «Ни с каким другим народом не сравнится австралийский абориген как охотник. Меня поражали именно его непревзойденная способность наблюдать, большая выносливость и искусство выследить и перехитрить дичь. То, что успех аборигена на охоте определяется не только остротой чувств, котог ле обычно у него развиты не лучше, чем у европейца, можно заключить из того факта, что мужчины с небольшой остротой зрения из-за конъюнктивита нередко являлись выдающимися охотниками. Охотничьи способности аборигена в значительной степени основываются на точном знании образа жизни диких животных, постоянной тренировке наблюдательности и умении определять малейшие изменения на поверхности земли, вызванные человеком и животными. Один из главных способов охоты состоит в подполза-нии к дичи, подобно хищнику, и затем, в непосредственной близости, поражению ее метательным оружием. Прекрасно служит аборигену умение читать следы животных на земле. Будучи ребенком, под руководством матери он пытается ловить ящериц и мелких грызунов, выслеживая их. Позже постоянное обучение дает ему возможность точно определять следы всех членов его общины и всех съедобных животных. Во многих случаях хороший следопыт с большой точностью может определить, как давно был оставлен след». Можно заключить, что основные слагаемые охотничьего успеха аборигена лежали не столько в технической эффективности его копья или в мастерстве пользования им, сколько в умении выслеживать животных, в исключительно глубоком понимании их поведения и, в результате этого, искусном подкрадывании к ним на расстояние, с которого удар копьем точно поражал цель. Вполне естественно, что и У. Лафлин340 отметил подобное положение в охотничье-собирательских обществах, где уже применяются лук и стрелы. Здесь также технический потенциал оружия не использовался в полной мере, применялись знания о поведении животных и ловкость, чтобы приблизиться к ним и пустить стрелу с небольшого расстояния. Африканское племя хадза можно отчасти считать типичным представителем подобной охоты (они использовали отравленные стрелы); по сообщению Дж. Вудберна341, они приближались, «если возможно, на 23 метра или меньше» перед выстрелом из лука. Как мы уже отметили, переход от бросания копья рукой к применению копьеметалки, а затем лука и стрелы отнюдь не диктовался ростом «технических» преимуществ в связи с увеличением дальности полета. Тем не менее можно задать вполне правомерный вопрос: давало ли какие-либо дополнительные преимущества применение лука и стрелы по сравнению с копьеметалкой, а применение последней по сравнению с метанием копья рукой? Метательное копье обычно было тяжелым оружием, и в большинстве случаев вес его превышал совместный вес копьеметалки и небольшого копья, применяемого для нее, а их вес в свою очередь был больше лука и стрелы. Поскольку охота являлась трудным предприятием, требовавшим от охотника долгих переходов через буш, вопрос о весе оружия был немаловажным для него. Следовательно, преимущество перехода от ручного копья к копьеметалке и, наконец, к луку и стрелам действительно существовало. Но приписывать этот переход «техническим» преимуществам вследствие увеличения радиуса действия копья является фундаментальной ошибкой. Рыболовство Рыболовство, включая собирание моллюсков, было очень важной отраслью хозяйства аборигенов прибрежных, речных и озерных районов, и, естественно, роль его была не так велика в сухих внутренних районах. Принимая во внимание положение о том, что первоначальное заселение Австралии происходило вдоль побережий, можно предположить, что в доисторические времена рыболовство играло даже еще большую роль, чем в относительно недавнем прошлом. Ф. Маккарти342 писал: «В целом известно около 15 способов (рыболовства.— Ф. Р.), многие из них также применяются на охоте. Отдельные люди ловят рыбу для себя и своей семьи, но большинство этих способов связано с групповым сотрудничеством». Дж. Блейни343 писал о «большом разнообразии методов рыбной ловли» и пришел к выводу, что местные условия способствовали развитию многих из них. Все это, конечно, совершенно верно. Верно также и то, что основные способы рыболовства папуасов и меланезийцев, живущих на север от Австралии, ненамного совершеннее австралииских . Это не значит, что все основные способы применялись по всему континенту. Удачным примером может служить замечание X. Рейма345 о том, что запруда, построенная У. Бакли на реке Карааф, являлась новым способом рыбной ловли не только для той группы аборигенов, где он жил, но и во всей Виктории в целом. Возможно, что некоторые или даже большинство основных способов рыболовства аборигены принесли с собой при переселении с материка Сунда. Вполне вероятно, что они, вернее их предки, при появлении на материке Сахул уже использовали копья для добычи рыбы. Также уже тогда они могли применять яд, получаемый из измельченных листьев, корней и коры некоторых деревьев и кустарников для одурманивания рыбы. Если это так, то отравление рыбы, вероятно, предшествовало одурманиванию птиц и, следовательно, явилось дальнейшим развитием этого метода при переселении в Австралию346. Несомненно, что в благоприятных условиях при изобилии моллюсков и рыбы аборигены переходили к полу-оседлому образу жизни. Раковинные кучи на побережье Австралии и Тасмании безмолвные, но вполне реальные свидетели этой полуоседлости. Можно предположить, что такие кучи, как правило, относятся к послеледниковой эпохе, так как более ранние кучи были покрыты поднявшимся морем в конце плейстоцена. Но нужно подчеркнуть — и важность этого трудно преувеличить,— что такая полу оседлость наступала и вдали от прибрежных и речных районов, когда в изобилии была другая пища, кроме рыбы и моллюсков. Этнографические материалы свидетельствуют о сборах большого числа аборигенов в районах, отдаленных от побережья; такие группы жили вместе в течение недель, а иногда и месяцев. Подобные встречи давали возможность провести инициацию и другие обряды. Ясно, что в такое время пища, обычно растительная , должна быть в изобилии в этих местах, чтобы прокормить столь большие полуоседлые группы. Это местное изобилие пищи было непременным условием проведения большинства обрядов. Пищевые отходы полуоседлых групп внутри континента носили в основном органический характер, и в течение года исчезали, так что сейчас археологи только в исключительных случаях могут найти подобные пищевые остатки этой внутриконтинентальной оседлости. Положение на побережье было совершенно иным. Даже если моллюски составляли небольшую часть в потребляемой пище, пищевые отходы в целом образовывали кучи, которые сейчас легко могут обнаружить археологи и сведущие любители348. Мы отвлеклись бы от основной цели данной работы, если бы попытались детально рассмотреть и описать множество орудий и способов, применяемых аборигенами для ловли рыбы и сбора моллюсков. Все эти сведения легко найти, особенно в старой литературе349. Орудия труда женщин-аборигенок Палка-копалка имела такое же значение для женщин, как копье для мужчин, и подобно ему иногда использовалась в качестве боевого оружия350. Ф. Маккарти писал351: «Туземные женщины применяют палку-копалку для добычи растительной пищи; это круглое в сечении орудие длиной от 30 до 180 см с заостренным шиловидным или плоским заточенным рабочим концом, закаленным на огне. В центральных районах заостренный совкообразный конец деревянной палки служил превосходным приспособлением для копания; в западной части Нового Южного Уэльса применяли палки с острозаточенным несколько расширяющимся концом». Совершенно очевидно, что в отличие от мужских копий главное орудие труда женщин было очень единообразным и никогда не было составным. Вместе с тем надо сказать, что длина менялась и палка-копалка могла иметь либо заостренный шиловидный конец, либо плоский заточенный, а во внутренних районах Нового Южного Уэльса она превратилась в деревянную лопатку, но в целом различия между палками-копалками в разных частях Австралии незначительные. Мой собственный опыт свидетельствует о том, что палка-копалка в Центральной Австралии — в 1962 г. ее заменил железный лапчатый ломик (вага) — почти не отличалась от применяемых в северной Австралии. Конечно, можно было бы возразить, что это единообразие являлось скорее кажущимся, чем подлинным по той простой причине, что сбором и описанием этнографических фактов занимались почти исключительно мужчины, пренебрегавшие хозяйственной деятельностью женщин. В этом, несомненно, есть доля правды. С другой стороны, необходимо отметить, что еще один предмет, играющий важную роль в хозяйственной деятельности женщин,— емкость для хранения растительной пищи,— отличается большим разнообразием на всем континенте. Д. Томсон352 приводит типичное описание: «Использовались плетеные корзины, так же как сетчатые или плетеные сумки нескольких типов, каждая предназначалась для определенной цели. Применение соответствующего типа зависело от того, какая пища была главной в то или иное время года. Эти корзины с едой вешали через плечо или закидывали за спину, когда они были пустыми. Наполненные сумки носили, обвязав ручкой-лямкой лоб, когда же сумка была очень тяжело нагружена, ее переносили на макушке головы». На Грунт-Айленде главной емкостью для растительной пищи служила так называемая сумка байикали, обычно изготовлявшаяся из волокнистой коры дерева, края ее собирались складками и скреплялись какими-либо волокнами или лыком деревьев. Женщины на Грут-Айлен-де сами сумки не плели, их выменивали у континентальных племен. Женщины из племени тиви также использовали кору для изготовления сумок, но они совершенно отличались от байикали с Грут-Айленда; иногда их с большим вкусом украшали традиционными узорами, и поэтому они представляют большую ценность для этнографов. В Центральной Австралии, как правило, применяли выдолбленные из дерева корытца, причем наружная сторона часто украшалась тщательно вырезанными желобками. Такое корытце могло служить не только для сбора растительной пищи, но и для провеивания злаков после их измельчения, а также как колыбель для младенца. Иногда, отмечает Ф. Маккарти, оно могло применяться и для копания. Почти так же широко, как палка-копалка, был распространен жернов (зернотерка), обнаруженный и на Тасмании353. Техника помола стала развиваться или осваиваться сразу же с появлением аборигенов в Австралии, и, следовательно, уже примитивный жернов можно рассматривать как специальное орудие для выполнения определенной задачи. Некоторые исследователи считают, что небольшая вариативность каменных орудий вызывалась тем, что они обычно использовались для изготовления других инструментов (деревянных или из иных органических материалов), когда же они сами непосредственно применялись в производстве, то становились более специализированными . Если согласиться с такой интерпретацией, то жернова должны были бы быть высокоспециализированным орудием. В действительности положение было прямо противоположным. Если бы не семена травы или мука, прилипшие к ним, то верхний жернов едва можно было бы отличить от других голышей подобного размера, обкатанных водой. Нам уже приходилось отмечать, что тяжелый нижний жернов надо было иногда переносить за сотни километров в юго-западные районы Квинсленда, так как там не было подходящих для этой цели камней. В скальных пещерах нижнего течения реки Ист-Аллигейтор в Арнемленде выступы скал, служащих нижним жерновом, испещрены сотнями круглых ямок — свидетельство труда женщин на протяжении прошлых тысячелетий. В Арнемленде аборигены к моменту прихода европейцев, конечно, имели жернова, но владение техникой размалывания в отличие от центральных районов не было непременным условием при приготовлении растительной пищи. В Арнемленде жернова были необходимым орудием лишь для растирания охры и других красящих веществ, которыми расписывали кору, скалы и тело. Хотя уже упомянутыми нижними жерновами на реке Ист-Аллигейтор служили выходы скальных пород, поблизости скальных рисунков не обнаружено. Это скорее всего свидетельствует о том, что эти углубления были сделаны женщинами, растиравшими семена или орехи. После того как я увидел эти ямки, покрытые темным налетом, у меня сложилось впечатление, что они уже давно не используются для размола. Кроме того, в результате тектонических подвижек некоторые плиты с выемками накренились, а одна даже совсем перевернулась, так что в последнее время своего существования как нижний жернов они больше не применялись. Д. Малвэни3°5, отметив, что в Арнемленде были найдены верхние жернова, применявшиеся 18 тыс. лет назад, замечает: «Может иметь значение тот факт, что поскольку во время плейстоцена климат в этих тропических районах сделался более засушливым, то в питании повысилась роль растертых семян». Более низким уровнем моря во время плейстоцена может объясняться и то, что стоянки, сейчас находящиеся недалеко от побережья (как, например, упоминавшаяся стоянка в низовьях реки Ист-Аллигейтор), тогда отстояли от моря на сотни километров. «Первоначальные» и «общеавстралийские» артефакты Прежде чем завершить эту главу, хотелось бы выдвинуть еще одну гипотезу. Прошло уже несколько лет с тех пор, как А. Капелл предложил идею о «первоначальном» австралийском языке и «общеавстралийском» языке356 на основе данных лингвистики. Эта идея оказалась очень полезной для освещения лингвистической ситуации в Австралии и для выявления ряда противоречий. Эвристически может показаться полезной попытка дифференцировать в производительных силах и орудиях производства первоначальные и общеавстралийские элементы. Ряд авторов357 определили, какие орудия они считают «исходными» австралийскими, другие говорят о «первоначальных» австралийских орудиях, которые первые переселенцы, вероятно, принесли с материка Сун-да на Сахул. В отношении материальной культуры к «первоначальным» австралийским орудиям можно отнести цельное метательное копье, метательную палицу, палку-копалку, емкость для переноски растительной пищи и, возможно, другие предметы. К «общеавстралийским» (хотя как и в лингвистике, они распространены не по всей Австралии) можно было бы отнести жернова (и конечно, весь процесс производства соответствующей растительной пищи), топор, зашлифованный по рабочему краю, бумеранг, копьеметалку, щит, а также, в определенном смысле, собаку. Тасманийские данные для подобной дифференциации во многих случаях недостаточны, но тем не менее проблема сохраняется, так как отсутствие данных, относящихся к этнографической современности, не означает, что их не существовало, когда Тасмания отделилась от Австралии3^8.
Естественное и общественное разделение труда В этой и последующих четырех главах будут рассмотрены производственные отношения в традиционном обществе аборигенов. В предыдущих главах мы увидели, что описание производительных сил неизменно затрудняется двумя препятствиями. Первое — это неполнота данных; второе, более важное препятствие связано с гносеологическими факторами, которые повлияли на имеющиеся в нашем распоряжении сообщения. Всегда можно ожидать, что отчеты наблюдателей (сюда, естественно, входят и профессиональные этнографы) обязательно окрашены их собственными представлениями, автоматически распространяемыми ими на общество аборигенов. Данный процесс иногда принимает столь замаскированный характер, что недостатки подобных отчетов бывает трудно выявить и измерить. Пример такого рода был рассмотрен в разделе «Слагаемые охотничьего успеха» в предыдущей главе. . Что касается описания производительных сил, то положение здесь еще сложнее. Мы уже ссылались на Дж. Барнса359, говоря о причинах отсутствия удовлетворительных описаний традиционного общества в литературе. JI. Хайэтт360 коротко выразил это следующими словами: «...Этнографы обычно работали на границе (продвижения европейцев.— Е. Г .), но за ней — никогда». Было, конечно, несколько исключений (работа Д. Томсона в северо-восточном Арнемленде в 1930-х годах — одно из них), но большинство наблюдателей изучали аборигенов, чьи традиционные производственные отношения уже частично или полностью разрушились. Естественно, что в этом случае исследователи сосредоточивали свои усилия на том, что еще можно было увидеть и записать,— в основном на особенностях общественной надстройки, таких, как родство, а также религиозных и других обрядах — и пренебрегали тем, что осталось от традиционных производственных отношений. Вследствие этого для марксистского анализа гносеологический фактор приобретает особенно большое значение. Порой в подобных отчетах приходится по крупицам отделять материалистические элементы от идеалистического материала. Это довольно трудная процедура, и прошу читателя набраться терпения, когда я займусь подобным вычленением. Естественное разделение труда Под естественным (биологическим) разделением труда мы понимаем разделение по половому и возрастному принципу, причем при возрастном разделении труда пол может учитываться и не учитываться. Мы рассмотрим прежде всего половое разделение труда, а затем возрастное. К. Селлер361, на основе материалов М. Мид, отметил, что в отличие от приматов — ближайших родственников Homo sapiens в животном мире — мужчина помогал женщине и детям добывать пищу и заботился о них. Однако и К. Селлер и М. Мид упустили из виду то, что у Homo sapiens эти отношения были не односторонними, а взаимными; и действительно, легко можно доказать, по крайней мере для общества австралийских аборигенов, что женщина добывала для мужчины больше пищи, чем он для нее. Как бы то ни было, половое разделение труда явилось особенностью именно человека362; оно не наблюдается у приматов, подобное разделение труда было несомненно филогенетически очень давним и, по-видимому, сопутствовало процессу гоминизации363. Когда австралийские аборигены вели традиционный образ жизни, фактически все женщины у них были замужем364. Девочка переходила к мужу — это уже отме-чалоеь выше — задолго до наступления половой зрелости и задолго до того, как она могла вносить ценный вклад в хозяйственную жизнь общества. Вскоре после наступления половой зрелости она начинала рожать детей, что продолжалось до периода менопаузы. Она была замужем, то есть жила с мужчиной на протяжении всей жизни, и постоянно вносила экономический вклад в семью365. В отличие от женщин только незначительная часть взрослых мужчин в определенное время была жената, то есть постоянно жила с женщиной или женщинами, ведя совместное хозяйство. По существу366 половое разделение труда заключалось в том, что женщины были собирательницами пищи, преимущественно растительной, в то время как мужчины охотились на крупную дичь. Было принято, особенно в старой литературе367, изображать женщину-абори-генку как «вьючное животное», принадлежащее мужчине. Конечно, совершенно верно, что аборигенка при традиционном образе жизни выполняла такую работу, которую цивилизованная женщина физически не смогла бы выполнить, но это не значит, что ее непременно эксплуатировал мужчина. В противовес этому широко распространенному мнению можно привести слова . Ф. Маккарти и М. Макар-тур368: «Это исследование (озаглавленное «Поиски пищи и фактор времени в хозяйстве аборигенов».— Ф. Р.) хорошо иллюстрирует превосходную кооперацию в хозяйстве между мужчинами и женщинами; причем между ними складываются отнюдь не отношения хозяина и раба. Нас постоянно поражал тот факт, что женщины признают превосходство мужчин в различных областях и строго придерживаются основанного на этом поведения. Но женщины сами решают, какую работу они будут выполнять в тот или иной день, и делают ее так, как хотят...» В этой связи надо отметить, что именно женщины добывали большую часть пищи, потребляемой во время обрядов, в которых участвовали и играли главную роль преимущественно мужчины369. Собирательство было индивидуальной деятельностью, которая могла выполняться одной женщиной, работающей в одиночку370 или группой, каждый член которой работал самостоятельно. Это была индивидуальная деятельность, так как редко возникала необходимость коллективного участия всей группы женщин в трудовом процессе. Но надо отметить, что, когда была возможность, женщины работали в группах371. Причина этого была биологически обусловлена: такая кооперация позволяла женщинам делить хлопоты по уходу за грудными и маленькими детьми. Отметим также, что уход за детьми одним видам деятельности мешал больше, чем другим372. Какое же количество своих детей приходилось растить женщине одновременно в тот или иной период жизни? Конечно, это число менялось, но аборигенка редко имела более двух малышей сразу, обычно же — только одного. Это связано с тем, что, во-первых, промежуток между родами составлял около четырех лет, и, во-вторых, задолго до наступления половой зрелости дети расставались с матерью: сыновья подвергались обрядам инициации, а дочери переходили жить к своим «нареченным» мужьям. Конечно, число два не показывает всего количества детей, которых женщина выращивала за свою жизнь. Мужчины обычно охотились индивидуально, но в отличие от женщин не всегда, так как при определенных обстоятельствах трудовой процесс, то есть охота, требовал сотрудничества двух или более мужчин. Мужчины и женщины объединялись для совместной работы очень редко373. Это, конечно, не значит, что при случае мужчины не собирали растительную пищу, а женщины не убивали мелких животных, попадавшихся им при собирательстве. Существовало еще одно фундаментальное различие между собирательством женщин и охотой мужчин. Оно состояло в том, что добыча мужчин-охотников была непостоянной, а на успех женщин-собирательниц можно было рассчитывать всегда374. Мы уже отмечали375, что обычно мужчины и женщины занимались своей хозяйственной деятельностью в буше в разных местах376. Для того чтобы получать пищу, которую давал буш, требовался высокий уровень мастерства, как от мужчин, так и от женщин, но для каждого пола оно было качественно различным. От мужчины требовалось знать, в каких местах он скорее всего найдет дичь в определенное время года. Чтобы успешно охотиться, он дол^н был, кроме того, хорошо изучить ЭТО логию каждого вида животных и уметь их выслеживать. От женщины же требовалось знать, где она почти наверняка найдет растительную пищу в достаточном количестве в то или иное время года. Обычно женщина могла без больших усилий обеспечить пищей себя и свою семью. Далее, она должна была знать, как готовить растительные продукты, так как в некоторых случаях требовалось применять специальные способы для удаления яда. Коротко можно было бы назвать мужчин зоологами-практиками, а женщин — ботаниками-практиками. Совершенно ясно, что не все мужчины были в равной степени хорошими охотниками, как и не все женщины — хорошими собирательницами. В данной связи важно отметить, что все эти индивидуальные различия признавались обществом377. Большое значение имеет тот факт, что женщины собранную ими пищу не отдавали в распоряжение всей группы, а готовили и делили ее только внутри своей семьи378. С другой стороны, когда мужчина приносил крупное животное, его готовили и делили между всеми членами производственной группы, которая могла состоять из нескольких семей, таким образом мясную пищу получал более широкий круг родственников. Причины подобных различий в распределении, вероятно, можно объяснить тем, что успешная деятельность женщины была гарантирована и она без большого труда регулярно, каждый день могла собирать достаточное количество растительной пищи для своей семьи; напротив, охотничий успех мужчины в большой степени зависел от случая, иногда он возвращался с пустыми руками, в то время как другому члену той же группы на этот раз везло. Еще одно различие между мужчинами и женщинами, проистекавшее из полового разделения труда, состояло в том, что во время самого трудового процесса женщины имели прекрасную возможность вести разговоры, или, как Ф. Маккарти назвал это379 «болтать». С другой стороны, мужчине, когда он охотился, не с кем было говорить. Даже при совместной охоте мужчины вынуждены были общаться на языке жестов380, чтобы не вспугнуть животное. Таким образом, во время трудового процесса для всех практических целей мужчины не использовали устную речь, в то время как женщины общались друг с другом. Теперь рассмотрим возрастное разделение труда. В литературе, как в отчетах о полевой работе, так и в теоретических исследованиях, уделялось большое внимание половому разделению труда. Но когда мы обращаемся к возрастному разделению труда, то есть к той роли, которую играют в хозяйстве лица мужского и женского пола в соответствии с возрастом, оказывается, что существует чрезвычайно мало сведений о нем, полученных от непосредственных наблюдателей, и еще меньше теоретических работ на эту тему. Ясно, что ему не придается большого значения381, но роль возрастного разделения труда станет очевидной в свете нижеизложенного. Когда в работах об аборигенах заходит речь о возрастном разделении труда, то обычно прямо или косвенно оно сводится к такому тройному подразделению: лица моложе определенного возраста, слишком юные, чтобы играть активную и существенную роль в производстве; лица, деятельно участвующие в производстве; и наконец, лица, слишком старые, которые вносят небольшой вклад в общественное производство. Последние часто отождествляются с так называемыми старейшинами общества. Подобное схематичное деление, очевидно, оставляет открытым вопрос о том, можно ли применять его в равной мере к лицам мужского и женского пола. Для выполнения целей, поставленных в данной работе, подобное деление не подходит. Существует огромное количество свидетельств очевидцев и теоретических работ, особенно последних лет382, о возрасте мужчин и женщин при вступлении в брак и о возрастной структуре семьи, но почти нигде, как мы только что отметили, не рассматривается экономическая роль членов семьи в зависимости от возраста. Другими словами, семья и брак рассматривались по существу в половом и биологическом плане, и считалось, что направленность их деятельности состоит в половом обслуживании членов противоположного пола. Общепризнано, что пол как таковой является очень важной направляющей и, как мы увидим, в некоторых случаях разрушающей силой, уступающей по значимости только необходимости получения средств существования. 'Но рассматривать семью и брак только в биологическом плане значило бы игнорировать хозяйственную роль этих институтов, состоящую в поддержании социального статуса-кво и в сохранении традиционного общества в цветущем состоянии. В своей работе я придерживаюсь той точки зрения, что брак и семья играли преимущественно хозяйственную роль. Тем не менее материалы и исследования о возрасте членов этих институтов, поданные по существу с биологической точки зрения, проливают свет и на экономические отношения, то есть производственные отношения, присущие данным институтам. Хотя из материалов сторонников биологической точки зрения на семью и брак мы можем почерпнуть важные сведения о производственных отношениях, остаются существенные аспекты, по которым мало или совсем нет данных. В качестве примера назовем такие вопросы, как экономическая роль, которую играл мужчина в зависимости от возраста, в частности время достижения им наибольшей продуктивности, иначе говоря, мы могли бы спросить, в каком возрасте он добывал наиболее крупных животных? Исходя из возрастной структуры семьи аборигенов, я первоначально считал, что наибольшей продуктивности мужчина достигал в возрасте 42 лет 383. Не говоря уже о субъективном факторе при оценке возраста и допуская, что в 42 года мужчина достигал наибольшей ответственности в хозяйственной и других областях как глава семьи, существуют убедительные аргументы в пользу того, что 42 года — это слишком поздний возраст для мужчины, чтобы быть самым продуктивным охотником384. Мы увидим, что существуют другие данные, основанные на возрастной структуре общества в целом, которые также указывают или позволяют предположить, что в 42 года мужчина уже не мог быть лучшим охотником. Обратимся к тому, что писал Дж. Вудберн о возрасте охотников в племени хадза, находящемся на стадии охоты и собирательства, поскольку это могло бы пролить свет и на аналогичные проблемы у австралийских аборигенов385: «Многие мужчины... совершенно не готовы или не способны охотиться на крупных животных, даже когда у них есть стрелы. Крупную дичь убивает лишь небольшая часть взрослых мужчин. Вероятно, примерно половина мужчин не в состоянии добыть даже одно крупное животное за весь год. Самыми активными охотниками обычно являются юноши в возрасте 17—19 лет, а также возрастные группы 20—29 и 30—39-летних мужчин; очень немногие продолжают активно охотиться на крупную дичь после 45 лет. Есть несколько мужчин, которые едва ли убили одно крупное животное за всю свою жизнь. Занятие охотой — это личное дело человека. Другие мужчины не оказывают давления на него. Такому неудачливому охотнику, однако, труднее найти жену или, если он женат, обеспечить ее». Про австралийских аборигенов, насколько я знаю литературу, ничего столь определенного, как Дж. Вудберн написал о хадза, сказать нельзя. Выделим четыре аспекта в наблюдениях Дж. Вуд-берна, которые можно сравнить или противопоставить австралийским материалам. Возраст 45 лет, являющийся верхним пределом активной охоты на крупную дичь, явно находится в противоречии с моей первоначальной концепцией, что именно в 42 года абориген достигал наибольших высот в охотничьей деятельности или в «экономической продуктивности», по моему определению. Во-вторых, период активной охоты у хадза охватывает возрастной промежуток от 17 до 30—40 лет, то есть в Австралии это значило бы от последних лет инициации, если абориген ей подвергался, до получения жены. Если бы у австралийцев существовало такое же положение, как у хадза, то большинство активных охотников составляли бы мужчины, все еще не полностью прошедшие инициацию и/или не имеющие жен. Есть ли какие-либо данные о подобном положении в Австралии? В-третьих, из сказанного Дж. Вудберном ясно, что мужчины-хадза значительно различались по уровню своих охотничьих способностей. Среди австралийских аборигенов тоже существовали значительные различия, признаваемые обществом. Но были ли они столь велики, как у хадза, остается не ясным. В-четвертых, Дж. Вудберн утверждал, что мужчины не заставляют своих соплеменников охотиться. Но ведь если мужчина был плохим охотником, он мог не получить жену или, если он ее имел, потерять, а это свидетельствует (вопреки тому, что написал Дж. Вудберн) о существовании значительного давления со стороны общества, вынуждавшего мужчину охотиться на крупную дичь. Это, конечно, сходно с положением, наблюдавшимся в Австралии. Поскольку австралийских данных, с которыми можно было бы сравнить утверждения Дж. Вудберна, недостаточно, я использую свой собственный полевой материал, собранный в Центральной Австралии в течение моего трехмесячного пребывания на станции Ангас-Даунс, где я на протяжении всего этого периода записывал возраст аборигенов, убивавших кенгуру. Само собой разумеется, что эти данные 1962 г. можно использовать лишь с оговорками386. В 8 случаях был известен возраст аборигена, убившего кенгуру. В четырех случаях это были юноши 16 лет, не прошедшие обрядов инициации и обрезания, в двух других случаях — инициированные, но неженатые мужчины 24 и 27 лет, еще в одном случае — женатый мужчина 34 лет, и в последнем — мужчина 58 лет, состоявший в полигинном браке387. Надо отметить, что в этом последнем случае для загона кенгуру были использованы собаки. Считается, что этот способ охоты традиционно практикуется старшими мужчинами. Естественно, 8 случаев не имеют большого значения в статистическом плане, но тем не менее, за исключением последнего, они совпадают с данными Дж. Вудберна о хадза. Кроме того, они полностью соответствуют критерию, который Б. Малиновский выдвинул для безупречных этнографических данных388. Средний возраст мужчины в этих восьми случаях составляет 26 лет, что также фактически совпадает с данными Дж. Вудберна. Сам по себе это очень интересный вывод, так как он указывает, что в этом возрасте аборигены, подобно хадза, достигали наивысшего развития физических сил, охотничьего мастерства и знания поведения животных, на которых они охотились. Но в данном исследовании важнее отметить тот факт, что в 42 года мужчина находится уже далеко не в расцвете своих охотничьих способностей. Этот вывод имеет большое значение для изучения хозяйства аборигенов в целом и их производственных отношений в частности. Мы вернемся к этой теме, когда будем рассматривать экономическую роль семьи и обрядов инициации. Но существуют ли еще какие-либо данные в литературе, подтверждающие тот вывод, что именно юноши, не прошедшие инициацию, или инициированные, но неженатые мужчины вносили львиную долю в общественный продукт? Во многих отношениях чрезвычайно ценное исследование Д. Томсона 1949 г. оказывается неудовлетворительным, так как он редко ссылался на конкретные случаи и писал преимущественно общими словами, следовательно, его работа не соответствует критериям Б. Малиновского389. Как бы там ни было, Д. Томсон все-таки говорит, хотя только в общих выражениях, об охоте женатых мужчин , но главное внимание он уделяет инициируемым и молодым неженатым мужчинам, которых общество заставляет охотиться для выполнения обязанностей перед другими членами группы391. Учитывая большое внимание, которое Д. Томсон уделяет инициируемым и молодым неженатым мужчинам как охотникам, можно было бы вполне последовательно заключить, что они-то и были главными добытчиками. Само по себе это, конечно, еще не дает права делать подобный вывод, но является ценным дополнительным свидетельством. Теперь обратимся к моим данным, собранным на Грут-Айленде в 1941 г. Я учел 54 женатых мужчины и 29 неженатых старше 16 лет392. Но данный пример искажается «значительным преобладанием женатых мужчин... и недостатком неженатых»393. Фактически я учел всех женатых мужчин, и в соответствии с возрастной пирамидой количество неженатых мужчин старше 16 лет должно было бы приближаться к количеству женатых. Мы можем смело считать, что в обществе на каждого женатого мужчину приходился неженатый мужчина старше 16 лет394. Это утверждение также подтверждает тот факт, что наибольшая часть общественного продукта поступала именно со стороны неженатых мужчин. Вопрос, который мы рассмотрим ниже, следующий: как нормировали и распределяли вклад неженатых мужчин в общественный продукт? Прежде чем завершить рассмотрение вопроса о возрастном разделении труда среди мужчин, необходимо сказать и несколько слов о так называемых старейшинах в обществе аборигенов. Это выражение, строго говоря, используется неправильно, так как возраст сам по себе не является критерием для занесения человека в разряд «старейшин». Если бы это было так, то тогда «старейшинами» являлись бы самые старшие мужчины, но обычно дряхлые старики отнюдь не считались «ста-реишинами» . Теперь обратимся к вопросу о возрастном разделении труда среди женщин-аборигенок. Здесь мы располагаем еще меньшим количеством полевых материалов и исследований по сравнению с мужчинами. Да и вопрос о вкладе женщин в общественный продукт в зависимости от того, замужем ли они, никогда не ставился. Это было вызвано тем отмеченным выше фактом, что девочка выходила замуж, то есть переходила жить к ее первому мужу, задолго до наступления половой целости и до того, как она начинала играть значительную роль в общественном производстве. Более того, она практически оставалась замужней на протяжении всей дальнейшей жизни. Можно было бы поставить следующий вопрос: в какой степени старшие женщины «эксплуатировали» более молодых и более работоспособных женщин, а сами частично или полностью уклонялись от труда. Несомненно, различия в характерах могли приводить к трениям между женами в полигинной семье, но кажется неверной сама постановка вопроса. Кроме того, отсутствуют данные, которые показывали бы, что старшие женщины переставали принимать участие в производстве. Скорее, факты свидетельствуют о том, что, пока позволяли силы, старшие женщины работали наряду с молодыми. В этой связи обратимся к фотографии в книге, упомянутой выше396. На ней изображена группа женщин, собирающая клубнеплоды около залива Блу-Мад в восточном Арнемленде. Несколько женщин повернулись к объективу так, что можно рассмотреть их грудь. Форма груди у женщины-аборигенки — прекрасный показатель того, сколько детей она выкормила, а значит, и точный показатель ее возраста. По этой фотографии можно определить, что две женщины — это молодые девушки, только достигшие половой зрелости или немного моложе, которые еще не кормили ребенка грудью, одной женщине немного более 20 лет, двум, вероятно, лет 25—30, причем одна из них явно беременна, еще одной около 40 лет, а самая старшая уже, очевидно, достигла периода менопаузы. Эта, как можно предположить, случайно выбранная группа женщин не очень отклоняется от женской возрастной пирамиды, и поэтому ее можно рассматривать как хорошее свидетельство в пользу того, что женщины всех возрастов участвовали в производственном процессе397. Хотя, как мы только что увидели, факты свидетельствуют о том, что старшие женщины не уклонялись от трудового процесса, мы почти не располагаем данными, показывающими, в каком возрасте женщина достигала наибольшей продуктивности труда как собирательница. Первоначально предполагалось — исходя из основных представлений о распределении растительной пищи,— что это определялось преимущественно физическо-физио-логическими факторами, которые, очевидно, в значительной степени обусловливали также пик наибольшей продуктивности мужчины как охотника. Используя это доказательство по аналогии между полами, мною (см. выше) было принято, что и женщина достигает наибольшей экономической активности около 26 лет377 . Подобный способ аргументации, вероятно, можно считать необоснованным, поскольку есть данные, показывающие, что существовало заметное расхождение между периодом, когда женщина была наиболее продуктивна в биологическом плане, и периодом, когда ее хозяйственная деятельность достигала наивысшего подъема. Как велико было это расхождение при традиционном образе жизни, невозможно сказать, но можно утверждать, что эти два периода не совпадали — как я предполагал вначале — и, возможно, даже частично не покрывали друг друга. Женщины, уже достигшие менопаузы и не имеющие своих грудных или маленьких детей, обычно продолжали помогать присматривать за малышами другим — молодым — женам своего мужа. Зарождающееся общественное разделение труда Классическое определение первых трех крупных общественных разделений труда следующее: 1) когда «пастушеские племена выделились из остальной массы варваров»398, 2) отделение ремесла от земледелия399, и 3) выделение группы людей, которые не участвуют в производстве, но занимаются только обменом продуктов — купцов или торговцев400. Ясно, что классическое определение этих трех крупных общественных разделений труда подразумевает, что они произошли или приближались к завершению в раннеклассовом обществе или при переходе к нему. Очевидно, что социально-экономическое положение в Австралии не достигло этой стадии развития. Но тем не менее важно проследить зарождение этих форм разделения труда, отмеченных Ф. Энгельсом, и степень их развития в Австралии. «Ж ивотноводство» Что касается приручения и разведения животных, то в хозяйстве аборигенов, живущих в Австралии (но не на Тасмании), значительную роль играла лишь собака динго. Обычно щенков брали у диких собак, живущих в буше, и приносили в стойбище. Сначала аборигенки выкармливали щенков грудью, позднее их обучали как охотничьих собак401. Обычно считают, что аборигены не разводили прирученных динго, но есть данные, показывающие, что так бывало не всегда402, хотя разведение носило случайный характер. Э. Эйльман403 также писал, что диких собак динго использовали в пищу «все племена», хотя это кажется преувеличением. В то же время он прибавлял, что прирученных динго не ели. В некоторых районах Океании собак разводили для получения мяса, но, хотя аборигены ели динго и предприняли первые шаги по их разведению, им, несомненно, потребовалось бы еще долгое время, пока мясо прирученных динго начало бы играть значительную роль в хозяйстве. В завершение этого короткого раздела о «животноводстве» и первом общественном разделении труда необходимо хотя бы упомянуть о «сельском хозяйстве с горящей головней», которое изображается как «зарождающееся животноводство»; о нем мы уже говорили ранее404. «Земледелие» Для полноты картины надо отметить, что в прибрежных районах северной Австралии произрастало несколько родов растений, фактически несколько видов, аналогичных растениям, культивируемым в Малайском архипелаге и употребляемым там в пищу. Австралийские аборигены, однако, культивацией этих растений не занимались. Д. Малвэни405 писал, что в бассейне реки Дарлинг существовали все предпосылки для «зарождающегося земледелия». «Ремесло» Если обратиться к «ремеслу», то не вызовет сомнений, что вследствие различий между людьми, проявляющихся в их врожденных способностях, сноровке и опыте изготовления предметов, имеющих хозяйственное и обрядовое значение, лишь некоторые мужчины и женщины приобретали славу искусных мастеров. Хотя они, вероятно, тратили больше времени на производство своих изделий, чем другие члены общества, вопрос о том, что они могли бы постоянно уклоняться от участия в общем трудовом процессе или работать за «плату», даже не возникал. Однако они обычно получали подарки в виде пищи или других предметов за свою работу. Часто такие мастера изготовляли вещи, предназначенные специально для обмена. Долбленая лодка, техника изготовления которой была заимствована аборигенами Арнемленда у макасса-ров, занимавшихся ловлей трепанга в этих местах, вызвала к жизни хорошо известную группу мастеров. Д. Томсон406 писал: «Человек либо вынужден самостоятельно изготавливать для себя лодку, а это долгая и трудная работа, требующая недель, а то и месяцев тяжелого напряженного труда, либо он нанимал мастера для выполнения этой работы, в таком случае само собой подразумевалось, что он нес ответственность за организацию работы и «оплачивал» труд». Н. Тиндейл привел некоторые детали изготовления подобных лодок на Грут-Айленде и заметил, что «в распоряжении островитян находится, вероятно, более 25 больших парусных лодок»407, он также назвал «одного из основных мастеров по изготовлению лодок» . В то время когда Н. Тиндейл и Д. Томсон были на Арнемленде (начало 1920-х и середина 1930-х годов соответственно), «плата», конечно, не была «денежной платой». Но все же возникает вопрос — и я не смог бы дать на него категорический ответ,— была ли это в действительности «плата натурой» или, как в других частях Австралии, она в той или иной степени носила характер взаимообмена подарками? Этот вопрос необходимо поставить в свете того, что П. Уорсли писал о влиянии макассаров на хозяйство аборигенов : «...макассары не просто вступали в контакт с аборигенами; они нанимали их (для выполнения различных работ.— Ф. Р.)... Аборигены Арнемленда познакомились таким образом с экономическими отношениями, отличающимися от их присваивающего охотничье-соби-рательского хозяйства, намного раньше других групп коренных жителей Австралии... Кроме того, надо подчеркнуть, что они участвовали в этом труде как наемные рабочие. Этот аспект отношений между аборигенами и макассарами часто замалчивается, поскольку нам обычно говорят, что аборигены получали «подарки» или обменивали трепангов, которых они добывали, как пищу; ...фактически же эти товары представляют собой плату натурой». П. Уорсли не исследовал этот вопрос более глубоко, но нужно учитывать, что аборигены Арнемленда, включая Грут-Айленд, вступили в тесные экономические связи — еще задолго до прибытия европейцев — с неабори-генами, вовлеченными в товарно-денежную экономику410. Как и в хозяйстве в целом, существовало половое разделение труда между мужчинами и женщинами, занимавшимися «ремеслом», причем мужчины, как правило, изготавливали предметы, используемые мужчинами, а женщины — соответственно женщинами. Это никоим образом не исключало сотрудничества между полами в необходимых случаях411. «Торговля» Теперь перейдем к вопросу о «торговле» в Австралии и о том, далеко ли зашло здесь третье общественное разделение труда или оно только начало зарождаться. Часто неспециалисты не отдают себе отчета в том, насколько был развит и организован обмен в Австралии при традиционных условиях. Я не хочу приводить здесь подробные описания этой сферы деятельности, так как их можно найти в других районах412. Одна из проблем, возникающих перед нами при рассмотрении последних отчетов этнографов, состоит в том, чтобы отделить основные экономические элементы от надстройки. В этих отчетах подчеркивается сакральный, или обрядовый, характер обмена у австралийских аборигенов413. Подобное мнение было высказано Дж. Блейни в комментариях к классической работе Д. Томсона414. Он писал415: «Что было движущей силой в цепи отдавания и получения? В этом вопросе Д. Томсон иногда колебался, но в большинстве случаев он настаивал на том, что обмен товаров был по цели своей более социальным, чем экономическим явлением, что он имел большее значение как обряд, чем как форма торговли... Подобное резкое разграничение между социальной и экономической сторонами обмена, между обрядовым обменом и хозяйственным обменом, пожалуй, необоснованно. Между строк описаний живописных обрядов... мы видим, что эта деятельность была ближе к меновой торговле, чем ему казалось». Эти критические замечания не отрицают, конечно, что аборигены обменивались и предметами, имевшими, по существу, религиозную, или сакральную, ценность, и не игравшими непосредственной роли в хозяйственной жизни, или что обмен по форме своей носил обрядовый характер. Р. и К. Берндты дали следующее краткое описание географической структуры обмена416: «Если мы обратимся к любой группе австралийских аборигенов, ведущих традиционный образ жизни, то увидим, что происходит более или менее постоянное движение предметов, причем одни перемещаются в одном направлении, другие — в другом. Эти перемещения происходят по так называемым дорогам или тропам... С точки зрения людей, живущих в каком-либо месте, все дороги обмена сходятся именно здесь, но если мы нанесем на карту те из них, о которых имеем данные, то увидим, что они пересекают весь континент, проходя обычно вдоль рек». Подобно мастерам (исключая, вероятно, тех, что делали долбленные лодки на Арнемленде), люди, занимавшиеся обменом, не исключались из производственного процесса, а значит, не существовало и группы людей, которых можно было бы считать преимущественно «торговцами». Специальные обменные экспедиции предпринимались между двумя географически отдаленными группами, но основные обменные операции происходили, вероятно, когда собирались большие группы людей и проводились обряды. Какие предметы меняли? Продукты меняли редко417, хотя это иногда и происходило41 . Причина, очевидно, заключалась в том, что пищу неудобно было переносить, и, кроме того, ее легко можно было добыть на месте. С хозяйственной точки зрения наиболее важными предметами обмена являлись сырье или орудия производства. Сюда относятся жернова419, камень для инструментов, каменные наконечники, деревянные копья, бумеранги, сумки, используемые женщинами420, и т.д. Не все группы аборигенов имели в своем распоряжении места, где можно было добывать камень, пригодный для изготовления инструментов, и часто такие материалы либо в необработанной форме, либо в виде готовых орудий передавались путем обмена на сотни километров. Упоминания об обмене жерновов и каменных наконечников поднимают вопрос, связанный с историей аборигенов. Оба этих вида изделий были заимствованы или изобретены, вероятно, менее, чем 15—20 тыс. лет назад и по меньшей мере через 20 тыс. лет после переселения аборигенов* в Австралию. Можно задать законный вопрос: была ли развита сеть «обменных» дорог и существовал ли оживленный обмен в тысячелетия, предшествующие появлению жерновов и каменных наконечников? Определенные районы или, скорее, обитающие там группы аборигенов приобретали славу за искусство в изготовлении определенных предметов практического назначения, что и вело к их обмену. Используя материалы Б. Спенсера и Ф. Гиллена, Дж. Блейни привел пример, иллюстрирующий подобный процесс в Центральной Австралии422. Аборигены обменивали и другие предметы, не используемые непосредственно в производстве, но которые тем не менее имели большую практическую ценность. Р. и К. Берндты423 описали интересный случай, когда обменивали небольшие деревянные дощечки, на которых вырезались изображения определенных участков земли. Эта информация — своего рода план местности — представляла ценность для представителей отдаленных локальных групп, посещающих этот район, и обмен подобных дощечек несомненно был направлен на то, чтобы способствовать взаимным посещениям друг друга отдаленными группами. Принято считать, что обмен между группами тасманийцев424 был слабо развит, и неудивительно, что Н. Пломли425 в детальном указателе к дневникам и материалам Дж. А. Робинсона не упоминает о нем. Однако совершенно ясно, что к моменту колонизации Тасмании ее коренные жители во время сезонных переходов перемещались на огромные расстояния и, вероятно, осуществляли в какой-то форме обмен с другими, встречаемыми ими группами, хотя эти формы обмена не были столь развиты, как в Австралии. Заключение, что тасманийцы почти не занимались обменом, могло быть основано на неточных данных, и выводы Р. Джонса, сделанные на основе археологи-ческих материалов, указывают на это . Сам обмен обычно происходил между отдельными людьми: один абориген давал что-нибудь другому и одновременно или несколько позже получал прямо или косвенно что-нибудь от него. В этнографической литературе участников обмена почти всегда изображали состоящими в определенных родственных отношениях в соответствии с классификационной системой родства427. Но соответствует ли это реальному родству между участниками, остается неясным. В противоположность обмену между отдельными людьми групповой обмен достаточно детально описан в литературе428, хотя эта процедура была, очевидно, менее распространена. То, что можно назвать в строгом смысле групповым обменом, состояло в следующем: аборигенам из какой-ли-бо отдаленной локальной группы разрешали на началах взаимности посетить определенное место, принадлежащее другой локальной группе, для добычи сырья, которого не было на их земле. Классическим примером можно назвать посещение аборигенами юго-западного Квинсленда Парачилны в Южной Австралии, чтобы добыть для себя охру. Этот тип обмена, вполне вероятно, мог происходить и на Тасмании. По путям обмена передавались не только предметы, имевшие непосредственную практическую ценность, но также и разнообразные объекты, имевшие обрядовое или религиозное значение429. Новые песни и танцы (и сакральные, и бытовые) переходили от группы к группе по путям обмена. В заключение моих кратких замечаний об обмене у австралийских аборигенов надо сказать о вере аборигенов в то, что культурные герои Времени сновидений проложили эти обменные пути и первые занялись обменом, а также, проходя по ним, создавали окружающую местность. Именно по этим путям передавались обрядовые предметы (например, священные дощечки), принадлежавшие этим героям430. Литература свидетельствует о том, что обмен находился почти исключительно в руках мужчин. Но эта мужская монополия может оказаться скорее мнимой, чем реальной, вследствие того, что а) большинство наблюдателей и составителей отчетов были мужчины и б) большинство предметов, участвовавших в обмене, предназначалось только для мужчин, а не для женщин. Кроме того, надо отметить, что Р. и К. Берндты431 писали и об обмене женскими обрядами, происходившем, вероятно, только между женщинами.
Семья В этой главе будут рассмотрены семья (и брак) у аборигенов при традиционном образе жизни. Структура ее следующая: 1. Несколько общих замечаний. 2. Результаты моих исследований по определению возрастной структуры семьи аборигенов Грут-Айленда в 1941 г. 3. Соотношение этих результатов с аналогичными данными по Австралии в целом. 4. Проблема патрилокальности/патрилинейности в свете моих данных о семье; и 5. Вопрос о том, какие классификационные системы родства существовали у австралийских аборигенов. Общие замечания Пожалуй, излишне доказывать, что в понимании традиционной семьи аборигенов главная трудность, имеющая в конечном счете гносеологический характер, состоит в глубоких различиях между семьей аборигенов и моногамной семьей, привычной этнографу. Применяя обычные для него категории и представления, он неизбежно оказывается в таком же положении, как и А. Хауитт, о котором мы говорили выше432. Теоретические представления о браке и семье в нашем собственном обществе связаны с устойчивостью этих институтов, то есть общепринято, что мужчина женится на женщине примерно его возраста, причем у обоих половая зрелость наступает задолго до женитьбы, и супруги состоят в браке до смерти одного из них. Само собой разумеется, что эта модель в последние десятилетия подвергается некоторым искажениям в связи с увеличением числа разводов. В идеальном виде она представлена в догматах католической церкви. Ключ этой стабильности в том, что возраст супругов приблизительно одинаков, мужчина обычно на 2—3 года старше женщины. Семья и брак в традиционном обществе аборигенов были совершенно иными, и их можно охарактеризовать не как устойчивые, а как изменчивые институты. Причина этого состояла в том, что мужчина получал жену, когда он достигал 30 лет, а то и позже, в то время как женщина переходила жить к своему первому мужу задолго до наступления половой зрелости и была замужем на протяжении всей своей дальнейшей жизни. Логическое следствие этой ситуации, являющееся результатом возрастной пирамиды, заключалось в том, что некоторые мужчины состояли в полигинном браке, а женщины, за исключением последнего периода жизни, обычно были замужем за мужчинами, значительно старшими, чем они сами. Не следует, однако, считать, что большинство семей были непременно полигинными или что жена никогда не могла быть старше мужа433. Несмотря на эти оговорки, я использую выражение «полигинно-геронтократический» при описании типичного австралийского брака (или семьи). Исходя из возрастной пирамиды, мы можем сделать следующее логическое заключение: муж обычно умирал раньше, чем его жена (жены), и, таким образом, она переходила к более молодому человеку, чем умерший муж. В результате этого женщина обычно несколько раз была замужем, причем каждый последующий муж был моложе предыдущего. Напротив, мужчина в конечном счете — если он жил достаточно долго — оказывался состоящим в полигинном браке с несколькими женщинами. Эта ситуация осложнялась широко распространенными «похищениями жен», «обменом женами» и т. д. Такая изменчивость семьи и брака подчинялась определенному социологическому закону, который совершенно не зависел от воли и желаний отдельных лиц и свободно проявлялся в рамках данного общества. Наблюдатели обычно могли видеть только одну определенную картину брачно-семейных отношений, существующих в данном месте в данное время, и, делая своего рода фотоснимок, они оказывались не в состоянии оценить процесс, охватывающий длительный промежуток времени, и еще менее им удавалось постичь закон, управляющий этим процессом. Может показаться удивительным тот факт, что существует несколько превосходных «фотографических снимков», запечатлевших семейно-брачное состояние общества в определенный момент434. Но поскольку процесс»во времени не учитывался, наблюдаемые ситуации истолковывались по большей части совершенно ошибочно. С одной стороны, аборигенам приписывали «групповой брак», с другой стороны, считалось, что брачный союз «продолжался всю жизнь, или по крайней мере долгое время...»435. Неизменно основное внимание уделялось биологической стороне, а экономическим содержанием брака и семьи пренебрегали. Вопрос, имеющий определенное теоретическое значение, который необходимо здесь рассмотреть, состоит в следующем: насколько и как долго могла (и осуществляла это практически) индивидуальная семья, состоящая из мужчины, его жены (жен) и детей, функционировать отдельно и независимо от остального общества? В литературе есть масса данных, показывающих, что в определенное время года, когда пища в каком-либо ограниченном районе была в изобилии, аборигены сходились сюда в большом количестве, в остальное же время эти огромные группы разделялись. Но каков был минимальный размер групп, как соотносились они с семьей? Теперь — фактически со времени окончания второй мировой войны — с вовлечением аборигенов в большей или меньшей степени в товарно-денежную экономику было бы бесполезно собирать данные об индивидуальной семье, живущей и функционирующей независимо от остального общества. Если о таких случаях и сообщается, то это вызывает сомнения, так как нынешним аборигенам свойственны так называемые «поселения на земле предков», состоящие из более или менее оседлых групп, в которые входит ряд семей436. Эти группы имеют мало общего с настоящим традиционным обществом. Если мы хотим получить надежные факты, то их следует искать в отчетах или дневниках путешественников или в сообщениях, относящихся к ранним контактам аборигенов с европейцами. Но и здесь есть осложнение: ведь даже если наблюдатель встречал индивидуальную семью, он ею не очень интересовался, уделяя гораздо большее внимание более крупным группам аборигенов. Вследствие этого путешественник часто не считал нужным записывать в дневник сведения о встречах с небольшими семьями. В лучшем случае отмечался лишь факт такой встречи или сообщалось, что семьи иногда вели самостоятельный образ жизни. С. Уайт437 и Д. Томсон438 приводят подобные факты. Исключением является Г. Базедов439, который опубликовал чрезвычайно ценные данные о ряде случаев , когда индивидуальные семьи действовали как независимые единицы, причем в некоторых примерах он определил возраст и сфотографировал описываемых аборигенов. В одном случае аборигены, сопровождавшие Г. Базедова441, по отпечаткам следов сообщили ему о подобной самостоятельно живущей семье. Рассказ Дж. Моргана442 о жизни У. Бакли в Виктории в этом отношении поразительно расплывчат. В ряде случаев можно было бы заключить (но, к сожалению, без полной уверенности), что У. Бакли встречал индивидуальную, независимо живущую семью. Мы знаем, что и сам У. Бакли жил в течение длительного времени один в изоляции от аборигенов, и, по-видимому, индивидуальная семья тоже могла бы жить подобным образом. Ф. Маккарти443 на основе своего знания литературы придерживался мнения, что семья могла жить самостоятельно. В 1941 г. аборигены Грут-Айленда, за небольшими исключениями, все еще вели традиционный образ жизни, или, иначе говоря, находились на очень ранней стадии контактов с европейцами. Мои материалы о них совершенно конкретны и в каждом случае подкрепляются специальными примерами. Так, полигинная семья аборигена, помеченного в моих материалах под № 159444, вела самостоятельное существование в течение нескольких месяцев, и в это время я ее посещал. Я также встречал случайно аборигена № 185445 с моногамной семьей; они жили в то время отдельно в центральном районе острова. Было известно, что полигинная семья аборигена № 81446 так же жила изолированно в буше, так как, по уверениям других аборигенов, он опасался, что его жен могут украсть. Вполне вероятно, что эта семья действительно жила изолированно, но абсолютно убедительных доказательств этому нет; кроме того, абориген № 81 нередко посещал поселение аборигенов в Умбе-Кумбе, чего не делали аборигены № 159 и 185. Оба эти аборигена со своими семьями обитали довольно далеко от двух центров, где жило белое население острова. Напротив, абориген № 81 жил с семьей всего в 10 км от поселения. Подводя итоги, мы должны сказать, что индивидуальная семья аборигенов могла жить, и при случае жила, независимо от общества иногда на протяжении нескольких месяцев. Возрастная стуктура семьи аборигенов Грут-Айленда в 1941 г. Результаты моих исследований на Грут-Айленде уникальны по двум причинам. Первая состоит в том, что мои выводы касаются общества, которое в момент изучения еще фактически жило при традиционных условиях. Вторая причина связана с тем, что на основе собранных данных о родстве определенный мною первоначально возраст аборигенов старше 8 лет подвергся «корректировке». Эти «уточненные» результаты позволили устранить грубые ошибки, а, кроме того, «уточненные» возраста представителей каждой патрилинейной половины были согласованы между собой. Здесь нет нужды описывать примененный мною метод подобных «корректировок», так как его можно найти в другой работе447, в данном случае нас будут интересовать лишь выводы, полученные на основе этих результатов. Я уже писал, что девочка переходила жить к своему первому мужу и жила с ним постоянно — в отличие от предыдущего периода, когда она лишь изредка навещала его, но в основном жила в группе матери,— в возрасте 8—10 лет. Возрастные данные448 показали, что вне зависимости от возраста женщины (девочки) существовала тенденция, согласно которой она состояла в браке с мужчиной 42 лет. Кроме того, было показано, что максимально эта тенденция проявлялась, когда женщина находилась в 24-летнем возрасте. Вследствие этого в возрасте 42 лет мужчина состоял в браке с несколькими женщинами (то есть в полигинном браке), а женщина в возрасте 24 лет обычно входила в полигинную семью наряду с другими женами своего мужа. Фактически данные, полученные на Грут-Айленде, показали, что все женщины в возрасте 20—27 лет состояли в полигинных браках. Тут же возникает вопрос — почему мы говорим именно о возрасте 24 и 42 лет? Этому имеется материалистическое объяснение. Как уже отмечалось449, в возрасте 24 лет женщина была наиболее обременена уходом за грудными и/или маленькими детьми и особенно нуждалась в помощи других женщин, составляющих коллектив жен ее мужа. Я также первоначально считал, что в 42 года мужчина достигал пика своей экономической продуктивности как охотник, а значит, лучше всего мог обеспечивать большую семью и руководить ею. Но, как мы увидели , оказалось, что мужчина в 42 года уже не был лучшим охотником, хотя, вероятно, именно в этом возрасте наиболее умело руководил семьей. Здесь перед нами раскрывается еще одна важная сторона традиционных отношений, на которую мы сначала не обратили внимания. На Грут-Айленде мужчина 42 лет обычно имел 2 или 3 жены, причем по крайней мере одна из них входила в интересующую нас возрастную группу 20—27 лет. Возможно, он имел и старшую жену, которая как собирательница работала лучше, чем молодая женщина с маленькими детьми, и, таким образом, семья обеспечивалась растительной пищей. Напротив, поступления мясной пищи, которую вследствие разделения труда добывал охотник, не было столь гарантированным, поскольку глава семьи — мужчина 42 лет — уже не являлся лучшим охотником. Как же общество разрешало эту проблему? Частично на этот вопрос отвечает наличие института инициации. Здесь необходимо коротко остановиться на некоторых экономических сторонах инициации на Грут-Айленде451. Когда мальчик расставался с матерью, ему было около 9 лет. Ему не только делали обрезание, но он переходил на попечение старшего мужчины. Они называли друг друга термином ненингья, таким же родственным термином обозначался муж, муж сестры и брат жены. Часто сестра мальчика являлась одной из жен его наставника. Подобно его сестре, обещанной в жены, мальчика часто еще до рождения обещали в ученики старшему мужчине. Так же как и его сестру, мальчика могли «похитить», обменять или «продать», на практике его иногда «делили» между старшими мужчинами. В общественные обязанности наставника входило обучение инициируемого необходимым знаниям и умениям, владение которыми позволяло ему стать полноправным членом общества. Важно подчеркнуть, что так называемое ученичество было по сути своей производственным. Общественная задача инициируемого состояла в овладении знаниями, которые давал ему старший мужчина. По мере этого обучения участие мальчика в производстве все возрастало, контроль же и распределение общественного продукта оставались в руках старших мужчин. Как и в отношениях учитель — ученик в целом, так и в отношениях ненингья подразумевалось, что инициируемый должен строго повиноваться своему руководителю. Конечно, это беспокоило миссионеров, определявших данный институт как «рабство мальчиков». Когда юноша достигал 17—18 лет, а к этому времени он уже вносил существенный вклад в производство, наставник наносил ему на грудь первый рубец и переставал опекать его. Поскольку в любом обществе аборигенов всегда были мальчики, которым предстояло пройти эту первую фазу инициации, постольку не было и недостатка в молодых ненингья, которые должны были пройти курс обучения, а значит, и внести вклад в общественное производство. Хотя формальная сторона этих отношений завершалась с нанесением первого рубца, наблюдалась тенденция, согласно которой молодой неженатый мужчина продолжал сохранять связи с группой бывшего наставника, и, таким образом, он обычно продолжал снабжать пищей семью своего руководителя. К тому моменту, когда юноша формально освобождался из-под опеки наставника, ему, вероятно, обещали в жены девочку, даже если в тот момент она еще не родилась. Эта будущая жена обычно не была дочерью наставника, хотя часто она происходила из семьи, относящейся к той же производственной группе, что и семья этого наставника. Теперь на юношу возлагалась дополнительная обязанность по обеспечению мясом семьи своей будущей жены. В литературе452 это нередко изображается в виде подарков, которые юноша делал своей будущей теще как «плату» за жену. Но здесь надо отметить две особенности. Во-первых, вполне вероятно, что теща была в то время очень молодой женщиной, ровесницей своего будущего зятя, и, во-вторых, приготовление и распределение крупной дичи всегда было прерогативой старших мужчин, а отнюдь не женщин. Если юноше везло, то его будущая жена, обещанная, когда ему было 18 лет, могла родиться уже через год, и в таком случае она переходила жить к нему, когда мужчина достигал 28 лет. Но могло быть и так, что обещанная ему в жены девочка рождалась лет через 10, и мужчина получал жену, когда возраст его подходил к 40 годам. В том, чтобы юноше пообещали в жены девочку, несомненно важную роль играли два фактора: во-первых, учитывалось, как он проявил себя во время инициации, в частности стал ли он хорошим охотником; во-вторых, желание его наставника (или старейшины той локальной группы, к которой принадлежал этот наставник), чтобы юноша помогал обеспечивать мясом его семью. Ценные факты может дать нам рассмотрение отношений ненингья в демографическом плане. По моим данным453, лишь 18 из 128 мужчин находились в возрасте 9—17 лет; а из 90 женщин в этом возрасте были 25. Поскольку во время сбора материалов меня не очень интересовали юноши такого возраста, то не все, кого я фотографировал и опрашивал, были включены в мои табличные данные454. С д[ угой стороны, я занес в таблицу всех встреченных мною женщин вне зависимости от их возраста, так как все они были либо замужем, либо «обещаны» в жены. Следовательно, хотя я смог учесть не всех женщин, живших на острове, для практических расчетов их возрастная стуктура может считаться достаточно представительной в отличие от мужской. Ведь при расчетах я стремился охватить прежде всего женатых мужчин (вероятно, мне удалось учесть и внести в таблицу их более чем на 90%), в то время как неженатые мужчины были учтены с меньшей полнотой455. Исходя из того, что девочки-подростки и девушки 9—17 лет (25 человек) составляли от общего числа женщин (90 человек) приблизительно такой же процент, как и юноши того же возраста по отношению ко всем мужчинам, мы получим, что юношей 9—17 лет должно было быть не 18, а 42. В моих табличных данных учтено 52 женатых мужчины (этим термином я обозначаю мужчину, который живет с женщиной или девочкой старше 9 лет). Таким образом, мы видим, что почти на каждого женатого мужчину, а значит, и почти на каждую семью приходился один мальчик или юноша, проходящий первую ступень инициации. Это, конечно, не значит, что инициируемые распределялись равномерно. На деле все обстояло совершенно иначе. Некоторые женатые мужчины имели несколько подопечных, а другие — ни одного. Это неравномерное распределение объясняется разными причинами. В одних случаях женатый мужчина не получал мальчика-ненингья вследствие факторов демографического характера, другим мужчинам, возможно, он просто не был нужен для помощи в хозяйстве. Очевидно, что решающую роль играла способность мужчины быть наставником и хорошо обучать инициируемого юношу. Полигинные семьи обычно имели по крайней мере одного «прикрепленного» к ним инициируемого. Отсюда можно сделать вывод, что типичная семья на Грут-Айленде, если рассматривать ее как хозяйственную ячейку, состояла из 42-летнего мужчины с двумя (или более) женами, их детьми и инициируемым юношей. Вернемся к вопросу об обеспечении животным белком типичной Грут-Айлендской полигинной семьи. Одним из добытчиков мяса выступал инициируемый юноша, которого практически можно рассматривать как временного члена семьи. Вторым добытчиком являлся уже инициированный, но еще неженатый мужчина, которому была обещана в жены дочь главы семьи. По крайней мере одна из жен в семье была в детородном возрасте, и если она не имела дочерей (моложе 9 лет) в то время, то потенциальному зятю приходилось ждать, пока она родит девочку. Мясо, которое приносили инициируемый юноша и будущий зять (или зятья) главы семьи, вручалось непосредственно ему для приготовления и дележа. Таким образом, поступление животного белка в семью было гарантировано. А это значит, что отец семейства, мужчина 42 лет, хотя сам уже и не был лучшим охотником, находился в расцвете своих возможностей как организатор и распределитель поступающего общественного продукта. Соответствие данных по Грут-Айленду материалам по Австралии в целом Здесь мы можем выделить четыре главные проблемы: — насколько развита полигиния в Австралии? — насколько распространен в Австралии геронтократи-ческий брак (то есть когда старшие мужчины женятся на молодых девочках и женщинах, а вследствие этого старшие женщины — на молодых мужчинах)? — везде ли девочки выходили замуж еще до наступления половой зрелости? и — играла ли первая ступень инициации такую же роль во всей Австралии, как на Грут-Айленде? Мы уже говорили456 о материалах, касающихся полигинии во всей Австралии, и нет нужды вновь подвергать эти данные критическому разбору. Однако следует подчеркнуть, что любое сообщение о наличии или отсутствии полигинии и ее интенсивности надо рассматривать, во-первых, с точки зрения местных исторических условий, характерных для данной группы аборигенов, и, во-вторых, обязательно учитывать, кто именно сделал сообщение. Тогда мы будем иметь возможность оценить его объективность и выяснить, являются ли эти материалы лишь умозаключением или они подкреплены конкретными примерами. Если мы обратимся ко второму вопросу, распространен ли геронтократический брак по всей Австралии,— то мы столкнемся с методологической проблемой. Полигинию и геронтократию можно рассматривать как две независимые переменные величины. Тогда теоретически возможно, например, что молодые аборигены (или, скорее, часть этой возрастной группы, так как, согласно возрастной пирамиде, количество молодых людей значительно превышало количество старших мужчин) состояли в полигинных браках и, таким образом, лишали этого преимущества старших мужчин. Мнение, что эти институты являются двумя независимыми переменными величинами, очевидно, поддерживал Дж. Уайтинг457. С другой стороны, если принять социологический закон, сформулированный мной на основе Грут-Айлендских данных, то мы увидим, что полигиния и геронтократия — по крайней мере на Грут-Айленде, а возможно, и по всей Австралии — это две стороны одной медали, явления, зависимые друг от друга. Существование одного из них влекло за собой другое, и соответственно, где не было одного, не могло быть и другого. Особенно важно не то, что полигиния и геронтократия одинаково были развиты в Австралии, а вытекающий отсюда социологический закон, то есть наличие тенденции (даже если в разных частях Австралии она менялась, и полигиния/геронтократия были развиты в большей или меньшей степени), согласно которой женщина являлась женой мужчины 42 лет, причем эта тенденция достигала максимума, когда женщине было 24 года. Надо думать, что в зависимости от демографической ситуации в том или ином районе эти параметры могли несколько меняться. Но ведь данные, на основе которых я пришел к такому выводу, являются, по-видимому, уникальными458, и в литературе едва ли можно найти подобные материалы459. О геронтократии в сообщениях в лучшем случае говорится, что, во-первых, молодые девушки выходили замуж исключительно за старших мужчин и, во-вторых, что старые женщины могли состоять в браке с мужчиной любого возраста. Поскольку в нашем обществе старые мужчины обычно женаты на старых женщинах, то, когда такой брак встречали у аборигенов, его считали «нормальным» и о нем специально не сообщали. Другое соображение состоит в том, что старших людей любого пола было меньшинство, а значит, брак молодого человека со старшей женщиной мог заключаться не часто, и, вероятно, еще реже такой брак описывался наблюдателями. Так, на Грут-Айленде в 1941 г., хотя и были отмечены случаи, когда жена была старше мужа, не отмечалось ни одного брака очень старой женщины (скажем, 60 лет и более) и молодого человека 20—30 лет. Однако в литературе в нескольких случаях геронтократия описана с достаточной полнотой. Э. Эйльман сделал это, вероятно, лучше всего, так как он совершенно ясно показал, что старая женщина могла выйти замуж и за более старшего и за более молодого, чем она, мужчину. Он писал460: «Во внутренних и, вероятно, в северных прибрежных районах брачные отношения кажутся чрезвычайно странными. Так 18—25-летние мужчины либо совершенно не имеют жен, либо по возрасту жена вполне годится им в бабушки. В то же время самые старшие мужчины, пользуясь наибольшим влиянием в обществе, имеют больше всего жен, среди которых можно встретить как и очень старых женщин, так и девочек-подростков». Э. Карр отмечает следующее461: «Мужчины могут иметь жен, если им удается получить их, обычно после... 18 лет, когда они достигают статуса молодых мужчин. Нередко случается так, что женой 50-летнего мужчины является 8-летняя девочка». И далее462: «Результатом брачных обычаев чернокожих являются совершенно неподходящие в возрастном отношении союзы. Часто можно увидеть старых мужчин с женами-девоч-ками и молодых мужчин, состоящих в браке со старыми вдовами. Как правило, мужчина не может получить жену по крайней мере до 30 лет...» Э. Карр отметил брак молодых мужчин со старыми женщинами, но ничего не сказал о браках старых мужчин со старыми женщинами, а значит, его описание не столь полно, как Э. Эйльмана. Из высказываний Э. Карра, очевидно, следует, что молодой мужчина уже в 18 лет может жениться. Это явно — или по крайней мере частично — противоречит его же замечанию о том, что мужчина обычно женится после 30 лет. На Грут-Айленде в 1941 г. не было ни одного мужчины 18 лет, фактически имевшего жену (мы не говорим здесь о тех, кому жена было только обещана). Самому молодому женатому мужчине (абориген, в моих записях имеющий № 182 ) было 22 года. Он являет собой чрезвычайно интересный и показательный случай. Этот абориген имел даже двух жен (№ 54 и № 55)464, причем это были не старухи, а очень молодые девочки 10 и 8 лет соответственно. Уже в этом возрасте этот абориген выделялся своей сообразительностью, активностью и влиянием в общественных делах. В 1943 г., например, он принял активное участие в улаживании конфликта в результате убийства аборигеном № 154 аборигена № 168465. П. Уорсли также отмечал его участие в общественной жизни в 1952— 1953 гг. В 1978 г., когда ему было около 60 лет, этот абориген все еще активно помогал местному школьному учителю и сам обучал подрастающее поколение истории и обычаям предков466. При традиционных условиях можно было ожидать, что он стал бы лидером, как раньше был Папатумма467, его отец. В свете этого пример аборигена № 182, казалось бы, опрокидывает все мои аргументы относительно полигинии и геронтократии. Но все же в мою защиту говорит то, что данный случай, как и все другие, был использован для статистического анализа, на основе которого мною был сформулирован социологический закон468. Ценность этого примера особенно велика, так как он показывает, какими именно социальными качествами должны были обладать мужчины, которым общество позволяло создавать поли-гинные семейные объединения. В моих данных 1941 г. отмечен еще один случай, когда был женат 22-летний мужчина. Речь идет об аборигене, обозначенном в моих материалах под № 213, имевшем двух жен (№ 66 и 88 ) 469 3 6 и 10 лет соответственно. Снова мы видим, что молодой мужчина состоял в браке с молодой девушкой. Перед нами еще один любопытный пример, но, к сожалению, у меня мало сведений о личности этого аборигена, поскольку в 1941 г. он жил в юго-западной части острова. Данная семья особенно интересна потому, что его жена (№ 66) считалась единственной бесплодной женщиной на острове. Во всех других отношениях эта аборигенка являлась совершенно здоровой. Она была «завещана» аборигену № 213 своим первым мужем470. Это произошло до того, как абориген № 213 получил молодую жену (№ 88). В таких обстоятельствах задачей аборигенки № 66 и являлось стать женой человека, которому предстояло получить молодую жену, нуждавшуюся в обучении и помощи со стороны старшей опытной женщины. В соответствии с этим абориген № 213 и получил вторую жену, которую я в своих записях пометил № 88. Эти два примера, когда в 1941 г. на Грут-Айленде молодые мужчины 22 лет были женаты на молодых девушках, приведены, чтобы подчеркнуть наличие явно противоречивых фактов даже в обществе с развитой геронтократией. Подобные свидетельства (их можно рассматривать как исключения) о других обществах, по которым нет точных данных о наличии или отсутствии геронтократии, могут привести к неверному заключению, что таковая традиционному обществу несвойственна. Для того чтобы получить обоснованное представление о наличии геронтократии в традиционных обществах аборигенов по всей Австралии, необходимо критически осмыслить огромное количество зачастую противоречивых фактов. В другой работе 471 я уже останавливался на этих сложностях, и нет нужды повторять здесь мое исследование данного вопроса. Теперь мы обратимся к третьей проблеме: везде ли в Австралии при традиционном образе жизни молодые девочки выходили замуж еще до наступления половой зрелости? В большинстве обществ аборигенов дело обстояло именно так, и Э. Карр, например, писал472: «В целом брачные обряды неизвестны аборигенам, но говорят, что существует несколько малозначительных обычаев... Девочки выходят замуж в 8—14 лет... Женщины становятся матерями в 15—16 лет». Данная проблема в основном сводится к решению вопроса, до или после наступления половой зрелости девочка переходила жить к своему первому мужу. Этот вопрос был уже рассмотрен выше4 , и здесь мы лишь отметим, что брак девочки до наступления половой зрелости большинство наблюдателей — к ним на первых порах относился и я — считали совершенно «неестественным», и поэтому предполагалось, что девочка по крайней мере должна достичь половой зрелости, прежде чем она перейдет жить к мужчине. Эта ошибка была прямым следствием отношения к браку как по существу к половому союзу мужчины и женщины, характерному для нашего общества. Аборигены при традиционном образе жизни относились к браку совершенно иначе: для них было вполне естественно, что молодая женщина начинала рожать детей сразу вслед за наступлением половой зрелости и неестественно — если бы этого не происходило. Причина женитьбы мужчины на девочке, еще не достигшей половой зрелости, была экономической: девочка входила в коллектив его жен и обучалась у них выполнять возложенные на нее функции, в частности хозяйственные. Институт перехода 8—10-летней девочки на постоянное жительство к значительно старшему мужчине описывался как «брак», причем подразумевалось, что мужчина тут же начинает иметь с ней половые сношения. Это клевета на аборигенов в трех отношениях. Во-первых, считалось, что мужчины-аборигены были чрезвычайно распущены. Во-вторых, полностью игнорировался тот факт, что в годы, предшествующие наступлению половой зрелости, а также в течение нескольких последующих лет жизнь молодой девушки в коллективе жен в основном была периодом обучения. Сообщения в литературе об инициации юношей уделяют мало внимания важной педагогической направленности этого института. Но каждый, кто жил с аборигенами в буше, знает, каким огромным количеством сведений об окружающем мире обладал каждый абориген и умел применять их в соответствующей ситуации. В этом отношении упомянутые выше отчеты — это явная недооценка образовательной стороны инициации. Так же как и изображение перехода девочки до наступления половой зрелости к старшему мужчине лишь для удовлетворения его половых потребностей — это полнейшее пренебрежение того факта, что девушки, как и юноши, нуждались в длительном обучении своим будущим социально-экономическим обязанностям. Это третий аспект клеветы на аборигенов, который подразумевает, что у них была своего рода форма половой дискриминации, при которой женщины рассматривались в основном как объекты противоположного пола и второсортные члены общества, не нуждавшиеся в обучении474. Несомненно, что подобная клевета на аборигенов — это не что иное, как замаскированный расизм. Цифры, приведенные К. Мэддоком475, показывают, что данные, собранные в 1966—1967 гг. в племени питьяндьяра476, живущем у Эрнабеллы и Эмейты, где девушки выходили замуж около 20 лет, совершенно не соответствуют данным по другим группам аборигенов. Я пришел к выводу, что эти цифры не отражают традиционного положения. Причина нашего повторного обращения к данным, собранным в Эрнабелле и Эмейте, состоит в том, что Дж. Лонг477 использовал послевоенные демографические материалы, в том числе и о группах питьяндьяра (в частности, из района Эрейонга) для опровержения моей теории о полигинно-геронтократическом браке. Я уже ответил478 Дж. Лонгу, но здесь хочу подчеркнуть, что все группы питьяндьяра не только на протяжении длительного времени находились в контакте с европейцами (как упомянутая выше группа, живущая в районе Эрнабелла— Эмейта), но, что особенно важно, они утратили традиционный образ жизни, и в частности связь со своей родной землей. Это вызвано тем, что еще до второй мировой войны питьяндьяра перебрались в район нынешнего расселения, где раньше жили другие группы аборигенов, почти полностью вымершие в результате контактов с европейцами479. Теперь мы переходим к четвертой, последней проблеме: во всей ли Австралии первая стадия инициации играла такую же роль, как на Грут-Айленде? Здесь мы только рассмотрим вопрос, насколько механизм или институт наставника/инициируемого был развит для обучения последнего. Данных о том, что руководитель обучал инициируемого практическим общественным и хозяйственным задачам, очень мало. Это понятно, так как обучение по большей части проводилось в буше и наблюдатели редко специально присутствовали при нем, за исключением тех случаев, когда они отправлялись в буш с аборигенами для других целей. Нередко сообщали лишь о том, что М. Меггит назвал «большим обходом»480 инициируемого: он в сопровождении наставника на протяжении 2—3 месяцев посещал различные группы и приглашал инициированных мужчин присутствовать на обряде обрезания. В течение этого времени наставник обучал инициируемого либо практически либо теоретически, рассказывая мифы о животных и местах, где юноше предстояло охотиться. Этот «большой обход» обычно описывают как преддверие обрядов инициации, но ясно, что он играл педагогическую роль, несомненно являясь лишь частью (фактически относительно небольшой частью) обучения, которое инициируемый проходил под руководством наставника. В последние годы интерес этнографов в основном привлекает обрядовая сторона инициации, а на то, как происходил процесс обучения инициируемого практическим задачам, почти не обращают внимания. Вероятно, это связано с тем, что педагогическая сторона отношений между наставником и инициируемым ушла в прошлое, поскольку разнообразные навыки общения с окружающей средой ныне для аборигенов не имеют прежнего значения. Довольно удивительным оказалось то, что существует огромное количество свидетельств о наличии во многих обществах аборигенов особых отношений между юношей и мужем его сестры. Эти отношения, по аналогии с Грут-Айлендом, можно было бы рассматривать как взаимосвязь между инициируемым и наставником. Подобные факты можно найти в ряде работ481. Но было бы неверно утверждать, что отношения наставник — инициируемый повсеместно проявлялись в форме муж сестры — брат жены (например, ненингья — ненингья на Грут-Айленде) или, точнее говоря, что юношу всегда обучал муж его сестры482. На Грут-Айленде в 1941 г. это была не единственная модель отношений, и мои данные показывают, что юноше часто первый шрам, отмечавший начальный этап инициации, наносил отнюдь не ненингья. В Ангас-Даунс в 1962 г., например, наставником юноши № 120 был абориген № 58, являвшийся братом матери этого юноши483. Патрилинейность / патрилокальность в свете моих данных о семье Классическое представление о семье древнейших Homo sapiens состояло в том, что она была матрилинейной и матрилокальной. Эту концепцию выдвинули эволюционисты середины и третьей четверти XIX в., среди них И. Бахофен и Л. Г. Морган. Аргументация ее являлась вполне обоснованной для уровня науки буржуазного общества XIX века. Допустив, что существовал групповой брак, вполне логично было предположить, что отец ребенка (в биологическом смысле) был неизвестен, в то время как мать всегда можно было определить. Отсюда логически вытекало, что счет происхождения мог вестись только по матери, а не по отцу. Первоначальный счет происхождения, считали эволюционисты, был, следовательно, матри-линейным и предшествовал, по-видимому, патрилинейной стадии. Мы не будем заниматься критическим разбором этой гипотезы, так как большинство марксистов484 пришло к выводу, что ее аргументация не согласуется с данными этнографии, психологии или биологии. То, что гипотеза о предшествовании матрилинейности (матриархата) пат-рилинейности отмирает медленно, показала попытка С. П. Толстова, М. Г. Левина и Н. М. Чебоксарова485 в 1957 г. объяснить преобладание патрилинейности и патри-локальности в Австралии воздействием европейской колонизации на первоначально матрилинейное и матрилокаль-ное общество аборигенов. Вопросом о патрилинейности и патрилокальности у австралийских аборигенов занималась и Ф. Каберри. В отличие от марксистов-теоретиков у нее был огромный опыт полевой работы. Касаясь различных знаний, которыми должны были обладать аборигены — мужчины и женщины — для выполнения своих соответствующих ролей в общественном производстве, она писала486: «Фактически сочетание патрилокального поселения с патрилинейным счетом происхождения в орде доставляет большие трудности именно женщине. Ведь мужчина в основном охотится на кенгуру и валлаби, а для этого он должен уметь выслеживать их и знать рельеф местности. Эти знания он может приобрести за относительно короткий период. Женщине же приходится хорошо знать огромное количество съедобных растений и земли, на которых они произрастают, а значит, ей требуется более длительное время, чтобы освоить новый район». Она писала в заключение: «Если бы экономика была господствующим фактором, то это был бы важный аргумент в защиту матрилокаль-ности». Полностью соглашаясь с тем, что женщине необходимо было иметь глубокие познания об окружающей природе, и в особенности о растительном мире, мы не можем принять того, что мужчине для успешной охоты достаточно было лишь «уметь выслеживать кенгуру и валлаби и знать рельеф местности». Об этом мы уже говорили выше. По существу Ф. Каберри доказывала, что, вступив в брак, женщина покидала район расселения своей собственной патрилинейной локальной группы и переходила в группу мужа, а значит, и знания, которые она получила на своей земле, утрачивали ценность. Ф. Каберри считала, что подобная потеря для женщины имела большее значение, чем могла иметь для мужчины, если бы преобладал матрилокальный брак, при котором мужчина переходил в группу жены. Она отмечала, что на наличие у австралийцев патрил иней нос ти и патрилокальности влияние оказали не экономические причины. Какие именно, она не указывала, но можно заключить, что они состояли в дискриминации женщин со стороны мужчин. Несколько более проницательных этнографов в последние годы обратились к вопросу, поставленному Ф. Каберри, хотя и не предложили решения. Так, Ф. Маккарти писал487: «Самый сложный период приспособления наступает для женщины, когда она, выйдя замуж, покидает свое племя и переходит в группу мужа, в новую для нее местность, которую ей приходится всесторонне изучать». Н. Петерсон488, рассматривая взгляды Ф. Каберри, пришел к выводу, что эта проблема неразрешима. Он писал: «Поскольку в районе Кимберли Ф. Каберри описывает поселение после брака как патрилокальное, то здесь, если она права, должно было бы сказываться действие социологических, а не экологических факторов». Но он не сказал, «права ли она» и в чем заключалось «действие социологических факторов». Очевидно, Н. Петерсон столкнулся с дилеммой и не понял, как мы увидим дальше, что сами предпосылки Ф. Каберри был ошибочны. В связи с обсуждением перехода от матри- к патри-линейному счету происхождения Дж. Мэрдок 9 также обратился к поднятому Ф. Каберри вопросу. Он подошел к данной проблеме, по существу, с позиций земледелия или огородничества, а не охотничье-собирательского хозяйства. Он утверждал, что большинство своих задач женщина выполняла либо в жилище, либо в непосредственной близости от него, и его выводы были противоположны точке зрения Ф. Каберри. Поскольку Дж. Мэрдок применил иной подход, его исследование не опровергает аргументов Ф. Каберри, но и не решает поставленную ею проблему. На наш взгляд, ошибочная предпосылка Ф. Каберри состояла в следующем: она предполагала, что, когда женщина переходила жить на территорию своего мужа, она обладала глубокими знаниями о земле и растительном мире той местности, где жила ее патрилинейная группа, и что эти знания оказывались бесполезными, когда она выходила замуж. Не говоря уже о распространенном во всей Австралии обычае, когда мужчина и его семья могли пользоваться землей локальной группы, к которой принадлежала его жена (жены), надо учитывать тот факт, что девушка переходила жить к своему первому мужу будучи, как мы уже знаем, почти ребенком и, конечно, в то время еще не имела глубоких знаний о земле и растительности своих родных мест. Такие знания она не получала от своей матери490 или от других жен отца. Детальные же познания о земле мужа ей помогали приобрести его жены лишь после того, как, выйдя замуж, девушка переходила жить на территорию мужа. Ясно, что перед нами еще один случай, когда из пред» ставлений, основанных на состоянии нашего собственного общества, делается неверное заключение об обществе аборигенов. Конечно, если бы женщина впервые выходила замуж в 20—24 года, как принято в нашем обществе, то тогда бы аргументы Ф. Каберри имели основания, но они оказываются совершенно несостоятельными, если замуж выходит девочка. Мужчина обычно получал первую жену после 30 лет. К этому времени он же, конечно, в совершенстве знал свою местность и обитающую там дичь. Если бы брак был матрилокальным, то, согласно аргументам Ф. Каберри, эти знания оказались бы бесполезными. Следовательно, мы можем сказать, что патрилокальный брак вопреки взглядам Ф. Каберри объяснялся экономическими, а не социальными причинами. С проблемой, поднятой Ф. Каберри, связано еще одно обстоятельство. Если предположить, что женщина доживала до старости, то она за свою жизнь должна была иметь по меньшей мере четырех мужей. Но вопрос в том, принадлежали ли все ее мужья к одной и той же локальной группе? Если бы они относились к одной группе, то при переходе к новому мужу женщине не приходилось бы заново познавать землю и растительность. Поверхностное, но довольно убедительное доказательство связано с тем, что левират позволял женщине оставаться в той же локальной группе. Однако это лишь теоретическое доказательство, и вопрос о фактическом положении вещей остается открытым! В моих Грут-Айлендских материалах. 1941 г. рассмотрено 67 случаев, когда женщина переходила к другому мужу. Я пытался установить, существовала ли какая-либо взаимосвязь между переходом в другую локальную группу, к которой принадлежал новый муж, и причинами перемены мужа. Можно выделить три главные причины перехода к новому мужу: 1. Похищение или добровольное тайное бегство (на практике эти причины трудно различимы). 2. Смерть мужа. 3. «Покупка» женщины или «получение ее в качестве подарка» (между этими причинами тоже не всегда удается четко провести грань). Результаты моего анализа можно представить в следующей таблице491:
Сразу видно, что главной причиной перемены мужа было похищение или тайное бегство женщин, но важно отметить, что только в половине случаев женщина переходила к мужчине из другой группы. Если первый муж умирал, новый муж чаще всего принадлежал к той же группе, что и его предшественник. Количество случаев перехода к новому мужу в результате «продажи» или «дарения» невелико по сравнению с другими причинами. Примерно в 2/3 случаев из 67 с переменой мужа женщина не переходила в другую локальную группу. В 27% случаев она переходила в другую локальную группу в результате «похищения», а это часто вело к конфликтам, поединкам с копьями и даже к убийствам. Мы уже останавливались на вопросе «похищения» женщин и связанным с этим гомицидом . В приведенной выше таблице особенно важно то, что она показывает количество «краж», когда «похититель» и бывший муж принадлежат к разным локальным группам. В моих данных зарегистрировано только 11 случаев убийства493 (или символического ранения), в которых можно установить принадлежность к той или иной локальной группе убийцы и убитого. Лишь в одном случае оба они принадлежали к одной группе494, да и то это было убийство в результате несчастного случая . На основе этих данных можно заключить, что социальной нормой считалось такое положение, когда женщина оставалась женой мужчин, принадлежащих к одной и той же локальной группе, и, таким образом, при переходе к новому мужу ее знания об окружающей местности не оказывались бесполезными. Когда же эти нормы нарушались, общество мстило нарушителям. Это еще раз указывает на тот факт, что, хотя гомицид был чаще всего следствием похищения женщин, он не являлся убийством из ревности, так как женщины выступали здесь не объектами противоположного пола, а экономическими субъектами — единицами основной производительной силы. Классификационные системы родства у австралийских аборигенов В этой пятой и последней части данной главы, посвященной семье, мы обратимся к вопросу о классификационных системах родства и их содержании — то есть к тому, что они выражают. Надо подчеркнуть, что затрагиваемые здесь вопросы касаются только австралийских систем родства, и я не ставлю своей целью более широкое исследование данной проблемы. Вполне возможно, однако, что существует соответствие между системами родства австралийцев и других народов. Поскольку так называемые племена аборигенов, по существу эндогамные, были невелики (а те части племен, внутри которых преимущественно проходило скрещивание,— еще меньше), то каждый член племени приходился кровным родственником всем остальным членам. Демографическая модель показала бы, что кровное родство между двумя аборигенами было не очень отдаленным в генеалогическом плане. Кроме того, родство связывало аборигенов не только по одной линии. Каждый член племени, вернее, каждый взрослый абориген знал всех остальных членов своего племени. Отсюда можно сделать логическое заключение, что терминология родства, которую использовали аборигены, выражала кровное родство, и что классификационные термины родства представляли собой своего рода кодификацию этого кровного родства. Это вполне логичное заключение, но оно было основано на допущении, что, подобно нам, аборигены фактически представляли себе систему родства, и в частности терминологию родства, как действительное (или в некоторых случаях «фиктивное») кровное родство. Об этом допущении почти никогда не говорят. Это, несомненно, вызвано тем, что научное выражение «классификационные системы родства», очевидно, имеет дело с кровным родством. Очевидно, поскольку данное допущение является частью догматического положения, заимствованного у JI. Моргана. Хотя это и очевидно, это отнюдь не верно496. Именно исходя из такого допущения А. Радклиф-Браун и другие авторы строили свои модели родства и создавали жесткие схемы родственных связей. На такой же основе и У. Уорнер построил схему системы родства в племени мурнгин. Считается, что одна из главных функций, если не самая главная, австралийских систем родства состояла в определении, кому с кем полагается вступать в брак. Это можно было выразить совершенно точно в родственных терминах. Например, в соответствии с представлениями А. Радклифа-Брауна о так называемой системе родства типа аранда мужчина женился на дочери дочери брата матери своей матери (ДДБММ). Если в обществе с такой же системой родства, как у аранда, мужчина женился не на ДДБММ, то такой брак считался исключением497. Довольно типичную точку зрения высказал А. Ен-гоян498: «Определение супруга (и) основывается на отношениях родства»* Однако он определил это таким дополнением: «...Браки основывались на родстве и территориальности». Возникает вопрос: если они основывались на родстве (то есть кровном родстве), как они могли быть связаны и с территориальностью? Разве это не противоречие? Но проницательные наблюдатели, такие, как Б. Спенсер, ф. Гиллен и А. Элькин, часто отмечали, что принадлежность к локальной группе действительно играла роль при определении потенциальных женихов и невест, хотя и неясно, каким именно образом499. Весь мой опыт работы с австралийскими системами родства был связан либо с практическими задачами, которые чаще всего удавалось разрешить, либо с теоретическими и методологическими проблемами, которые сами собой не приводили к убедительному и легкому решению. Работа в Бруме (Западная Австралия) в 1939—1941 гг. показала неадекватность применения общепринятого генеалогического метода при записи и анализе данных о родстве500. Вследствие этого в 1941 г. я применил на Грут-Айленде новый метод, при котором собираемые данные могли подвергаться проверке, что было, в сущности, невозможно при использовании генеалогического метода. Но данные о родстве, собранные в 1941 г., не позволили провести какую-либо систематизацию, как я надеялся, и, более того, показали абсурдность попыток втиснуть австралийские системы родства в прокрустово ложе типов таких систем, предложенных А. Радклифом-Брауном и другими исследователями. Положение осложнялось тем, что выяснился уже отмеченный выше необычный характер семьи аборигенов, в частности тот факт, что женщина (как и мужчина) на протяжении жизни вступает не в один брак, а по меньшей мере в четыре. Эти браки, кроме того, происходят не по прихоти отдельных лиц — хотя часто в литературе это изображается именно так,— а в результате процессов, определяемых внутренними законами, основанными на возрастной структуре общества. По-видимому, каждый брак был основан на родстве (то есть кровном родстве), но проявлялось это по-разному. После 1960 г. передо мной встала еще одна проблема: как выражалась связь аборигенов с землей — основным средством производства — в их социально-экономической организации, и, в частности, каким образом патрили-нейные землевладеющие локальные группы объединялись в социально-экономическую организацию, и какую роль они играли? Если верить этнографам (хотя в последние годы некоторые из них изменили свою позицию), работающим над австралийскими проблемами, то локальная группа имела только религиозное значение501. Это совершенно не соответствует марксистскому представлению, согласно которому религия является частью общественной надстройки, отражающей (в искаженном виде) экономический базис общества. Но это все же оставляло открытым вопрос: какова была социально-экономическая роль локальных групп и как она выражалась в их организации? Вполне разумно было бы предположить, что поскольку семья, конечно, была основной экономической ячейкой общества аборигенов, то она определяется и объясняется тем или иным образом через принадлежность к локальной группе партнеров по браку. Но мы знаем и принимаем, что брак определялся отношениями кровного родства, хотя то и дело поступают сообщения, что принадлежность к локальной группе также играла некую, по-видимому меньшую, и совершенно не ясную роль. В течение многих лет я стоял перед явно неразрешимой дилеммой и не мог отказаться от ортодоксального взгляда, который я принимал как аксиому, что родственная организация и терминология являются не только решающим и определяющим фактором брака, но и выражают кровное родство. Лишь в 1968 г.502 я предпринял «еретический»503 шаг, заявив, что классификационные системы родства аборигенов выражали не кровное родство, а лишь кодификацию экономических отношений или кодификацию части экономического базиса общества. Это предполагало, что брак — если речь идет об аборигенах — определялся не кровным родством, а в основном экономическими факторами и соображениями и в особенности отношениями между локальными группами, к которым принадлежали вступающие в брак аборигены. Как А. Радклиф-Браун, А. Элькин, так и я в своей предыдущей работе принимали за чистую монету научное выражение «классификационные системы родства». Затем, поскольку, как мы видели, все аборигены в общине были кровными родственниками в конечном счете, можно было необоснованно представлять родственную терминологию и типы именно таким образом. Подобная интерпретация родственной терминологии влекла за собой отмеченные выше противоречия: необходимость объявления некоторых браков «исключительными», чтобы «подогнать» определенный «тип» родственной организации под то, что наблюдалось в действительности, без всякого объяснения этих «исключений». Основное противоречие состояло в том, что на Грут-Айленде (и несомненно, и в других местах) обнаруживались все «типы» родственной организации. Таким образом, можно было относить это общество к любому «типу», просто-напросто игнорируя неподходящие к данному типу случаи и объявляя их «исключением». В 1969 г. Д. Тернер вел на Грут-Айленде полевую работу, изучая четыре локальные группы на острове Бикертон. Он располагал моими опубликованными материалами о племени ваниндильяугва , но, за исключением машинописной копии диссертации П. Уорсли, у Д. Тернера не было ни одной из его неопубликованных работ, в частности генеалогических патрилиниджей каждой локальной группы ваниндильяугва. В своей интерпретации классификационных систем родства на острове Д. Тернер совершенно отказался от общепринятого метода, основанного на кровном родстве, и представил родственную терминологию на основе отношений между четырьмя локальными группами505. Надо подчеркнуть, что Д. Тернер предпринял этот решительный шаг, не будучи знаком с моими взглядами, опубликованными впервые лишь в 1968 г.506 Он был первопроходцем, и я высоко оценил его достижения, имеющие громадное значение507. Однако Чон Си Фат508 писал: «Одна из главных гипотез Д. Тернера, состоявшая в том, что патрилокальные (! — Ф. Р.) группы соответствовали терминологическим классам... должна быть отвергнута». Критика эта по форме в основном была подобна моей критике той установки, что брак определялся кровным родством, то есть что часто приходилось прибегать к тавтологическим по существу объяснениям об «исключениях». Верно, что интерпретация Д. Тернера не обеспечила 100%-ного «соответствия» между терминологией и локальными группами, но тем не менее она была важна как первая попытка приблизиться к раскрытию сути этого вопроса. Не объясняла она, конечно, и «исключений». Хотя Чон Си Фат критикует Д. Тернера, но он убежден в важности локальной группы как существенного — на данном этапе он еще не готов назвать его решающим — детерминанта или коррелята родственной терминологии. В соответствии с этим он собирался использовать математические методы анализа в сочетании с компьютерной оценкой моих данных и неопубликованных материалов о патрилинейных генеалогиях П. Уорсли509. Было бы неразумно предвосхищать результаты этой оценки лишь на основе предварительного сообщения Чон Си Фата. Но его намерение достойно всяческих похвал510. Подводя итоги обсуждения отмеченных выше попыток раскрыть суть австралийской родственной организации (и терминологии), можно сказать следующее: представление о том, что кровное родство служит определяющим фактором, было отвергнуто и вместо этого была предпринята попытка использовать здесь отношения локальных групп. У этой концепции тоже есть некоторые слабые места, поскольку сохраняются «исключения», которые пока еще не могут быть объяснены. Глава 7 Патрилинейная землевладеющая локальная группа. Собственность на землю Э та глава состоит из пяти разделов: 1. Гносеологическая сторона проблемы собственности на землю; 2. Патрилинейная землевладеющая локальная группа; 3. Материалы о существовании таких групп в юго-восточной Австралии; 4. Размер патрилинейной землевладеющей локальной группы; и 5. Пределы или границы земельных владений локальных групп. Гносеологическая сторона проблемы собственности на землю Собственность на землю, основное средство производства у аборигенов, несомненно, является ключевым моментом понимания их производственных отношений. Но именно здесь на концепции полевых исследователей и теоретиков, занимающихся этой проблемой, оказали наибольшее влияние представления их • собственного общества. Так, Дж. Д. Лэнг, влиятельный пресвитерианский священник, чьи симпатии были на стороне аборигенов, писал511 в начале прошлого века из Сиднея в Англию своему другу Ходгкину: «Прими как факт... что у австралийских аборигенов есть представление о собственности на землю в их родной стране и оно фактически не очень отличается от подобных представлений европейцев — владельцев скота и овец. Европейцы во многих случаях без малейших колебаний лишают аборигенов их прав и привязанностей». Путешественники Дж. Грей512 и Э. Эйр513, также питавшие симпатию к аборигенам, приводили слова Дж. Лэнга с одобрением, причем Дж. Грей добавил514: «Земля принадлежит не племенам или группам семей, а отдельным людям; и границы их собственности так четко определены, что каждый туземец знает границы своей земли и может показать различные объекты, по которым они проходят...» И Дж. Грей и Э. Эйр были большими знатоками традиционной жизни аборигенов, и их, как нам теперь кажется, чрезвычайно наивные взгляды объяснялись не недостатком наблюдений, но очевидной неспособностью этих путешественников понять что-либо, лежащее за пределами собственных убеждений и познаний. Представление о том, что у аборигенов была индивидуальная собственность на землю, отмирало медленно: эту точку зрения защищали еще в начале нашего века. Но постепенно, под влиянием более систематических и менее случайных наблюдений жизни аборигенов во второй половине прошлого и начале нынешнего века, стало также складываться не очень ясное понятие об общественной собственности на землю. Но на эту концепцию с самого ее возникновения большое влияние оказали религиозные (тотемические) представления. К тому времени, когда в 1930-е и в особенности в послевоенные годы на сцену вышли этнографы с университетскими дипломами, традиционное общество аборигенов фактически разрушилось, и уже невозможно было изучать на практике, как аборигены относятся к земле и используют ее. Религиозные же обряды, являвшиеся частью общественной надстройки, продолжали существовать, и их можно было наблюдать и описывать. В результате этого религиозная сторона связи аборигенов с землей все более и более выступала на первый план. Именно развитие движения аборигенов за право на землю в 1960-х годах стало первым шагом на пути к лучшему пониманию сущности собственности на землю в обществе аборигенов. Вследствие настоятельной политической потребности австралийские федеральные власти вынуждены были заняться изучением этой проблемы, но на данном этапе — лишь на Северной Территории, части Австралийского Союза, непосредственно подчиняющейся федеральному правительству. В 1963 г. в петиции аборигенов йирркала, направленной в федеральный парламент, выражалось требование, чтобы мультинациональная монополия прекратила добычу бокситов на их землях515. В то время федеральное правительство ничего не предприняло для предотвращения разработок. Тогда в 1970 г. йирркала обратились в верховный суд в Дарвине. Они проиграли дело, поскольку оно велось, к большому удовлетворению суда, на основе показаний профессиональных свидетелей — академически подготовленных этнографов,— утверждавших, что отношение аборигенов к земле было, в сущности, религиозным516, а не экономическим. Далее суд определил, что, исходя из нынешнего положения вещей, он не считает себя в достаточной мере компетентным рассматривать дело аборигенов йирркала и, следовательно, не может приказать прекратить горнорудные разработки. Однако вскоре движение аборигенов за право на землю стало важной социально-политической силой. Когда правительство либерально-аграрной коалиции потерпело поражение на парламентских выборах в декабре 1972 г., одной из первых задач нового лейбористского правительства стала организация комиссии по изучению земельных прав аборигенов Северной Территории. То, что в результате деятельности этой комиссии требование о передаче им земли навечно не было удовлетворено, имело большие политические последствия517, однако здесь мы этого вопроса касаться не будем. Для нас важно то, что на Северной Территории впервые в истории Австралии было проведено систематическое исследование традиционного института собственности на землю у аборигенов518. В связи с этим надо обратить внимание на кажущееся противоречие в понимании собственности на землю у австралийских аборигенов — их главное средство производства. Возникает вопрос: какая же группа владеет этой общей собственностью? Коротко — хотя, как мы увидим, недостаточно точно — можно ответить, что эти функции выполняет патрилинейная землевладеющая локальная группа. Но если землей владеет определенная локальная группа и тем самым лишает права владеть этой землей другие группы, то должна возникнуть предпосылка для развития антагонистических отношений между ними519. В литературе можно найти множество свидетельств, показывающих, что антагонистические отношения могли существовать и действительно существовали между локальными группами020, а это в конечном счете вело к гомициду. Отсюда, очевидно, можно логически заключить, что этот потенциальный антагонизм между локальными группами таил в себе зачатки возможного разрушения самого общества. Как же справлялись аборигены с этой вероятной угрозой существования их общества? Ответ лежит в самой природе собственности аборигенов на землю и в том, как они преодолевали эту «исключительность» владения определенным участком земли. Б. Поршнев521 справедливо пишет: «Марксизм учит, что собственность — это не отношение между людьми и вещами, а отношение между людьми». Это раскрывает содержание понятия «собственность», форма же собственности выражается в соответствующих законах или нормах, присущих, например, капиталистическому обществу. Различие между формой и содержанием собственности в некотором роде трудно было уловить522, поскольку нам постоянно внушается, что собственность как нечто, принадлежащее исключительно человеку или группе лиц, является чем-то неприкосновенным и вечным. Но, как мы увидим ниже, именно через изучение содержания собственности (на землю), то есть отношений между людьми и группами лиц — в конечном счете производственными отношениями,— мы можем понять, как аборигенам удавалось разрешать или, по крайней мере в значительной степени, смягчать упомянутое выше скрытое противоречие между локальными группами. Патрилинейная землевладеющая локальная группа В литературе эта группа людей получила различные наименования в зависимости от того, какие особенности ее хотел подчеркнуть тот или иной автор. Обычно ее называют родом (clan), подразумевая — мы говорим только об австралийском материале,— что это объединение родственников, связанных происхождением по одной линии. Часто ее называют патрилинейной или тотемической, если хотят подчеркнуть именно эти аспекты. В более старой литературе эту группу иногда называли gens (родом по мужской линии), снова подчеркивая ее унилинейный характер. В немецкой литературе часто использовали термин “Sippe” (род), но это обозначение не говорит определенно об унилинейности такой группы. Многоаспектный термин, используемый мной, довольно длинный, но он учитывает и патрилинейный характер группы, и то, что она владеет землей, и ограниченность ее пространственного размещения — все, что необходимо выделить. Сокращение же, применяемое мной,— локальная группа — не очень удачно, поскольку оно часто используется в литературе для обозначения той группы, которую я здесь называю производственной, что равнозначно, с некоторыми оговорками, общине, целевой группе (task force) и т. д. Однако я сохраняю принятое сокращение. Я убежден, что, подобно полигинно-геронтократиче-ской семье, патрилинейная землевладеющая локальная группа в Австралии являлась универсальным институтом523. Проводимые с 1972 г. исследования показали, что аборигены Северной Территории, и особенно Арнемленда, в значительной степени сохраняли до второй мировой войны традиционный образ жизни524 и, следовательно, старшие члены общин аоборигенов могут помнить традиционные формы владения и пользования землей и то, как они осуществлялись на практике. Вместе с тем на Северной Территории есть группы аборигенов, чья традиционная территориальная организация была разрушена задолго до второй мировой войны, и о ней сейчас практически никто не помнит, В связи с этим надо отметить, что именно аборигены йирркала в 1963 г. и гуриндьи в Уотти-Крик в 1967 г.— группы, лишь недавно отошедшие от традиционного образа жизни,— фактически перые подняли вопрос о своих земельных правах. Из сказанного выше ясно следующее. Во-первых, сведения, которые мы имеем о традиционном владении землей (или собственности на землю), полученные в результате недавнего систематического изучения, охватывают лишь относительно небольшую часть континента. Во-вторых, получены эти сведения были не в результате непосредственного наблюдения традиционного общества, а от старших членов общин как часть так называемого «воспроизведения культуры по памяти» или путем выведения из других сохранившихся институтов, в особенности обрядов, связанных с землей. Дело аборигенов йирркала потерпело поражение в Верховном суде в 1970 г. в значительной мере потому, что их отношение к земле было изображено как религиозное по природе своей, а не как отношение собственности. Но для марксиста такой аргумент выглядит смехотворно, поскольку теория о соотношении базиса и надстройки учит нас, что религия, являющаяся частью общественной надстройки, возникает на основе экономического базиса общества и что к земле — главному средству производства — должно быть экономическое отношение. Причем оно должно быть таковым даже в том случае, если рассматривамое отношение к земле отличается от нашего собственного и в значительной степени затемнено наложенными на него надстроечными элементами. Марксизм обычно надстроечные элементы объясняет, исходя из функционирования базиса, но в данном случае экономический базис общества аборигенов фактически был разрушен и сохранялся лишь в памяти старших членов общин. Следовательно, для того, чтобы определить, насколько это возможно, в чем заключались традиционные отношения собственности на землю, приходилось изучать отношение к земле социальных групп, выступающее в религиозной форме, в сочетании с воспоминаниями старейших аборигенов. Методологически эта процедура имеет очевидные недостатки и, конечно, может применяться лишь с оговорками. Если мне будет позволено высказать мои критические замечания, то я бы сказал, что существовала тенденция механического применения данных, относящихся к области религии как к материальному объекту изучения. Однако я согласен с. тем, что именно патрилинейная локальная группа — основная землевладеющая единица — играла важную роль не только в обрядах, связанных с землей, но и в регулировании браков и проведении инициаций, то есть в организации деятельности основной производительной силы — человека. Мы в дальнейшем увидим, что эта функция была отнюдь не простой. Чтобы понять сложности владения землей в Арнемленде, мы сначала обратимся к обрядовой стороне, поскольку владение собственностью обычно изображается современными авторами именно в этой связи. Вследствие того, что хозяйственная организация аборигенов была разрушена, этнографы, работавшие в Арнемленде после второй мировой войны, не могли — мы отмечали это выше — наблюдать хозяйство при традиционных условиях, и особенно отношения собственности на землю. Но так как общественная надстройка еще сохранялась, они могли изучать и при помощи соответствующей аппаратуры детально записывать тотемические обряды и обряды, воспроизводящие деяния героев мифов, и в связи с ними одновременно исследовать «отношения собственности». Несомненно, «собственность» в обрядах была тесно переплетена с. владением землею, и трудно было разграничить, где начинается одно и кончается другое. Кроме того, в обоих случаях, как мы увидим, род, то есть патрилинейная землевладеющая локальная группа, играл решающую роль. Отметив взаимосвязь между отношениями собственности и обрядами, мы должны рассмотреть взаимосвязь этих обрядов с землей. Данные об этом были собраны в середине 1930-х годов Д. Томсоном, когда хозяйственный уклад аборигенов восточного Арнемленда еще не подвергся разрушению. К. Мэддок525 дал одно из лучших и наиболее точных описаний взаимосвязи между отношениями собственности и обрядами. Он писал526 о группе аборигенов далабон: «Аборигены далабон... говорят об отношениях между гидьян и дьюнггайн. Удобнее использовать употребляемые аборигенами слова «владелец» и «управляющий» (manager) вместо этих обозначений... При совершении религиозных обрядов — чаще всего исполняются Гунаби-би и Ябудурува — люди изображают на теле специальные символы и исполняют танцы, связанные с. местом, которое культурный герой посетил, проходя по земле их рода. Место проведения обряда символизирует то место, где совершались события мифологического времени, и о танцоре говорят, что он находится именно там, хотя в действительности представление обычно проходит в другом месте. Для ритуальной раскраски тела, исполнения танца и присутствия на определенном месте требуется разрешение «управляющего». Он выбирает место, узор раскраски и наносит его на тело «владельца», определяет, какой танец будет исполняться, а если необходимо, обучает «владельца» и самому танцу. Человек получает права «управляющего» на некое место, а значит, и на связанные с этим нанесение символической раскраски и танцы, если его мать или мать отца принадлежали к роду, на чьей территории расположено это место. Он называет место «мать» или «мать отца». Экзогамия и другие нормы брака не дают возможности человеку принадлежать к тому роду, где он является «управляющим», или принадлежать к той же тотемической группе. Он относится к тотемической группе того рода, с представителями которого его мать или мать его отца вступили в брак. На значение отношений между «владельцем» и «управляющим» указывает следующий факт. Поскольку религиозные обряды должны включать большое количество родовых обрядов, они могут проводиться лишь в том случае, если достаточное количество «управляющих» разрешит их проводить достаточному числу «владельцев». Власть, которой облечены «управляющие», не дает развиться социальной иерархии, так как каждый человек выступает в одном месте как «владелец», в другом — как «управляющий». Таким образом, «владельцы» обрядов Гунабиби являются «управляющими» в обрядах Ябудуру-ва, и наоборот». Теперь мы обратимся к конкретной хозяйственной деятельности и ее связи с землей, принадлежащей роду, например к выжиганию травы для общей охоты. Д. Томсон писал: «Выжиганием травы руководят старшие члены рода528 или те, кто имеет наследственное право, особенно мужчины принадлежащие к другому роду, которые в соответствии с системой родства относятся к родственной группе вакку (сын по отношению к женщинам данного рода и сын сестры — по отношению к мужчинам). Таким образом вакку — это мужчины, для которых данный род выступает в качестве йиндипуло (то есть рода матери.— Ф.Р.). Они обязательно являются членами противоположной (патрилинейной.— Ф. Р.) половины, и несведущему наблюдателю может показаться, что они узурпируют власть и руководят делами рода, к которому сами не принадлежат. Но традиционным для данного района является именно такое положение, когда определенные люди, принадлежащие к половине дуа, проводят обряды для членов определенных родов, принадлежащих к половине йиритья, причем обе эти половины дуа и йиритья находятся в известном родстве между собой. Приведенное выше описание относится к организации большинства общих предприятий, таких, например, как массовый загон рыбы, где в зависимости от местных условий применяются соответствующие приемы. В этих случаях подобная практика считается традиционной, перешедшей по наследству • данному роду от его основателей-предков или тотемических предков. Следовательно, такая практика является особым правом или привилегией членов данного рода. Эти традиционные права обязательно признаются и уважаются другими родами и строго соблюдаются. Любое нарушение их может вызвать карательные меры и даже привести к межродовой кровной мести. Такой порядок вещей хорошо понимают все участники; разногласия и споры почти никогда не возникают, а руководство или власть являются отнюдь не мнимыми. Большинство этих хозяйственных предприятий проходят так гладко, что только исследователь, хорошо разбирающийся в социальной организации, сможет определить, кто же именно руководит ими». Д. Томсон529 приводит и другие примеры, когда «управляющий» — используя выражение К. Мэддока — оказывал решающее влияние на хозяйственную деятельность «владельца». К. Мэддок530, возвращаясь к вопросу о том, что не существовало иерархии между патрилинейными землевладеющими локальными группами (родами), отмечает следующее: «Эта деятельность организована таким образом, что ни один род не является полностью автономным, и ни один полностью не подчиняется чьему-либо господству... все они равны между собой, и ни один не имеет тех прав, которых нет у других. Взаимное равенство является руководящим принципом». К. Мэддок ссылался на обрядовую сферу, но то, что он писал, относится и к владению и к пользованию землей. Отношения собственности на землю локальных групп не были чем-то изолированным — ведь именно таким образом аборигены могли противостоять потенциальной опасности, когда один род (то есть локальная группа) благодаря распространению своего влияния над основными средствами производства мог бы господствовать над другим, а это вело бы в конечном счете к разрушению общества, присущего аборигенам. Из отчета Н. Петерсона531 следует, что для «этнических блоков» Северной Территории (за исключением аборигенов тиви, живущих на островах Мелвилл и Батерст) , для которых собраны соответствующие данные — это фактически информация, получения после второй мировой войны,— в той или иной мере характерны были отношения «управляющий»/«владелец». Что касается тиви, то нет указаний на существование у них подобных отношений532, однако Н. Петерсон писал533: «Система землевладения здесь, вероятно, похожа на ту, что распространена на материке, хотя два этнографических отчета о ней несколько отличаются». Интересен пример племени аранда. Эти аборигены подвергались воздействию европейцев с конца 1860-х годов, когда здесь начали разводить скот. Но решающую роль сыграла Германнсбургская миссия, основанная в 1877 г. Таким образом, к тому времени, когда комиссия, назначенная в 1972 г., побывала в этом районе, аранда подвергались внешнему влиянию уже на протяжении столетия. Вследствие этого: «Во время посещения комиссии стало ясно, что младшее поколение связывает себя лишь с районом расселения аранда в целом, а не с отдельными земельными участками внутри него». И дальше: «Принадлежащие роду земли детально знают только старики». Тем не менее Н. Петерсон534 сообщал следующее: «Система землевладения (у аранда.— Ф. Р.)... была очень близка к системе у племени валпири, причем большую роль играл «управляющий», которого они называли специальным термином». Н. Петерсон пришел к этому заключению на основе работ Т. Стрелова535. Т. Стрелов умер в 1978 г. Он родился в 1908 г. в миссии Германнсбург, которую с 1894 г. возглавлял его отец, Карл Штрелов. Т. Стрелов изучил язык аранда так же хорошо, как английский и немецкий, на которых говорили в семье. Поэтому в отличие от других австралийских этнографов он мог вести свои полевые исследования полностью на языке аборигенов. Важность этого трудно переоценить, поскольку он мог использовать старейших членов племени в качестве информантов без всякого языкового барьера. Но надо учитывать, что, когда Т. Стрелов начал свои полевые исследования незадолго до второй мировой войны, аборигены тех мест уже давно не вели традиционный образ жизни536. Достижения Т. Стрелова несомненно были и останутся уникальным вкладом в науку537. Мы обратимся к его материалам несколько ниже, поскольку, как мы увидим, они имеют отношение и к другим районам Австралии, по которым мало данных. Э. Вудвард538 писал о Северной Территории: «Владение землей, по-видимому, всегда наследуется по отцовской линии». О сложностях, возникающих при изучении представлений аборигенов о земле, он писал539: «Далее, некоторые представления аборигенов о землевладении не имеют аналогов в европейском праве. Наиболее важный и широко распространенный институт владения землей, не совпадающий с европейскими узаконениями, состоит в том, что племянник выступает в роли «управляющего» по отношению к земле своего дяди по матери. Везде религиозные обряды данного рода являлись своеобразными «свидетельствами на владение» землей, и их могли проводить только члены данного рода. Такие обряды, однако, не могли выполняться без помощи «управляющих», чья задача состояла в подготовке принадлежностей для проведения данного обряда, ритуальном украшении участников и проведении самого обряда. Нужно было получить разрешение «управляющих» для использования запасов таких местных природных богатств, как охра и кремень; такое же разрешение требовалось получить «владельцам» и для посещения своих священных мест». Прежде чем мы обратимся к вопросу о собственности на землю в других частях Австралии, было бы уместно сделать несколько критических замечаний относительно взглядов тех из этнографов-марксистов540, которые пытаются преуменьшить роль локальной группы и ее собственности на землю, но в то же время подчеркивают хозяйственное значение производственной группы. Сказанное выше о собственности на землю у аборигенов Северной Территории (хотя, конечно, взгляды наблюдателей могут быть в значительной степени идеалистически окрашены541) показывает, что собственность на землю локальной группы отнюдь не «только номинальная» или что функции локальной группы «заключаются в основном в организации семейно-брачных отношений». При современном уровне наших знаний догматическое отношение к определению тех, кто «владеет» — по понятиям английской юриспруденции — определенными участками земли, совершенно неприемлемо. Можно сказать с полной уверенностью, что локальная группа, или составляющие ее линиджи — это по крайней мере один контингент владельцев. «Управляющие»-родствен-ники — другой. Но, как показал М. Гумберт на основе изучения новейших документов — заявок на разработку недр, стенограмм судебных разбирательств и отчетов комиссии по различным заявкам на Северной Территории,— есть основания считать, что в группу «владельцев» входил более широкий круг лиц. М. Гумберт отстаивает ту точку зрения, согласно которой «община» — в том смысле, как она понимается в книге М. Меггита о валбири (1962а),— должна рассматриваться в качестве «владельца» любого участка земли (Gumbert, Marc-Michel. Neither Ju> Производственная группа Т еперь мы подошли к четвертому социально-структурному подразделению, которое играло важнейшую роль как производственная единица и, следовательно, может помочь нам осветить в целом характер производственных отношений у австралийских аборигенов. В данной работе это подразделение названо «производственной группой» (foraging group), чтобы подчеркнуть его роль как главной производственной единицы. В австралийской литературе она получила различные наименования, такие, как «орда», «локальная группа» (не смешивать с понятием «патрилинейная землевладеющая локальная группа», применяемом в данной работе и рассмотренном выше ), «резидентная группа» и «община» (band) — понятие, пришедшее в последние годы из американской литературы632. Мы уже отмечали 633, что, хотя в литературе имеются отдельные упоминания о хранении аборигенами пищи и о первых шагах на пути к производящей экономике, все же практически пищу они постоянно добывали охотой и собирательством. Это предполагало, что члены наблюдаемой группы были вовлечены в такое производство, то есть занимались охотой и/или собирательством каждый день, а при исключительно благоприятных условиях — через каждые несколько дней. Одним из следствий этого являлось то, что любая группа аборигенов, с которой вступал в контакт наблюдатель, вне зависимости от того, чем занимались в данный момент некоторые ее члены (скажем, проводили обряды или отправлялись в далекий район за охрой), всегда выступала в основе своей производственной единицей. В этом отношении австралийские аборигены, возможно, отличаются от других охотников и собирателей634. Иной случай представляли собой индейцы догриб, живущие в северо-западных субарктическитх районах Канады; их изучала Дж. Хелм635. Она описала «целевую группу» и противопоставила ее «региональной общине» ; предполагалось, что обе группы можно встретить на определенной территории и что «региональная община» не являлась производительной единицей. Вот как описывает она «целевую группу»637: «Целевая группа — это прежде всего объединение людей, использующих определенные природные богатства, доступные в то или иное время года, обычно в каком-либо месте или вдоль какого-либо направления на земле региональной общины. Координируется ли ее деятельность и делятся ли добытые ею богатства, зависит от задач, стоящих перед такой целевой группой... Характерной чертой этой группы является то, что она функционирует не более нескольких недель. Социальный состав целевой группы может либо базироваться на основной социальной ячейке — семье, состоящей из родителей с детьми,— либо эта группа может состоять из одних мужчин. Очевидно, такая группа создается на основе родственных связей, но есть данные о том, что определенную роль здесь играют дружеские и прочие отношения. Размер и поло-возрастной состав таких групп меняются и в значительной степени зависят от продукта, на добычу которого направлены ее усилия...» Производственная группа аборигенов не только играла роль производственной единицы, но являлась той ячейкой общества, внутри которой происходило распределение продуктов. Часто можно прочитать в литературе, что абориген был обязан обеспечивать пищей определенных родственников, например своих будущих тестя и тещу, которые со временем должны были дать ему жену. Но производственные группы обычно жили на расстоянии многих километров друг от друга. Очевидно, что, если упомянутые родственники не были в той же группе, в которой жил их будущий зять, понятно, они ничего не получали, поскольку пища, добытая аборигеном, распределялась между членами той производственной группы, к которой он в данный момент принадлежал. В литературе можно найти много описаний групп аборигенов — а это были, безусловно, производственные группы,— основанные на конкретных наблюдениях, в отличие от абстрактных размышлений о патрилинейной землевладеющей локальной группе. Но почти всегда основной хозяйственной ролью наблюдаемых групп пренебрегали — брались в расчет другие стороны ее деятельности, интересовавшие исследователя638, такие, как обряды, проводимые, например, частью ее членов. Соображения Дж. Барнса639, приведенные выше,, несомненно, сыграли определенную роль в этом отношении. Таким образом, данные, которыми мы располагаем о производственной группе и ее функциях в традиционных производственных отношениях, редко носят конкретный характер и обычно выражаются общими словами; поэтому существует опасность, что эти данные скорее являются мнением исследователя, чем выводами, основанными на фактах. В последние годы возникла еще одна незаметная на первый взгляд опасность. Многие современные полевые исследователи осознают несоответствие информации, которой мы располагаем о традиционном положении, и, чтобы преодолеть этот недостаток, они прилагают значительные усилиг для сбора данных у так называемых групп, «возвратившихся на землю предков», будучи убежденными в том, что данные, на основе которых они делают свои выводы, соответствуют традиционному положению. Конечно, ничто не может быть так далеко от истины, как это положение, поскольку общину, вовлеченную в товарно-денежную экономику, немыслимо приравнять к подлинному традиционному охотничье-собирательскому хозяйству640. Основные отношения и характерные черты производственной группы, которые интересуют нас, следующие: 1) ее отношение к патрилинейной землевладеющей локальной группе, а значит, и ее отношение к земле; 2) отношение производственной группы к составляющим ее семьям; 3) величина и состав производстенной группы; 4) стабильность производственной группы во времени и связанный с этим вопрос об оседлости; 5) производственное деление этой группы в соответствии с естественным разделением труда и 6) факторы, определяющие распределение продуктов труда между членами производственной группы. Рассмотрим эти вопросы по порядку. Отношение производственной группы к локальной группе и к земле Трудно переоценить тот факт, что производственная группа являлась производственной единицей, а следовательно, пользователем земли. Но она не выступала владельцем этой земли в качестве группы. Это, конечно, не исключает возможность того, что некоторые члены производственной группы в действительности являлись «владельцами» (или «управляющими») той земли, которую производственная группа использовала в данный момент. Но эти люди были «владельцами» (или «управляющими») не в силу своего членства в производственной группе, а благодаря принадлежности к определенным локальным группам. У. Уорнер641 писал: «Владение землей включает пользование ею, но никому не приходит в голову запретить членам другого рода (то есть локальной группы.— Ф. Р.) пользоваться этой землей; скорее при дружественных отношениях между двумя группами поощрялась взаимопомощь». Само по себе это было верно, но к этому надо добавить определенные ограничения на пользование землей, связанные с отношениями между «владельцем» и «управляющим»642. Так, сама производственная группа не имела права заниматься выжиганием растительности при общих охотах. Это оставалось в ведении «управляющих» и «владельцев». Я не собираюсь здесь снова полемизировать с концепцией А. Радклифа-Брауна о локальной организации643 и ее современных вариантах в изложении Дж. Бердселла. Отмечу лишь, что эта ошибочная концепция, по-видимому, была связана с неспособностью провести разграничение между использованием земли и владением ею. Отношение производственной группы к составляющим ее семьям Конечно, не существовало тенденции, при которой мужчины — главы семейств, входящих в производственную группу, обязательно должны были принадлежать к той локальной группе, на чьей земле функционировала эта производственная группа. С учетом этого можно заключить на основе имеющихся в нашем распоряжении данных, что вхождение той или иной семьи в производственную группу обусловливалось «спонтанными» факторами, подобными отмеченным Дж. Хелм при образовании целевых групп, то есть родственными связями, дружбой и, возможно, способностями. Иными словами, семейный состав производственных групп был довольно случайным. К. Мэддок644, используя данные У. Шапиро645, выступил против этой точки зрения, указав, что в четырех рассматриваемых «резидентных группах» (сравни «производственные группы») был «главный род» (то есть «главная» локальная группа) и «главные мужчины». Такое положение при преобладании полигинно-геронтократической семьи могло вести к самоподдержанию резидентной группы. Это продуктивная гипотеза, наводящая на размышления; мои возражения против нее связаны с тем, что данные, на которых она основывается, были собраны после второй мировой войны, когда «резидентная группа» фактически перешла к оседлому образу жизни, а традиционное хозяйство в значительной степени подверглось разрушению. Однако, надо согласиться, что, хотя члены таких «резидентных групп» были втянуты в товарно-денежную экономику, они как целое все еще оставались производящей и распределяющей группой, каковой прежде, при традиционных условиях, являлась «производственная группа». Как отметил К. Мэддок, данные У. Шапиро имели один существенный недостаток — в них игнорировались дети в этих «резидентных группах», а рассматривались только взрослые. Тем не менее гипотезу К. Мэддока можно было бы все же проверить на других «резидентных группах», но, естественно, уже не живущих при традиционных условиях. Серьезным испытанием, очевидно, была бы проверка с применением этой гипотезы к традиционному обществу. Но, конечно, таких данных фактически нет, и единственный аналогичный пример такого общества, известный мне,— это производственная группа на Грут-Айленде в 1941 г., которая будет описана ниже в этой главе. Размер и состав производственной группы Размер производственной группы менялся в значительной степени в соответствии с временем года и в особенности в зависимости от наличия пищевых ресурсов и от их концентрированного или рассеянного на большой территории расположения. В центральной Австралии определяющим фактором, возможно более важным, чем пища, являлось наличие воды646, от количества которой зависела численность людей, имеющих возможность объединиться. В северной Австралии, подверженной юго-восточным пассатам и северо-западным муссонам, аборигены обычно расходились небольшими семьями во время сухого сезона, а летом опять собирались в большие группы. Д. Томсон647 отметил, что в северо-восточном Арнемленде численность населения почти оседлых стойбищ влажного периода могла превышать сотню человек. Это, по-видимому, охватывало период с января по март. Он писал648 далее: «Тот факт, что нгату (плод цикадной пальмы.— Ф. Р.) созревает в изобилии, придает ему в хозяйстве аборигенов особую ценность, поскольку дает возможность женщинам прокормить сотни людей, собирающихся для совершения обрядов на стоянках на несколько недель, а то и месяцев,— других местных ресурсов для прокормления таких групп было бы недостаточно». Плоды цикадной пальмы созревают в сентябре649 и, согласно Дж. Голсону650, употребляются в пищу с «конца сухого периода» до «начала влажного», то есть с сентября до декабря. С учетом этого ясно, что два совершенно независимых фактора способствовали объединению аборигенов Арнемленда в большие производственные группы: во-первых, изобилие плодов цикадной пальмы, особенно в конце сухого сезона, и, во-вторых, сильные дожди во время влажного сезона, препятствующие передвижениям. На Г рут-Айленде мне не приходилось встречать производственные группы, в которые входило бы более пяти, в крайнем случае шести, женатых мужчин с семьями; численность всех членов таких групп — мужчин, женщин, детей — составляла 40—50 человек. Но я посещал стоянки аборигенов зимой в период дисперсии. Н. Тиндейл651 наблюдал, что во время влажного сезона в хижинах, покрытых полосами коры, «укрывалось 30 или более человек», а значит, если такая хижина возводилась не одна, численность этих объединенных групп значительно превышала 40—50 человек. 28 ноября 1938 г. я также видел две или три таких хижины, предназначенных для влажного сезона, но их размер был значительно меньше приводимого Н. Тиндейл ом (10x30 футов), и все вместе они не могли бы вместить более 20—30 аборигенов. Н. Тиндейл652 воспроизвел фотографию, на которой изображено 10 взрослых мужчин. Отсюда можно сделать вывод, что производственная группа насчитывала 40— 60 мужчин, женщин и детей. Н. Тиндейл не указывает, когда была сделана эта фотография. Мы располагаем достоверными сообщениями о размере производственных групп и с противоположной части континента — Тасмании. Это материалы ранних мореплавателей. В то время аборигены вели, конечно, традиционный образ жизни. Средняя численность их производственных групп составляла 40—50 человек653. Д. Малвэни654 приводит данные, относящиеся к разным частям Австралии, о больших объединениях аборигенов, насчитывающих в некоторых случаях несколько сот человек. Но совершенно не ясно, в каких именно приведенных им случаях аборигены еще вели традиционный образ жизни. Дневники и материалы Дж. А. Робинсона о Западной Виктории, несомненно, дают массу количественных данных с точным указанием на время наблюдения, на размер и состав производственных групп. Эти наблюдения были сделаны на ранних стадиях контактов с европейцами. Но и в этих материалах мы не найдем сведений о принадлежности членов производственных групп к той или иной локальной группе. Большинство внимательно изученных мною работ о центральноавстралийских аборигенах655 не посвящены специально интересующему нас вопросу, хотя Г. Базедов и С. А. Уайт приводят некоторые количественные данные о размере производственных групп. Однако в целом можно заключить, что в центральных районах производственные группы были значительно меньше, чем в лучше орошаемых районах Австралии, даже во время проведения обрядов. Теперь рассмотрим состав производственной группы — входящие в нее семьи, неженатые мужчины, дети,— а также принадлежность членов ее к определенным локальным группам. Как уже отмечалось, мне не известно каких-либо данных о традиционном положении производственной группы, аналогичным материалам У. Шапиро, не говоря уже о более полных данных, которые пытался найти К. Мэддок, кроме моих собственных656. Причины этого вполне понятны, ведь, как отмечал Л. Хайэтт657, «этнографы обычно работали на границе (продвижения европейцев.— Е. Г .), но за ней — никогда», а вопрос, который задал К. Мэддок, мог быть поставлен только этнографом. Мои данные относятся к производственной группе658, жившей в районе Лейк-Хьюберт на восточном побережье Грут-Айленда, где в 1941 г. я побывал несколько раз, и где 3—4 раза по разным причинам оставался ночевать. Центром этой производственной группы были три семьи. Первая из них состояла из мужчины, которого для удобства нашего анализа обозначим номером (I)659 в возрасте 64 лет и двух его жен (I) и (II) в возрасте соответственно 56 и 59 лет. Он имел потомство: дочь (III) 13 лет от еще одной жены (к 1941 г. умершей); дочь (IV) 23 лет, также от умершей жены; дочь (V) 10 лет; сына (2) 13 лет; дочь (VI) 10 лет; дочь (VII) 11 лет; сына (3) 20 лет. Жена (I) была матерью детей (V), (2), (VI), а также дочери (VIII) 31 года от другого мужа (к 1941 г. умершего). Жена (II) была матерью детей (VII), (3) и еще двух детей от другого мужа, но здесь они нас не будут интересовать, так как я никогда не встречал их в Лейк-Хьюберт. Вторая семья состояла из мужчины (4) в возрасте 30 лет, имевшего жен (V) и (VIII). От жены (VIII) у него было два сына (5) 2 лет и (6) 4 лет. Третья семья состояла из мужчины (7) 37 лет, женатого на (III), (IV), (VI), (VII) и имевшего еще пятую жену (IX) 40 лет, не жившую в Лейк-Хьюберт. От жены (IV) абориген (7) имел сына (8) 4 лет, а от жены (IX) сына (9) 8 лет. Аборигены (4) и (7) были родными братьями. Аборигенка (IX) не играла никакой роли в деятельности производственной группы в Лейк-Хьюберт, так как она была тяжело больна и вскоре умерла. Надо отметить, что абориген (3) прошел инициацию под руководством (7), недавно завершившуюся; (7) нанес первый шрам на грудь аборигена (3). Юноша (2) проходил инициацию последовательно под руководством трех мужчин. Вторым его наставником был (7), а третьим (4). В 1941 г. (2) еще не завершил прохождение инициации под руководством (4), но к 1948 г. инициация уже была закончена, и (4) нанес первый шрам на грудь аборигена (2). Абориген (1) и его дети (III), (IV), (V), (2), (VI), (VII) и (3) принадлежали к локальной группе А. Его жены (I) и (II) принадлежали к локальной группе В. Аборигенка (VIII) относилась к локальной группе С. Аборигены (4), (5), (6), (7), (8) и (9) относились к локальной группе Д; (IX) была членом группы Е. Используя терминологию К. Мэддока, мы могли бы сказать, что в 1941 г. «главным родом» (то есть «главной локальной группой») был род А и что «главным мужчиной» был абориген (1). Но в 1941 г. он уже был стариком, хотя еще довольно активным; к 1951 г. он умер. Логично, что после смерти (1) «главным родом» должен был бы стать род Д, а аборигены (4) и (7) — «главными мужчинами», причем (7) должен был занять главенствующее положение, так как он был старше своего брата. Возможно, при сохранении традиционного образа жизни после смерти (1) эта производственная группа разделилась бы, так как между (4) и (7) существовало значительное соперничество: даже до 1941 г. они «крали» друг у друга жен и инициируемых юношей . Кроме этих трех основных семей, я встречал в Лейк-Хьюберт несколько раз аборигена (10) 43 лет, однако я не встречал его 28-летнюю жену (X) почти до самого конца моего пребывания661 на Грут-Айленде в 1941 г., да и то только один раз. Эта встреча с аборигенкой (X), вероятно, произошла в Лейк-Хьюберт. Детей с нею не было. Я также встречал в Лейк-Хьюберт аборигена (11) 42 лет и его жену (XI) 47 лет. У них была одна дочь (XII) примерно 1 года. В этой семье также жили девочка (XIII) 3 лет и мальчик (12) 8 лет — дети (XI) от другого мужа, к 1941 г. уже умершего. Часто я встречал в Лейк-Хьюберт неженатого юношу (13) в возрасте 19 лет. Аборигены (10) и (13) принадлежали к локальной группе А; (11), (XII), (XIII) и (12) относились к локальной группе Д, так же как и (X); (XI) была членом группы F. Наличие этих двух семей и неженатого юноши (13) еще больше укрепляли бы «главный род» А в том виде, в каком он существовал в 1941 г., а после смерти «главного мужчины» (1) — «главный род» Д, который должен был бы прийти на смену А. Интересно отметить, что Лейк-Хьюберт находится на территории локальной группы А, а значит, браки аборигенов (4) и (7) носили, по крайней мере временно, матрилокальный характер, браки же (1) и (10)— пат-рилокальный; брак аборигена (11) не был ни патри-, ни матрилокальным. Важно также сказать, что локальная группа Д была самой крупной у ваниндильяугва (и фактически дала название всему «племени»); эта группа состояла из двух, а возможно, и трех отдельных патрили-ниджей (насчитывающих по три поколения). Все члены производственной группы, жившей в Лейк-Хьюберт, принадлежавшие к локальной группе Д — за исключением, вероятно, (11), (XII), (XIII) и (12) —относились к одному и тому же патрилиниджу662. Стабильность производственной группы во времени и проблема оседлости Современные этнографы склонны считать производственные группы устойчивыми во времени организациями или единицами. Фактически группы, которые этнографы ныне могут изучать в полевых условиях, действительно стабильны. Причина состоит в том, что сейчас обычно удается наблюдать лишь группы аборигенов, «вернувшихся на землю предков». Еще с конца второй мировой войны аборигены, даже в наиболее отдаленных частях континента, постепенно были втянуты в товарно-денежную экономику. В результате эти группы все больше и больше начинали зависеть от продукции пищевой промышленности европейцев — муки, риса, сахара и т. д.,— и традиционная роль женщины как собирательницы все более утрачивала свое значение: женщине уже не нужно было искать в буше традиционную пищу, содержащую углеводы. А вследствие этого аборигенам уже не приходилось менять места стоянок — то есть вести традиционную полукочевую жизнь — для получения растительных пищевых продуктов, распределение которых по территории зависело от времени года. Конечно, вовлечение в товарно-денежную экономику оказало не меньшее влияние и на хозяйственную деятельность мужчин, но по-другому. При традиционных условиях мужчина выступал главным поставщиком животного белка. Ясно, что теперь аборигенам стала доступна белковая пища, прошедшая промышленную обработку и попадающая к ним в основном в виде мясных и рыбных консервов. Но по сравнению с промышленно изготовленной углеводосодержащей пищей эти консервы дороги, и до сих пор аборигены получают относительно большое количество мяса в результате охоты на крупных млекопитающих с современным оружием. Применение мелкокалиберной винтовки требует гораздо меньших усилий и мастерства по сравнению с традиционным способом охоты для добычи необходимого количества мясной пищи: после того как сделан значительный расход на покупку винтовки, дальнейшие затраты на патроны невелики. Конечно, я ничего не имею против этнографов, работающих в относительно устойчивых группах, «живущих на земле предков», и, как сказал Дж. Барнс663, такие исследования «стоит предпринимать»664. Но существует незаметная на первый взгляд опасность, когда эти относительно устойчивые «традиционно ориентированные» группы этнографы начинают считать представителями традиционного хозяйства, живущими при традиционных условиях с традиционными производственными отношениями. Ничто не может быть так далеко от истинного положения вещей, как эта точка зрения 665. Прямое отношение к нашему вопросу имеет работа Б. Михэн на Блитс-ривер с аборигенами — собирателями раковин. Она666 писала: «Я надеялась (в 1972 г.— Ф. Р.) записать сохранившиеся данные о стратегии получения средств существования, сопоставимые с археологическими материалами, которые я предполагала получить в том же районе. К моему удивлению и восхищению, по прибытии на место полевой работы я оказалась в полностью функционирующем охотничье-собирательском обществе — то есть увидела феномен, который, по моим предположениям, исчез еще до того, как Ф. Маккарти и М. Макартур проводил свои важные полевые исследования в конце 1940-х годов». Б. Михэн использовала выражение «стратегия получения средств существования», ставшее модным штампом в археологических работах последних лет. Но какой смысл она вкладывает в это выражение? По моему мнению, речь здесь идет о производственных отношениях внутри определенной группы, по-видимому, при традиционных условиях. Иными словами, я предполагаю, что Б. Михэн намеревалась получить «сохранившиеся данные» о традиционных производственных отношениях в изучаемой ею группе. Но к ее «восхищению», она обнаружила «полностью функционирующее... общество», а значит и, вероятно, полностью функционирующие традиционные производственные отношения этого общества. Если я излагаю факты правильно, то тогда можно лишь добавить, что, Б. Михэн была введена в заблуждение, как и многие ее читатели. В действительности, перед Б. Михэн было общество, ушедшее от традиционного образа жизни по крайней мере на 25—30 лет, а за это время традиционные производственные отношения полностью разрушились. Чтобы разъяснить мою точку зрения читателю-немарк-систу, необходимо подчеркнуть различие между техникой и методами, используемыми в производстве, с одной стороны, и производственными отношениями (включая отношения распределения) 666А — с другой. Несомненно, Б. Михэн довелось наблюдать и описывать применяемые технику и способы производства (при собирательстве моллюсков). Поскольку эта группа аборигенов только четверть века назад перестала вести традиционный образ жизни, многие ее члены еще помнили технику и способы производства, применяемые в прошлом. Это Б. Михэн записала, и эти данные представляют собою большую научную ценность. Но традиционные производственные отношения она не могла наблюдать и описывать, и предположение, что они все еще существовали «в полностью функционирующем охотничье-со-бирательском обществе», лишь вводит в заблуждение. Б. Михэн ссылается на исследования Ф. Маккарти и М. Макартур667. Конечно, я не хочу умалять здесь важность их пионерской работы. Но надо сказать, что в 1948 г. они уже, подобно самой Б. Михэн в 1972 г., не работали в традиционном обществе с ненарушенными производственными отношениями, которые все еще можно было наблюдать и описывать, Ф. Маккарти и М. Мак-артур никогда не заявляли об этом. Их деятельность была подобна исследованиям, проведенным Б. Михэн через 24 года,— они наблюдали и описывали в количественном выражении определенные аспекты техники и способов производства. Когда в 1941 г. я работал на Грут-Айленде, традиционные производственные отношения там в основном еще не были нарушены. Семь лет спустя, когда там проводили полевые исследования Ф. Маккарти и М. Макартур, традиционные производственные отношения уже фактически разрушились по ряду причин. Я, подобно Ф. Маккарти и М. Макартур, побывал на Грут-Айленде в 1948 г. с американско-австралийской арнемлендской научной экспедицией. В этот приезд прежде всего в глаза бросилось, что практически все аборигены перешли жить в поселение Умба-Кумба или в миссию Нгуругу, отказавшись от характерного для них прежде полукочевого образа жизни. Чтобы проверить это впечатление, я вскоре после нашего приезда в 1948 г. побывал на местах нескольких прежних стоянок недалеко от Умбы-Кумбы. Все они были покинуты, и очевидно, в последнее время ими уже не пользовались. Вскоре после того, как я покинул Грут-Айленд в сентябре 1941 г., собранные мною за предыдущие четыре месяца данные о родстве были использованы Ф. Греем, жившем в поселении Умба-Кумба, и миссией (тогда находившейся в районе Эмеральд-ривер), чтобы сломить традиционную полигинно-геронтократическую семью и ввести моногамный брак668. Вследствие этого моногамия была принята. Позже, в 1960-х годах вновь вошла в употребление полигиния, но в менее развитой форме и без ярко выраженной геронтократии669. Традиционные производственные отношения разрушались также и под влиянием второй мировой войны. В 1941 г. наряду с Перл-Харбором Грут-Айленд стал действующей базой воздушных сил, и аборигенов начали использовать на различных работах. Теперь они получали плату деньгами, а не натурой, как прежде, при работе в поселении и в миссии. Из описаний послевоенных групп аборигенов можно сделать вывод, что эти производственные группы или объединения аборигенов, поселившиеся на земле предков, были оседлыми. Такое впечатление складывается от знакомства с работами К. Мэддока670 (на основе данных У. Шапиро), Н. Петерсона671 и Б. Михэн672. Б. Михэн приводит цифры, показывающие, что средний размер группы анбара из района Блитс-ривер составлял 34 человека, меняясь следующим образом: сентябрь 1972 г.— 31 чел., январь 1973 г,— 30 чел., апрель 1973 г.— 35 чел., май 1973 г.— 37 чел. 673 Археологу очень удобно допустить (и не только в целях эвристики) наличие постоянной оседлости для получения точных ответов на некоторые стоящие перед ним вопросы. Но две характерные черты производственных групп аборигенов при традиционных условиях состояли в том, что, во-первых, их состав был изменчивым и, во-вторых, им совсем не была свойственна постоянная оседлость. Другими словами, аборигены вели полукочевой образ жизни. Обратимся в этой связи вновь к производственной группе, жившей в районе Лейк-Хьюберт. Конечно, ее состав при каждом моем посещении был несколько иным, и, хотя, как уже отмечалось, аборигена (10) я встречал в Лейк-Хьюберт несколько раз, его жену (X) я увидел лишь один раз перед самым моим отъездом с Грут-Айленда в 1941 г., по-видимому, в этом самом районе. С этим последним предположением связан интересный факт: о своем родстве с аборигенкой (X) сообщили лишь аборигены (I), (И), (III), (IV), (V), (VII), (VIII), (XI), (4), (7) и (II)674. Отсюда можно сделать вывод, что (VI), (1), (2) и (3) не присутствовали в тот момент, когда я встретил аборигенку (X). Такое отсутствие кого-либо из членов группы было вполне типичным явлением. Я посещал производственную группу в Лейк-Хьюберт в 1941 г. во время «сухого» периода с июня по сентябрь. Возникает обоснованный вопрос, а что же происходило с этой производственной группой или ее отдельными членами в остальные девять месяцев года? Оставалась ли она в Лейк-Хьюберт на своей базовой стоянке, даже если ее состав менялся, как в «сухой» период? С моей стороны было бы тенденциозным догматизмом утверждать, что эта производственная группа распадалась или, напротив, целиком и полностью переходила в другое место во время «влажного» периода. Однако есть некоторые факты, связанные с материалами, собранными мною в 1938 г., которые, возможно, указывают на то, что «глав- іб* ный» мужчина (1) действительно переходил на север острова во время «влажного» сезона. Вот эти факты: а) Абориген (1) владел или распоряжался долбленой лодкой, и я встречал его на той стороне Литтл Лагун, где была база гидропланов, по крайней мере 2 раза — 20 октября и 3 ноября 1938 г. с лодкой. Этой лодки не было в Лейк-Хьюберт в 1941 г., и, несомненно, она была спрятана в зарослях где-нибудь на северном побережье острова. б) Абориген (7) являлся так называемым «туземным полицейским» во время пребывания белого полицейского на базе гидропланов. Этот полицейский вернулся в Дарвин 12 ноября 1938 г. Задача аборигена (7) в качестве «туземного полицейского» теоретически состояла в том, чтобы не допускать аборигенов в район базы гидропланов, однако надо сказать, что он с ней справлялся плохо. в) 2 декабря 1938 г.— то есть когда полицейский уже покинул остров — Ф. Грей предостерегал аборигена (7), что тому с семьей следует держаться подальше от базы гидропланов. В конце весны и в начале лета, когда вырастала так называемая морская трава, привлекавшая дюгоней, аборигены охотились на них с гарпуном, используя лодки. Происходило это обычно в защищенных водах многочисленных заливов на северном побережье Грут-Айленда. Коса, на которой была построена база для гидропланов, служила аборигенам отправным пунктом при охоте на дюгоней. В июле 1938 г. я нашел наконечник деревянного гарпуна на острове в конце этой косы. Из приведенных выше фактов675 можно заключить, что аборигены (1), (7) и, возможно, (4) со своими семьями, а также, вероятно, (2) и (3) в летние месяцы переходили на северное побережье острова, где молодые мужчины занимались охотой на дюгоней. Надо лишь прибавить, что на дюгоней активно охотились летом 1938—1939 гг. и, по-видимому, летом 1940—1941 гг. Деление производственной группы в сответствии с естественным разделением труда Поскольку охота обычно происходила в буше не в том месте, где сбор растительной пищи, то мужчины неизбежно работали отдельно от женщин676. Возможно, что мужчины и женщины покидали стоянку совместно — либо семьями, либо более крупными группами,— но вскоре обычно расходились, причем детей женщины брали с собой. То есть создавалось положение, когда мужчины и женщины обычно весь день проводили врозь и сходились вновь лишь на стоянке во второй половине дня. Конечно, бывали и исключения, и иногда мужчины могли уйти во второй половине дня на охоту с копьем на крупных сумчатых, которые в жаркие часы прячутся в густых зарослях и выходят щипать траву во время вечерней прохлады. Итак, половое разделение труда происходило в соответствии с той ролью, которую каждый пол играл в производстве, но, как правило, длилось оно не более 12 часов. Из этого общего правила бывали и исключения, когда мужчины и женщины, занятые в производстве, разлучались на значительно больший срок. Классическим примером такого раздельного труда, длившегося несколько дней, можно назвать охоту на гусей в Арафурском болоте в Арнемленде. На основе неопубликованных полевых материалов Д. Томсона Дж. Блейни описал ее и отметил, что охота на этих гусей определяла жизнь аборигенов на целые недели... вынуждая их проводить ночи вдали от женщин и семьи677. Когда я, в сопровождении помогавшего мне аборигена, общался с коренными жителями на различных стоянках на Грут-Айленде в 1941 г., я обычно отмечал время их возвращения на стоянку после полудня. Некоторые аборигены обоих полов бывало оставались в стойбище, и по-видимому, не ходили в буш для охоты и собирательства. Меня обычно просили подождать пока все остальные члены производственной группы вернутся на стоянку во второй половине дня, и потом уже начинать фотографировать и опрашивать их. В этом были свои тактические преимущества, так как я мог раздать табак тем влиятельным старшим мужчинам678, что были в лагере, и, таким образом, заручиться их поддержкой. Это также давало возможность аборигену, помогавшему мне, объяснить, что я собираюсь делать, поэтому, когда вся производственная группа была в сборе, я мог фотографировать и опрашивать аборигенов без всяких препятствий. Хотя естественное разделение труда обычно приводило к регулярному временному разделению производственной группы по половому признаку, а среди мужчин и по возрасту, существовали и другие случаи, не связанные непосредственно с естественным разделением труда, когда взрослые мужчины на несколько дней, а то и недель покидали свою производственную группу. Дж. Лонг679 писал о пинтуби: «Похоже, что мужья и жены довольно часто разделяются на отдельные группы». В качестве иллюстрации Дж. Лонг привел конкретные примеры, когда мужчину — главу семьи сопровождали один или несколько юношей. По-видимому, в этих примерах речь идет о наставниках, отправлявшихся в буш с инициируемыми. Подобные ситуации, связанные с инициацией, отмечались и на Грут-Айленде, когда я был там в 1941 г. Очевидно, что женатые мужчины на Грут-Айленде в 1941 г. (как и в 1938 г.) не очень колебались при посещении туземного поселения в Умба-Кумба (или миссии на Эме-ральд-ривер). Привлекал их, конечно, табак, а не пища, хотя три или четыре аборигена, выполнявшие в Умба-Кумба работу пастуха коз, садовника, повара (абориген из племени баламуму) и подсобного рабочего, получали пищу как часть платы натурой, которая, вероятно, делилась со всеми случайными аборигенами-посетителями. Большинство женщин оставались в буше в то время, как их мужья на несколько дней уходили в Умба-Кумба. Был, однако, один человек680, который беспокоился, что во время его отсутствия принадлежавших ему жен могут «похитить». Но это был особый случай. В 1941 г. ему было 50 лет, он состоял в полигинном браке с 6 женщинами, по крайней мере четырех из них он сам «украл». Тем не менее в 1941 г. он был частым посетителем в Умба-Кумба. В случае с производственной группой из района Лейк-Хьюберт, рассмотренном выше, интересно, что в тот раз, когда я впервые встретил аборигенку (X), женщина (VI) —фактически девочка 10 лет — отсутствовала, хотя ее муж был в группе. Конечно, это могло быть моей ошибкой или опиской, но я сомневаюсь в этом. Эта девочка (VI) была предметом спора между двумя братьями (4) и (7), каждый из них заявлял, что она его жена681. Одна из причин ее отсутствия на стоянке могла состоять в том, что один из братьев увел ее и временно спрятал в буше. С уверенностью можно сказать лишь, что женщины по сравнению с мужчинами редко покидали свою производственную группу на продолжительное время. Факторы, определяющие распределение продукции внутри производственной группы Растительная и другая пища, добываемая женщиной, распределялась только внутри ее семьи, то есть между мужем, его женами и их детьми, живущими с ними. Вопрос состоит в другом: в том, как распределялась добыча мужчин. Сообщения и описания этого несколько противоречивы. А. Хауитт683 занимался этим вопросом и в целом сформулировал в терминах родства правила, по которым проводилось распределение. Н. Тиндейл684 писал о ваниндильяугва, что существуют определенные обычаи раздела пищи, и затем приводил в качестве иллюстрации два конкретных примера, один со съедобными кореньями, а второй с мясом дюгоня. В обоих случаях продукт делил старший мужчина, который сам не принимал участия в его добыче. О том, что родство было решающим фактором при разделе, не сообщалось. В 1941 г. я, к сожалению, не занимался изучением этого вопроса. Но в 1952—1953 гг. П. Уорсли685 сообщал: «Н. Тиндейл пишет, что в прошлом существовали „определенные обычаи раздела пищи“, теперь уже не сохранившиеся. Человек, приносивший пищу на стоянку, отдавал ее для раздела присутствующим старейшинам, но сам ничего не получал. Теперь этот обычай не практикуется, но подобная организация распределения отмечалась и в других частях Австралии и, по-видимому, была широко распространена». Однако в 1962 г. я изучал распределение мяса кенгуру у аборигенов в Ангас Даунс (центральная Австралия) в основном, чтобы определить, было ли связано фактическое распределение пищи с родством. В рассмотренных мною случаях не наблюдалось явной связи с родством. С определенностью можно сказать лишь следующее: кенгуру обычно давали старшему мужчине, но готовил кенгуру не обязательно он. После того как кенгуру был приготовлен, его делили особым образом на части и затем распределяли. «Если бы можно было сформулировать правило, по которому распределялось мясо кенгуру, оно состояло бы в том, что мясо должно было достаться возможно большему числу людей, причем больше всего мяса получали те, кто в нем особенно нуждался (включая молодых, но исключая старых людей). Охотник, если это был юноша, еще не прошедший инициацию, вообще не обязательно получал мясо, а если ему что-то доставалось, то это были худшие куски»686. В своих замечаниях о работе Н. Тиндейла П. Уорсли писал о распределении пищи687: «Распределение обычно представляли как средство поддержания геронтократической власти старейшин (или, скорее, зрелых взрослых мужчин, поскольку в действительности старые мужчины обычно не занимали главенствующего положения в руководстве обществом) над молодыми мужчинами. Происходило это потому, что активные молодые мужчины, добывавшие, естественно, большую часть пищи, могли бы в противном случае не просто превзойти старших в производстве, но и попытаться заместить их в руководстве обществом. Вынужденная передача пищи старшим для распределения ее и намеренное отлучение охотника от получения своей собственной добычи представляло способ дисциплинирования его, способствовало власти над ним». Такое же объяснение было дано К. Штреловым. Он выделял обязанность молодых отдавать дичь старшим мужчинам, во-первых, во время различных этапов инициации688 и, во-вторых, во время «службы» для получения жены689. Такой способ аргументации дает объяснение «эксплуатации» молодых старшими мужчинами. Но в свете дискуссии о естественном разделении труда среди мужчин в соответствии с возрастом690, где было показано, что мужчина скорее всего, являлся лучшим охотником в 26 лет или ранее, к этому вопросу о производстве и распределении можно применить и другой в основе своей материалистический подход. Он состоял бы в определении того, насколько отдельная производственная группа являлась жизнеспособной экономической единицей. Давайте еще раз обратимся к производственной группе из района Лейк-Хьюберт, чтобы определить, в какой мере она была жизнеспособной хозяйственной организацией. Полнота требует, чтобы была рассмотрена производственная деятельность как женщин, так и мужчин. Для большей ясности — хотя это будет в некоторой мере повторением — приведем список мужчин и женщин в трех основных семьях, включив в него также неженатого юношу (13) с указанием возрастов этих аборигенов. Укажем также, кто является мужем каждой женщины, а для юношей (2) и (3) — их наставников, которые проводили или должны были проводить инициацию. Здесь мы не будем рассматривать семьи во главе с мужчинами (10) и (11), так как их связь с тремя основными семьями была слабой. Однако этого нельзя сказать о не-
Прежде всего обратимся к хозяйственной деятельности женщин. Если, как доказывалось выше691, женщины участвовали в производстве со времени замужества до старости, тогда в количественном отношении мы имеем 8 работников. Но ясно, что размер их трудового вклада был различным. Допустим, что, согласно общему правилу, женщины собирали пищу только для своей собственной семьи, тогда (I) и (II) должны были обеспечить не только себя, но и своего мужа (1). Это были уже старые женщины, и, хотя они, по-видимому, еще справлялись со своей задачей, можно допустить, что общее правило могло быть нарушено и они могли бы получать пищу для себя и своего мужа и от своих дочерей, живших в той же производственной группе. Женщины, работающие во второй семье во главе с аборигеном (4), были (VIII) и (V). Они должны были обеспечивать растительной пищей не только себя и (4), но и двух маленьких сыновей (5) и (6), причем (VIII) еще, по-види-мому, кормила грудью (5). Эти две женщины также давали собранную ими растительную пищу инициируемому юноше (2). Женщина (VIII), вероятно, уже достигла пика своей производственной деятельности или была близка к его достижению и могла бы в течение ряда лет быть основным добытчиком пищи. С другой стороны, (V) только недавно вошла в эту семью и все еще находилась на первой стадии инициации или обучения, на которой ей предстояло приобрести знания и умения, необходимые для выполнения в дальнейшем хозяйственных обязанностей. Возможно, через 4—5 лет она стала бы вносить значительный вклад в хозяйство. В течение этих 4—5 лет ее обучала бы аборигенка (VIII). Женщины, работавшие в третьей семье во главе с аборигеном (7), были женщины (III), (IV), (VI) и (VII). Они снабжали растительной пищей себя, мужа (7) и детей (8) и (9). Аборигенка (IV) приближалась к наивысшей точке своей продуктивности и могла бы еще ряд лет быть хорошим работником; (III), (VI) и (VII), с другой стороны, находились на этапе обучения и несколько лет еще не могли быть хорошими добытчиками пищи. В течение года (9) должен был покинуть семью для прохождения инициации вне этой производственной группы. Если рассматривать ту часть пищи, которую добывали женщины, то можно сказать, что положение в этих трех семьях было вполне удовлетворительным, причем во второй и третьей семьях будущее казалось обеспеченным. Женщины в первой семье старели, и хозяйственное будущее их семьи, по-видимому, зависело от их дальнейшего объединения в производственной группе с одной или двумя другими семьями. Что касается добычи мужчин в этой производственной группе, то про аборигенов (3) и (13) можно сказать, что они достигли наибольшей продуктивности своего труда и в таком положении могли бы еще находиться лет пять, а возможно и больше. Абориген (2) через некоторое время тоже должен был стать хорошим охотником, быстро приближаясь к пику своих возможностей. Старшие мужчины (1), (4) и (7) этот пик уже миновали. Абориген (1) вследствие своего возраста уже не принимал участия в производстве, хотя надо отметить, что в 1938 г., то есть три года назад, он все еще активно добывал рыбу при помощи гарпуна692. Мужчины (4) и (7)693, по-видимому, вносили значительный вклад в производство, но главными добытчиками уже являлись (3), (13) и (2). Будущее этой производственной группы в плане обеспечения ее белковой пищей, добываемой мужчинами, было в некоторой степени проблематичным. По мере старения (4) и (7) их вклад должен был постепенно снижаться. Хозяйственные способности (2) постоянно возрастали бы, причем в течение по крайней мере четырех ближайших лет до завершения инициации он находился бы в распоряжении этой производственной группы. Хотя (3) уже завершил инициацию под руководством (7), он все еще был связан с этой производственной группой, но можно было ожидать, что в любой момент он перейдет в другую семью (группу), чтобы «служить» для получения «нареченной» жены. Таковы же были перспективы и (2) несколькими годами позже. Итак, как полноценный и активный охотник оставался абориген (13). Совершенно не ясно, почему он был так тесно связан с этой производственной группой, но вполне вероятно, что ему была «обещана» одна из будущих дочерей (4) или (7) от их юных жен, которые должны были достигнуть половой зрелости лишь через 3—4 года. Это, конечно, вынуждало (13) «служить» одной из этих семей. Интересно, что в 1941 г. ему уже «пообещал» 694 жену другой абориген, не связанный с рассматриваемой здесь группой. Это, конечно, не мешало (13) получить «обещание» еще на одну жену и «служить» еще одной семье (группе). Хотя положение этой производственной группы в целом в 1941 г. казалось несколько проблематичным в плане обеспечения ее результатами труда мужчин, фактически потенциальные возможности второй и третьей семей были хорошими. Молодые жены, входящие в каждую из этих семей, по достижении зрелости и вступлению в детородный период дали бы возможность (4) и (7) иметь молодых мужчин, подобных аборигену (13), которые «служили» бы за потенциальных дочерей и сыновей, подлежащих инициации. Перспективы первой семьи во главе с аборигеном (1) были неблагоприятны, поскольку он сам, по-видимому, перестал вносить вклад в производство и дальнейшая жизнеспособность семьи зависела от ее связи с другими семьями в этой производственной группе. Заключение Характерной особенностью способа производства у австралийских аборигенов являлось его единообразие в основе своей по всему континенту. По-видимому, он был мало связан с условиями окружающей среды, которые на такой огромной территории, как Австралия, конечно, варьировали. Так, мы увидели, что собственность на землю была, по существу одинаковой и неизменно определялась отношениями «владелец»/«управляющий» вне зависимости от того, происходило это на тропическом побережье Арнемленда со сменой «влажных» и «сухих» периодов или в местах расселения аранда, приближающихся к условиям пустыни. Такое положение являет собой заметный контраст по сравнению с изменчивостью, обнаруживаемой в других районах мира, например у индейцев Северной Америки или даже только на территории США, равной по площади Австралии. Как же можно объяснить подобное единообразие? На этот вопрос нет простого ответа, но один важный, по моему мнению, фактор состоит в том, что общественное производство здесь не создавало прибавочного продукта, и в результате общественное разделение труда только зарождалось. Несомненно, что решающее значение имело именно отсутствие средств реализации любого созданного прибавочного продукта, ведь в противном случае это могло бы привести к разнообразным вариантам его реализации, таким, скажем, как у папуасов и меланезийцев695. Одна из особенностей подобного отсутствия прибавочного продукта состояла в том, что способ производства сдерживался или ограничивался биологическими факторами. Было бы неверно утверждать, что способ производства определялся биологическими факторами. Само по себе это было бы равносильно отрицанию существования самого способа производства у австралийских аборигенов, тем самым ставя их общество на один уровень с «обществами» некоторых высших животных. В конечном счете — хотя и не будучи определяющими факторами — биологические параметры устанавливали границы размера локальной группы. При численности ниже определенного минимума она бы постоянно подвергалась угрозе вымирания вследствие воздействия случайных демографических факторов. Если же численность локальной группы начинала превышать определенное число, то все труднее становилось управлять использованием ее земельных ресурсов. Особенно затруднялись согласованные действия старейшин, которые в нужный момент могли оказаться в разных местах территории, осваиваемой, по определению Р. Джонса, в течение «годового хозяйственного цикла». Локальная группа состояла из одного, иногда двух, и в крайнем случае — трех патрилиниждей, насчитывающих по три поколения696. Аналогично, размер объединения локальных групп («лингвистического племени») в конечном итоге в значительной степени устанавливался биологическими факторами. Для охоты и собирательства аборигенам нужно было хорошо знать местность, где они будут добывать пищу, и естественно, что их познания ограничивались лишь определенным участком территории. Кроме того, нельзя игнорировать и географические особенности, которые также устанавливали пределы697 объединению локальных групп. Сомнительно, что в течение одного года один абориген мог побывать и пожить на земле всех локальных групп, входящих в его объединение. Но в то же время, несомненно, происходило значительное количество личных контактов, которые вели к определенному единообразию языка или к существованию взаимопонятных диалектов внутри этого объединения. При этих личных контактах развивались социально-экономические отношения между локальными группами, включая брак и инициацию. Традиционные обряды, ритуалы, обычаи аборигенов могут показаться наблюдателю странными, он увидит, что они в значительной степени связаны с плодородием природы и плодовитостью человека, с необходимостью поддержания общества на определенном уровне. М. Мег-гит698 выразил это следующим образом: «(Их космогония.— Ф.Р.) рассматривала человека, общество и природу как взаимосвязанные и взаимодействующие элементы большого функционально интегрированного целого. Согласно верованиям аборигенов, каждая составляющая в этой системе стремилась поддерживать себя для блага других составляющих и тем самым содействовала функционированию системы в целом». Здесь правомерно замечание относительно выражений «плодовитость человека» и «плодородие природы». При использовании этих двух выражений напрашивается вывод, что мы имеем здесь дело с двумя различными и не связанными или по крайней мере слабо связанными явлениями или представлениями. Но на основе гипотезы Фриша о «критической полноте»699 можно убедительно доказать, что в традиционном охотничье-собирательском обществе, подобном преобладавшему в Австралии, была прямая взаимосвязь между плодовитостью человека (то есть женщины) и плодородием природы. При традиционных условиях женщина в период между первой менструацией и наступлением менопаузы обычно была либо беременна, либо кормила ребенка грудью700. Деятельный образ жизни женщины-собирательницы обычно способствовал сокращению полноты ее тела, а кормление ребенка грудью оказывало еще большее влияние на этот процесс, что в совокупности, вероятно, приводило ее к такому состоянию, когда беременность становилась маловероятной. Если это было неблагоприятное время года, то есть природа была малоплодородной, полнота тела женщины еще больше сокращалась и переходила критическую черту, ниже которой беременность уже, по-видимому, невозможна. С другой стороны, в благоприятное время года, когда было много упитанных животных, а также изобиловала растительная углеводосодержащая пища, уровень полноты женщины мог значительно повыситься, даже при кормлении ребенка грудью, и превзойти критическую черту, в результате чего женщина потенциально могла забеременеть. В этой связи интересно отметить, что в сознании самих аборигенов нет четкой черты, которую приводит этнограф между плодовитостью человека и плодородием природы761. Идеологическое содержание необходимости поддержания общества на определенном уровне, в какой бы форме оно ни проявлялось, не так уж странно, как может показаться на первый взгляд, поскольку это конечная цель всех обществ — классовых и бесклассовых. И конечно, мы, в наших «современных» обществах, имеем столько же обычаев, мифов и обрядов, как и аборигены, для достижения этой цели. Общественная надстройка — это одно, а способ производства, на котором она возвышается,— это другое явление. Идеология как часть надстройки одной из своих сторон выражает необходимость поддержания существующего положения, но именно способ производства осуществляет его на практике и проявляется во взаимосвязанных материальных путях достижения этой цели. В предыдущих главах различные производительные силы и производственные отношения рассматривались по отдельности. Это было логически необходимо, но в результате могло создаться впечатление, что каждое явление существует и функционирует независимо от других, хотя с самого начала было ясно, что во многом они накладываются друг на друга. Так, нельзя понять особенности семьи аборигенов без связи ее с локальной группой, инициация теряет смысл вне связи с семьей и так далее. К. Маркс постоянно подчеркивал диалектическое единство производительных сил и производственных отношений в способе производства. В этой заключительной главе мы попытаемся рассмотреть эти явления как единое целое и представить традиционный способ производства у австралийских аборигенов как такое единое явление с рациональным стремлением к поддержанию присущего ему статуса-кво. Индивидуум был прежде всего связан со своей локальной группой. Его отношение к другим локальным группам было противоречивым по следующим причинам. С одной стороны, необходимо было сотрудничество и взаимопомощь, чтобы, во-первых, его группа могла пользоваться землей других групп, то есть их основным средством производства, и, во-вторых, что не менее важно, связи с другими локальными группами были важны для производства не только пищи, но также — в отношении женщин — для воссоздания самой производительной силы — человека. С другой стороны, не существовало централизованной власти на уровне более высоком, чем сама локальная группа; все прочие локальные группы считались «чужаками», чьи дейстия были непредсказуемыми, а потому потенциально опасными — ведь они могли причинить вред той локальной группе, к которой принадлежал абориген. Поскольку авторы ранних работ об аборигенах даже не знали о существовании локальной группы или в лучшем случае имели о ней лишь смутное представление702 и, кроме того, поскольку авторы некоторых современных работ считают, что локальная группа только регулировала заключение браков, ее решающая и разносторонняя роль в производственных отношениях обычно недооценивалась. Что касается браков австралийских аборигенов, то обычно их изображали как прямой или непрямой взаимообмен между локальными группами, например обмен племянницами . К. Леви-Строс пошел дальше, приняв как постулат, что матрилатеральный кросс-кузенный брак обеспечивал максимальное обращение женщин — дефицитного товара в традиционном обществе704. Но слабость этих гипотез состояла в том, что все они рассматривали женщину лишь как объект противоположного пола. В противоположность подобным взглядам здесь выдвинут тезис, что женщина наравне с мужчиной рассматривалась в традиционном обществе аборигенов не только как объект противоположного пола, но и как экономический субъект, как производитель растительной пищи, игравшей большую роль в рационе аборигенов, а также выступала воссоздателем основной производительной силы — мужчин (и женщин). Принятие этого положения дает возможность рассматривать брак и семью в связи, как я полагаю, с другими производственными отношениями. Здесь нет нужды повторять анализ и обсуждение различных социальных групп, институтов и так далее, которые в конкретной форме выражают в себе производственные отношения, достаточно лишь перечислить их: 1) Естественное разделение труда в соответствии с возрастом и полом; 2) семья; 3) локальная группа; 4) объединение локальных групп; 5) производственная группа и связанные с ней производственные (и распределительные) отношения; 6) инициация, то есть обучение и подготовка молодежи, как юношей, так и девушек; 7) собственность на землю, проявляющаяся не как отношение групп людей к главному средству производства, а как отношения между группами, связанные с использованием земли, и 8) институт, в результате действия которого инициированный мужчина «служит» для получения жены, то есть имеет экономческие обязанности по отношению к семье, согласившейся дать ему со временем жену (жен). Чтобы проиллюстрировать гибкую взаимосвязь различных форм производственных отношений, мы снова обратимся к двум семьям во главе с аборигенами (4) и ( 7 )705 прежде всего необходимо отметить, что вскоре после того, как я последний раз встретил их в сентябре 1941 г., (4) «украл» девочку (VI)706 и поселился отдельно от своего брата и семьи тестя. При таком положении вещей в конце сентября 1941 г. наблюдалась следующая ситуация: аборигены (4) X (V) + (VI) + (VIII) возраст 30 10 10 31 аборигены (потомство) (5) (6) возраст 2 4 аборигены (7) X (III) + (IV) + (VII) + [(IX)] возраст 37 13 23 11 40 >аборигены (потомство) (8) (9) >возраст 4 8 Практически теперь оба мужчины имели по три жены, так как (IX) не жила в семье (7), хотя ее сын (9) жил с ним. Вскоре женщина (IX) умерла. С двумя оговорками эти две семьи можно было бы рассматривать как полноценные полигинные объединения. Оговорки следующие. Во-первых, мужчин нельзя считать типичными главами полигинных семей, так как их возраст меньше средних 42 лет. Во-вторых, в случае с семьей аборигена (4) отсутствует жена в важном детородном периоде 20—27 лет, когда женщины особенно нуждались в помощи коллектива других жен. Давайте допустим, что в течение 12 лет семья аборигена (4) оставалась бы стабильной, что он не получил новых жен и не потерял прежних в результате их «похищения» или смерти. К этому времени (4) было бы 42 года, (V) и (VI) — 22 года, а (VIII) — 43 года. В этом случае перед нами была бы типичная полигинная семья: мужчина 42 лет, старшая жена 43 лет и две молодые жены в важном возрастном промежутке 20—27 лет. Но в этой семье не было бы жен, проходящих обучение,— девочек, не достигших половой зрелости. Допустим также, что через 5 лет и семья аборигена (7) осталась бы стабильной. К этому времени (7) было бы 42 года, (III) — 18 лет, (IV) — 28 лет и (VII) — 16. Здесь снова перед нами старшая жена, миновавшая критический период 20—27 лет, и две молодые жены, которые скоро вступят в этот период. В этой семье также отсутствовали бы молодые женььдевочки, не достигшие половой зрелости и проходившие обучение. К тому времени, когда мужчины (4) и (7) достигли 42 лет (допуская, что они не потеряли бы жен в результате «кражи» или смерти и не приобрели новых), они являлись бы опытными главами семейств, пользующимися большим влиянием и уважением в обществе. Все их жены достигли бы детородного возраста (или оставались в нем), и все они имели бы одного, а (VIII) и (IV), возможно, двух детей. К этому времени все их потомство, жившее с ними в 1941 г., то есть мальчики (5), (6), (8) и (9), покинуло бы свои семьи для прохождения инициации под руководством других мужчин, принадлежащих к противоположной половине707. Но к моменту достижения 42-летнего возраста мужчины, как (4), так и (7), уже миновали бы пик своей наивысшей охотничьей продуктивности, и если бы их семьи вынуждены были полагаться лишь на мясо, добытое этими мужчинами, они не смогли бы выжить. С другой стороны, большинство их жен достигло бы к этому времени наибольшей продуктивности как собирательницы, и это обеспечивало бы гарантированное поступление растительной пищи в свои семьи. Этот недостаток в обеспечении животной пищей соответствующих семей (или производственных групп, в которых они жили бы) компенсировался институтом инициации и практикой «службы» молодого инициированного мужчины для получения жен (и мальчиков, подлежащих инициации). Ко времени достижения 42-летнего возраста аборигенами (4) и (7) они стали бы старейшинами в своих локальных группах и уважаемыми членами в объединении локальных групп. Следовательно, их рассматривали бы как желательных наставников инициируемых юношей из локальных групп, принадлежащих к противоположной патрилинейной половине. Окончательное решение о распределении инициируемых принимали бы не аборигены (4) или (7) единолично, но вместе со своей локальной группой, и в частности с коллективом ее старейшин. Также было вполне возможно, что к 42 годам они получат и новых жен. Но исходя из ситуации, сложившейся в 1941 г., в новых женах не было явной необходимости, так как вклад женщин в хозяйственную жизнь их семей казался обеспеченным. Если бы эта локальная группа приобрела молодых девушек, то есть элементы основной производительной силы, для обучения их обязанностям жены, то получили бы их другие мужчины при условии, что эти мужчины имели старших жен, которые могли обучать девочек. Юноши, которых мужчины (4) и (7) получали бы для проведения инициации, могли вносить значительный вклад в производство до 17—18 лет, когда завершался первый этап инициации. Но главный вклад в добычу животной пищи, разрешающий проблему обеспечения соответствующих семей (и одновременно производственной группы), вносили бы молодые инициированные мужчины, «служащие» для получения жен (и/или мальчиков, подлежащих инициации). В 1941 г. (4) и (7) с уверенностью могли рассчитывать, что к тому времени, когда им будет по 42 года, их жены родят несколько детей, как мальчиков, так и девочек, и каждая из них будет потенциально обеспечивать добавление животной пищи в результате «службы» за них молодых инициированных мужчин из локальной группы, принадлежащей к противоположной патрилинейной половине. Распределение в 1941 г. или в последующие годы этих потенциальных сыновей и дочерей проводилось бы не по единоличному решению отцов (4) и (7), а старейшинами локальной группы в целом, причем эти вопросы, несомненно, обсуждались бы и со старейшинами локальных групп противоположной половины, выступавшими в качестве партнера. Конечно, это не было бы случайным распределением — оно проводилось бы с учетом будущего положения, принималось бы во внимание, с какими локальными группами из противоположной половины надо установить или укрепить связи. Несомненно, непосредственные выгоды сопоставлялись с будущими обязанностями, и наоборот. Важное значение имел учет того влияния, которое такое распределение оказывало бы в будущем на предоставление земли данной локальной группы в пользование другим в результате действия института «владелец» / «управляющий» при передаче жен в другую группу. И наоборот, локальная группа приобретала бы право пользоваться территорией других групп после получения от них жен. В этой связи интересно отметить, что родная сестра аборигенов (4) и (7) 08 была замужем за мужчиной из локальной группы с северо-запада Грут-Айленда, а одна из жен аборигена (4) тоже происходила из этой локальной группы709. Кроме того, четыре сына аборигенов (4) и (7) в 1941 г. уже были обещаны в ученики для прохождения инициации мужчинам из той же локальной 710 группы . Это вполне очевидное желание локальной группы, к которой принадлежали мужчины (4) и (7), установить или укрепить отношения с локальной группой с северо-запада острова становится понятным, если принять во внимание, что на территории этой последней группы находилось несколько защищенных заливов, где можно было охотиться на дюгоней. Пример с аборигенами (4) и (7), основывающийся на состоянии их семей в сентябре 1941 г. и их дальнейшем потенциальном развитии, был так детально рассмотрен, во-первых, потому, что он касается положения, которое можно еще считать практически традиционным, и, во-вторых, потому, что он показывает тип планирования, необходимого для поддержания существующего положения, в частности локальной группы, и в то же время жизнеспособности семей во главе с аборигенами (4) и (7). При планировании необходимо было принимать во внимание все вопросы, упомянутые выше, которые в конкретном виде выражали отношения производства и распределения. Вопрос о планировании аборигенами будущего большинство авторов сводят к рассмотрению, запасали или нет аборигены пищу на завтрашний день. Постановка вопроса таким примитивным образом в действительности равносильна пренебрежению умственными способностями аборигенов, и в то же время она показывает неосведомленность авторов в отношении того, что способствовало поддержанию функционирования общества аборигенов. И если предусмотрительность в запасании пищи ограничивалась парой дней, то планирование развития общества простиралось на годы, если не на десятилетия. Кроме того, оно осуществлялось внутри сложной системы производственных отношений и связанных с ними институтов. Такое планирование касалось многочисленных непредсказуемых параметров: например, выживут ли дети, которых родит женщина в обозримом будущем, и сыграют ли они, таким образом, свою важную роль в обеспечении группы пищей; сдержат ли обещания локальные группы, с которыми заключены различные соглашения; каковы будут пагубные последствия неблагоприятных периодов и т. д. Все это были вопросы, в решении которых, конечно, определяющее значение имел многолетний опыт, и поэтому понятно уважение, проявлявшееся по отношению к мнениям старейшин. Итак, одной из особенностей, присущих аборигенам, на которую не обращали серьезного внимания, являлось их предвидение и планирование, необходимые для регулирования общества, с тем чтобы поддерживать существующий традиционный способ производства. Другая характерная черта их общества, которую исследователи также игнорировали, состояла в неотъемлемой связи обучения молодежи обоих полов с общественной жизнью, в большом значении, придаваемом этой интеграции аборигенами. Здесь мы опять столкнулись с гносеологической проблемой и этноцентризмом наблюдателей, мешавшим им признать, что эти человеческие свойства были так же необходимы в охотничье-собирательском обществе, как и в их собственном. Исследователи не проявляют желания разрабатывать эти последние вопросы; с 1960-х годов, когда сами аборигены вышли на арену политической борьбы, они все более критикуют этнографов за непонимание их проблем711. Отчасти непонимание происходит из неспособности этнографов осознать, что аборигены при традиционных условиях обладали всеми свойствами, присущими человеку, подобно самим этнографам, хотя институты, через которые эти свойства проявлялись, совершенно отличались от институтов, известных этнографам по их обществу. Здесь мы упомянули лишь две важных черты — способность аборигенов при традиционных условиях к долгосрочному планированию, направленному на поддержание общества, и признаваемую ими важность обучения подрастающего поколения и создания необходимых институтов или процедур для достижения цели — но этот перечень можно легко продолжить. Из обсуждения в предыдущих главах, где рассматривались институты, через которые проявлялись производственные (и распределительные) отношения, становится ясно, что устанавливались формальные отношения одной локальной группы с другой или другими локальными группами, принадлежащими к противоположной патрилинейной (названной или неназванной) половине, например, в результате брака, инициаций, отношений «владелец»/ «управляющий». Но очевидно, что такие формальные отношения не устанавливались между локальными группами, принадлежащими к одной и той же патрилинейной половине. Это тем более удивительно, что очевидно существование необходимости в таких формальных регулятивных отношениях между локальными группами в одной и той же патрилинейной половине. Конкретным примером такой потребности могут служить десять случаев намеренного убийства, отмеченные выше712. Все они были связаны с конфликтами из-з? женщин. Но из этих 10 убийств 6 были осуществлены * мужчинами, принадлежавшими к той же половине (хотя, как уже упоминалось, не к той же локальной группе), что и жертва; три убийства были сделаны людьми из другой половины; десятый случай остался неясным. Нам нет необходимости освещать проблему отсутствия формальных регулирующих механизмов между локальными группами в одной и той же патрилинейной половине, так как это, в сущности, один из аспектов социогенеза австралийцев, рассмотренный в других работах713 и не входящий в задачи данного исследования. Другая проблема, являющаяся естественным следствием первой, заключается в том, какие свои потенциальные возможности развивало общество аборигенов для предотвращения конфликтов между локальными группами, принадлежащими к одной и той же половине, которые в конечном счете могли привести к убийству. Хотя эта проблема представляет как местный, так и всеобщий исторический интерес, ее рассмотрение также не входит в задачи данной работы. Тем не менее тот факт, что отсутствовала центральная власть на более высоком уровне, чем локальная группа, способствовал развитию таких конфликтов, и, возможно, установление централизованной власти на уровне более высоком, чем локальная группа, то есть на «племенном» уровне, привело бы по крайней мере к сведению подобных конфликтов к минимуму. В то же время такая централизованная власть подвергла бы отношения между локальными группами противоположной половины чрезмерной регламентации. Конечно, это лишь теоретические рассуждения, и во всяком случае вторжение английских колонизаторов оборвало возможное дальнейшее развитие. По причинам, отмеченным во введении, вопросы о надстройке в обществе аборигенов упоминались лишь случайно, в связи с другими явлениями и не подвергались специальному детальному исследованию. Однако здесь необходимо привести некоторые соображения714 о родственной организации и отражении ее во взаимоотношениях между отдельными лицами или группами лиц, характерных для общества аборигенов. Прежде всего надо повторить очевидное утверждение, что классификация родства у аборигенов и организация систем родства представляли собой кодификационное отнесение родственников к определенным группам, причем эти кодификации существовали как идеи в умах аборигенов, хотя эти идеи в значительной степени могли быть систематизированы и объективированы. Прошлое поколение исследователей715 принимало почти как аксиому, что главная задача систем родства состояла в предписании, на каких именно женщинах может жениться данный мужчина716. Но брак — это материальные отношения между мужчиной и женщиной вне зависимости от того, рассматривается он в биологическом или экономическом плане. Принятие этого положения приведет нас к неизбежному выводу, что материальные отношения определяются идеями, существующими в умах аборигенов. А это чистый философский идеализм, переворачивающий реальное соотношение вещей, и, конечно, для марксиста он неприемлем. Если мы отвергнем это положение, то что же тогда представляет собой кодификация родственников? Как мы видели, семья (и брак) являлись одним из институтов, входившими в систему производственных отношений. В каждом конкретном случае действовала целая серия случайных обстоятельств, определявшаяся в конечном итоге субъективными соображениями определенных групп (особенно коллективами старейшин из двух локальных групп, принадлежащих к противоположным половинам). Таким образом, брак с определенной женщиной не предписывался мужчине жестко системой родства (например, женитьба на дочери дочери брата матери его матери). Кроме того, вполне вероятно, что вследствие случайных факторов такой женщины могло вообще не существовать или она не подходила для данного брака. Брак в конечном счете определяли те преимущества, реальные или предполагаемые, которые приобрели бы в результате такого брака локальные группы будущих жены и мужа. Подобные соображения учитывались не только при браке, но и при функционировании других институтов, рассмотренных в данной работе. На основе этого я пришел к выводу, что классификация и систематизация родства отражали в совокупности производственные отношения в том виде, как их представляли и кодифицировали аборигены. Системы родства аборигенов, несомненно, обнаруживали определенные правила —и не простого характера,— заложенные в них предыдущими поколениями. Как же тогда философская необходимость, заключавшаяся в сжатой форме в этих правилах, присущих системам родства, соотносилась с философской свободой, очевидной в отдельных случаях? Здесь надо привести слова Ф. Энгельса718 о законах исторического развития: «... История делается таким образом, что конечный результат получается от столкновений множества отдельных воль, причем каждая из этих воль становится тем, чем она есть, опять-таки благодаря массе особых жизненных обстоятельств. Таким образом, имеется бесконечное количество перекрещивающихся сил, бесконечная группа параллелограммов сил, и из этого перекрещивания выходит одна равнодействующая — историческое событие. Этот результат можно опять-таки рассматривать как продукт одной силы, действующей как целое, бессознательно и безвольно. Ведь то, чего хочет один, встречает противодействие со стороны всякого другого, и в конечном результате получается нечто такое, чего никто не хотел. Таким образом, история, как она шла до сих пор, протекает подобно природному процессу и подчинена, в сущности, тем же самым законам движения. Но из того обстоятельства, что воли отдельных людей, каждый из которых хочет того, к чему его влечет физическая конституция и внешние, в конечном счете экономические, обстоятельства (или его собственные, личные или общесоциальные), что эти воли достигают не того, чего они хотят, но сливаются в нечто среднее, в одну общую равнодействующую,— из этого все же не следует заключать, что эти воли равны нулю. Наоборот, каждая воля участвует в равнодействующей и постольку включена в нее». Системы родства не создавались каким-либо «богом из машины», чтобы аборигенам было известно, на какой женщине определенный мужчина может жениться. Но в конечном итоге они представляли собой кодификацию самими аборигенами общей суммы материальных отношений внутри общества. Тем не менее самим аборигенам вполне могло казаться (то есть представляться субъективно), что система родства действительно была дана им каким-то «богом из машины». Кроме того, существуют мифы, рассказывающие, как аборигены во Времена сновидений получили свою систему родства, считающуюся с тех пор непреложной. Но родственные организации австралийцев не являются закрытыми перманентными системами, это всегда лишь нечто приблизительное с рядом «исключений», постоянно возникающих из случайностей, которые могут быть либо субъективными, либо объективными (например, демографические смещения). Вследствие этого повторная кодификация или корректировка системы аборигенами являлись постоянным процессом719. Вернемся к цитате Ф. Энгельса, приведенной выше, и к тому факту, что в австралийских системах родства, несомненно, можно обнаружить правила. Эти правила являлись реальным выражением взаимообмена и сотрудничества, свойственных обществу аборигенов, которое, несомненно, вне зависимости от воли отдельных аборигенов развивалось в соответствии с законом, сформулированным Ф. Энгельсом720. Поскольку в этой работе основное внимание было направлено на способ производства у аборигенов, и общественной надстройки мы касались лишь от случая к случаю, могло сложиться впечатление, что был применен чисто экономический, хотя и материалистический подход. И К. Маркс, и Ф. Энгельс всегда подчеркивали, что в конечном итоге определяющим элементом в истории является производство и воспроизводство реальной жизни. Если же это положение искажается, когда говорят, что экономический элемент является единственным определяющим то исторический материализм превращается в бессмысленное абстрагирование. Экономические условия — способ производства — являются базисом, но различные элементы надстройки также оказывают влияние на течение истории и во многих случаях определяют его формы. Существует взаимодействие всех этих элементов в базисе и надстройке, при котором экономическое развитие в конечном итоге утверждает себя как необходимость . Мы прежде всего стремились проследить не историю аборигенов, то есть развитие способа производства через промежуточные стадии начиная от низшей формы722; наша задача гораздо скромнее: показать способ производства как целое и функционирование производственных отношений, в частности в этнографической современности у австралийских аборигенов. Но мы, конечно, не отрицаем, например, того, что системы родства и различные рассмотренные выше институты являются результатами исторических процессов. Было бы неразумно отрицать, что общественные институты — к примеру, инициация юношей — не определялись в значительной степени надстройкой и в том числе идеологией. Тем не менее, как уже отмечалось, сущность института инициации была в конечном итоге хозяйственной, то есть состояла в подготовке юноши к его будущей хозяйственной роли в обществе, с одновременным использованием его возрастающих производительных способностей на пользу семьи (и производственной группы), к которой он был «прикреплен». В заключение коснемся здесь вопроса, который в последние годы приобрел политическое значение. С подъемом женского освободительного движения в некоторых кругах появилась склонность считать, что в традиционном обществе аборигенов преобладал своего рода «мужской шовинизм», при котором мужчины нещадно эксплуатировали женщин. Взгляды Ф. Каберри723 можно назвать предтечей этой крайней позиции. Мы не будем полемизировать с подобными современными взглядами, но необходимо, наверное, повторить замечания, сделанные ранее, с целью показать, что то, что на первый взгляд может представиться эксплуатацией женщин, в конечном итоге оказывается обоснованным хозяйственной необходимостью. Главный удар критики направлен против полигинии, некоторых браков девушек со значительно более старшими мужчинами и вступления девочек в «брак» до наступления половой зрелости. Полигиния играет двоякую роль. Во-первых, она обеспечивает создание коллектива жен, что особенно важно для молодых женщин в возрасте 20—27 лет, когда они больше всего обременены уходом за грудными и/или маленькими детьми. Эти заботы делит с ними коллектив жен их мужа. За отсутствием других данных я предположил, что по аналогии с мужчинами женщины достигали наибольшего развития своих производительных возможностей около 26 лет. Отсюда можно сделать вывод, что молодые женщины 20—27 лет эксплуатировались старшими мужчинами, состоящими в полигинных браках, не только в половом отношении, но и в хозяйственном. Однако недавно опубликованные данные Б. Михэн724 показали, что женщины достигали наивысших результатов в хозяйственной деятельности значительно позже 26 лет, то есть тогда, когда заботы по уходу за детьми значительно сокращались, а ведь именно наличие маленьких детей препятствовало женщине наиболее продуктивно заниматься собирательством. Полигиния играла и другую роль, состоящую в том, что старшие женщины в коллективе жен обучали молодых девочек, еще не достигших половой зрелости, их будущим хозяйственным функциям. Случаи брака со старшими мужчинами также являлись экономической необходимостью, поскольку именно эти старшие мужчины в обществе с низким уровнем развития производительных сил выступали наиболее опытными главами семейств, будучи лучшими организаторами производства и распределения. «Брак» молодой девочки до наступления половой зрелости и ее включение в коллектив жен отнюдь не означал, что она подвергалась половой эксплуатации со стороны своего «мужа», который имел в этот период по меньшей мере еще одну старшую жену. Постоянно повторяющиеся описания, часто сенсационного характера, сражений и убийств, вызванных похищением или «кражей» женщин, неизбежно создают впечатление, что это были преступления из ревности, из страсти к женщинам как объектам противоположного пола. Это ошибочный взгляд. Месть, даже убийство происходили в тех случаях, когда женщина — экономический субъект, а не половой объект — была «украдена» аборигеном, принадлежащем не к той локальной группе, что ее предыдущий муж. Возмездие осуществлялось локальной группой в целом, а вовсе не обязательно оскорбленным супругом. Похищение или увод женщины аборигеном, принадлежащим к той же локальной группе, что и ее муж, отнюдь не являлись поводами к конфликту. Ясно, что для понимания подлинного положения вещей исследователю надо прежде всего избавиться от представлений, что женщина в традиционном обществе аборигенов рассматривалась лишь как объект противоположного пола, а именно этого, несомненно, критики и не смогли сделать. Если уж подвергать общество аборигенов критике за господствующую в нем «мужскую ориентацию», то можно было бы отметить, что главное средство производства — земля — наследовалось по мужской линии через патрилиниджи. Но даже и здесь наличие системы «владелец»/ «управляющий», при которой мужчина приобретал права «управляющего» на землю своей матери (или матери своего отца), представляло собой форму непрямого матрилинейного наследования, осуществлявшегося параллельно с па-трилинейным наследованием права «владения» землею. Итак, можно сделать вывод, что традиционное общество аборигенов отнюдь не рассматривало женщину как пассивный половой объект, напротив, оно считало ее наряду с мужчиной активным экономическим субъектом — производителем жизненно важной растительной части пищевого рациона общества, и, кроме того, женщина являлась воссоздателем главной производительной силы — самого человека. Примечания Введение а. По причинам, которые будут указаны ниже, в тексте вместо более принятого термина «объединение» (“band”) используется термин «производственная группа» (“foraging group”). б. Также по причинам, которые будут указаны ниже, в тексте вместо более принятого термина «род» (“clan”) используется термин «патрилинейная землевладеющая локальная группа» (“patrilineal land-owing local group”). Глава 1. ! Green way, 1963 (здесь и далее полное название источника см. в прилагаемом списке литературы). 2 Elkin, 1963. 3 Malinowski, 1913:20. 4 Eyre, 1845. 5 Grey, 1841. 6 В этом отношении ситуация, в которую попали австралийские путешественники, значительно отличалась от положения Джеймса Кука во время его экспедиций по Полинезии. Здесь полинезиец с о. Таити мог служить переводчиком в обширном районе от Гавайев на севере до Новой Зеландии на юге. 7 Это выражение А. Радклифа-Брауна, и для удобства оно используется во всей первой главе, хотя заключается в кавычки. В остальных главах этой работы применяется выражение «производственная группа» (foraging group), чтобы подчеркнуть экономическую сторону деятельности «орды», а так как аборигены почти не применяли каких-либо способов сохранения пищи, то «орда» всегда выступала производящим и распределяющим объединением. 8 Это также выражение, использованное А. Радклифом-Брау-ном, и для удобства оно употребляется лишь в первой главе. В остальной части работы использовано выражение «патрилинейная землевла-деюшая локальная группа», тем самым подчеркивается, что члены такой группы связаны с определенным земельным участком; группа патри-линейна и является основной землевладеющей единицей. Чтобы избежать длинного повторения, часто будет применяться сокращенное выражение «локальная группа*. 9 Barnes, 1963:200—201. 10 Long, 1971:262—263. 11 Логично было бы предположить, что можно получить информацию о традиционном образе жизни от старших аборигенов, которые, хотя и живут ныне в контакте с европейцами, родились еще в традиционном обществе и, по-видимому, помнят его. Это так называемое воспроизведение культуры по памяти. Однако на практике сведения, полученные подобным образом, имеют очень небольшую ценность. Дж. Вудберн (в книге Lee & Devore . 1968:148), говоря об опыте работы с хадза в Танзании, сделал следующее интересное для нас замечание: «Я ...хочу остановиться на формальных правилах и проблемах реконструкции; я думаю, что у хадза было бы совершенно невозможно получить точное представление об их организации даже на нынешнем этапе, если бы исследователь полагался только на информантов. Их представления о том, что они делают, значительно отличаются от того, что они действительно делают». 12 Malinowski, 1913:19. 13 Malinowski, 1913:25. 14 Leacock, 1978:273, сравни, Slocum, 1975. 15 Fison & Howitt, 1880:355. 16 Например, предположение Л. Хайэтта об «обмене племянни цами» (Hiatt» 1968b:175). У. Шапиро говорит о «вознаграждении тещи» (Shapiro, 1970); сравни обычай туалча мура у племени аранда (Spencer & Gillen, 1927 11:469—470). См. также Maddock (1969). 17 Eildermann (1950:passim); Eylmann (1908:131); К. Мэддок (Maddock 1972:60) ссылается на наследование у тиви и валбири старой вдовы молодым мужчиной; Mannzen (1949:122); К. Штрелов (>
Оглавление Предисловие............... Введение ................ Глава 1. Источники: критическая оценка . . . . Глава 2. Австралийские аборигены: население и демография............. Глава 3. Земля как основное средство производства Глава 4. Орудия производства........ Глава 5. Естественное и общественное разделение труда ............. Глава 6. Семья............. Глава 7. Патрилинейная землевладеющая локальная группа. Собственность на землю .... Глава 8. Объединение патрилинейных землевладею-щих локальных групп....... Глава 9. Производственная группа....... Заключение...............236 Примечания..............253 Литература...............300 Предметный указатель...........311 Фредерик РОУЗ АБОРИГЕНЫ АВСТРАЛИИ. Традиционное общество И. о. зав. редакцией литературы по международным отношениям и истории Ю. Д. Рыжков Редактор О. Ф. Тихомиров Мл. редактор О. А. Федорова Художник В. Г. Штанько Художественный редактор И. М. Чернышева Технические редакторы Л. Ф. Шкилевич, Е. В. Величкина ISBN 5.01.001656.2 Сдано в набор 12.04.88. Подписано в печать 27.12.88. Формат 84ХІ08Ѵз2* Бумага офсетная № 1. Гарнитура тип. тайме. Печать офсетная. Условн. печ. л. 16,8 + 0,84 печ. л. вклеек. Уел. кр.-отт. 34,86. Уч.-изд. л. 20,07. Тираж 14 000 экз. Заказ № 320. Цена 1 р. 20 к. Изд. № 42459. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17. Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93. Составитель Е. В. Говор. OCR: Комаров Виталий
|