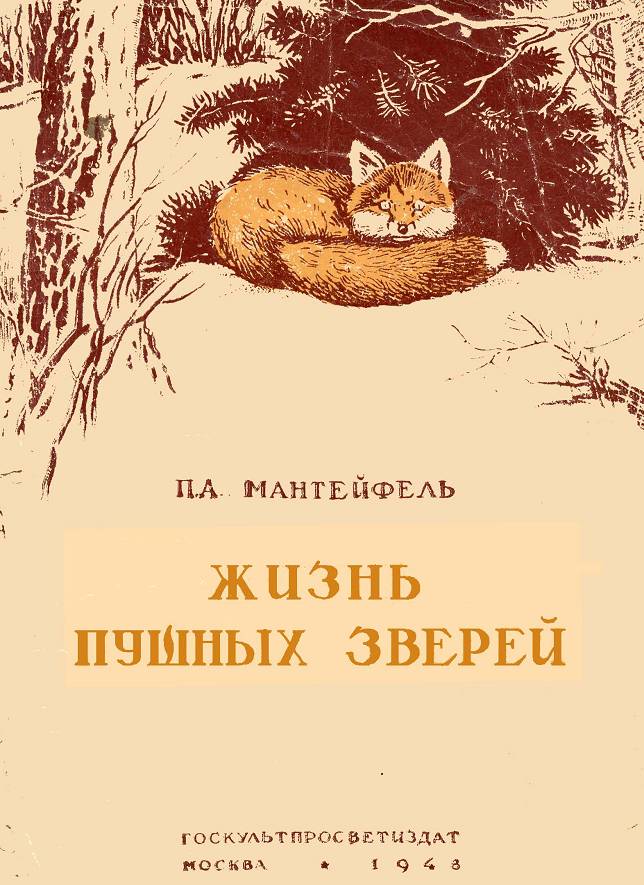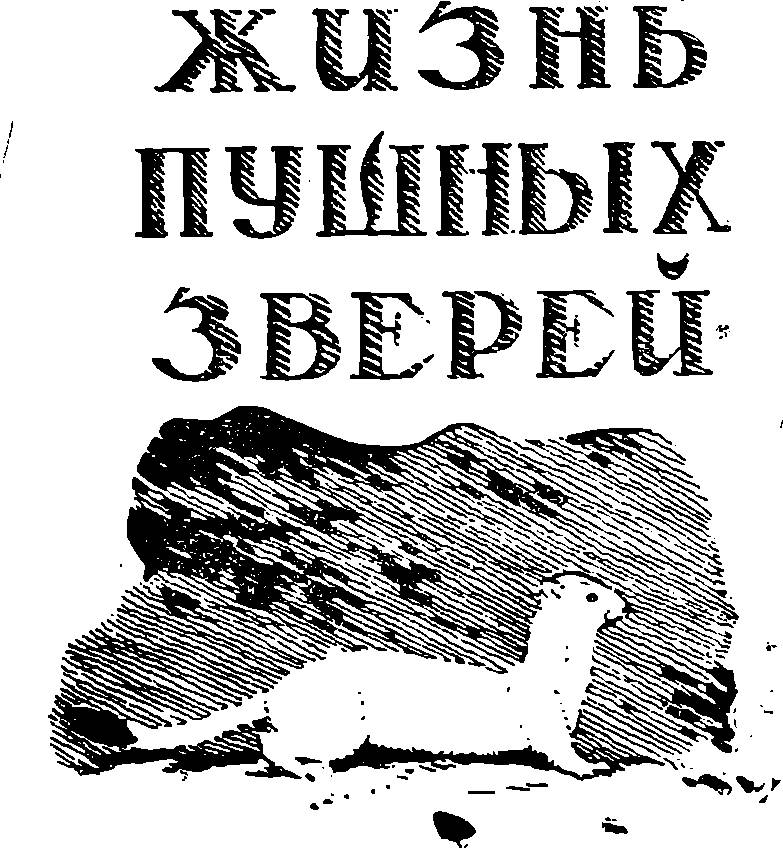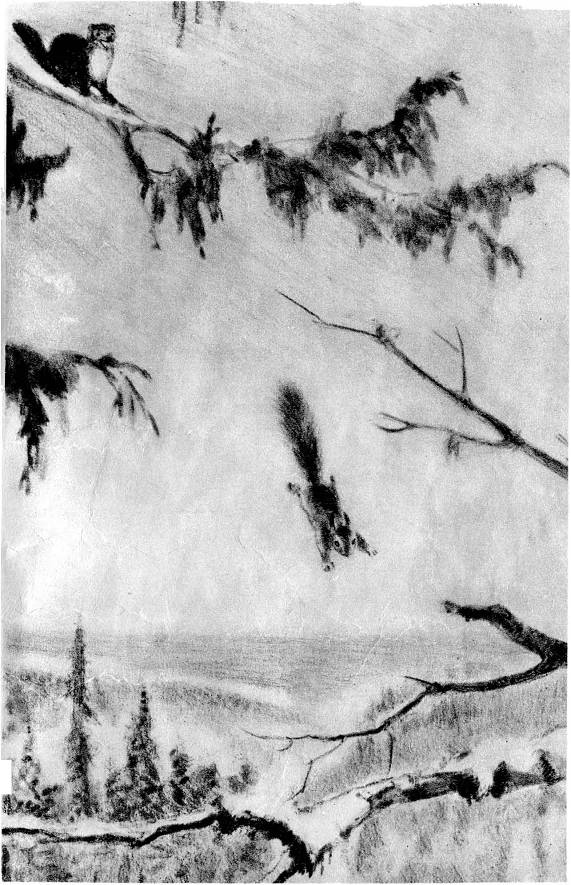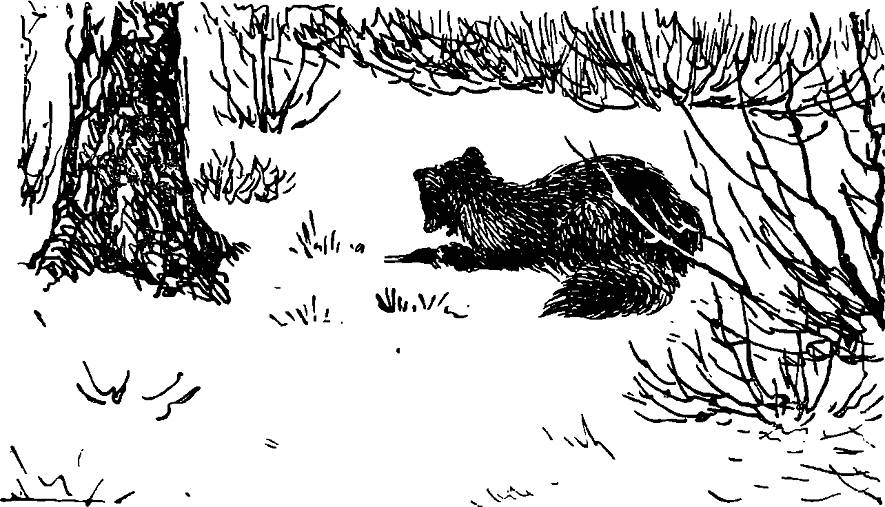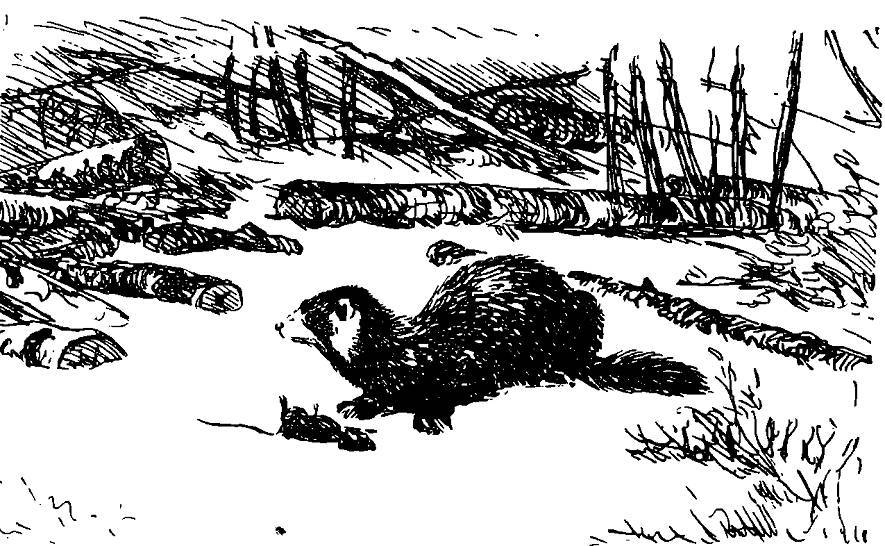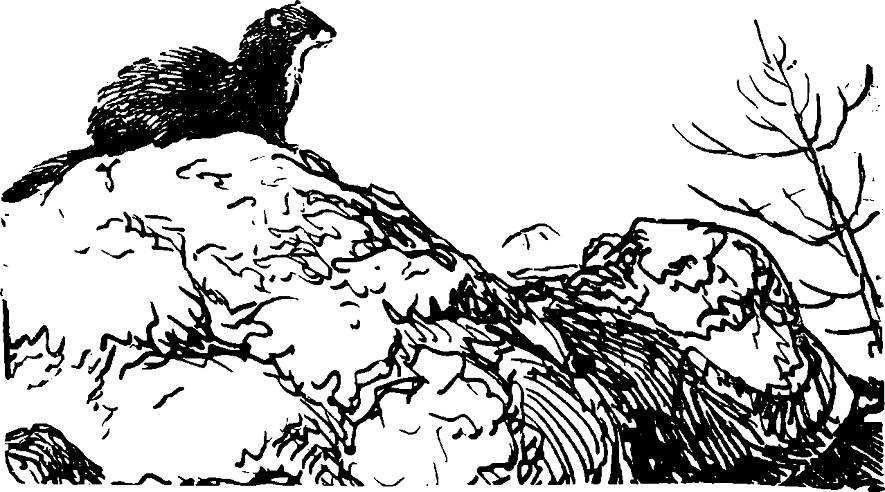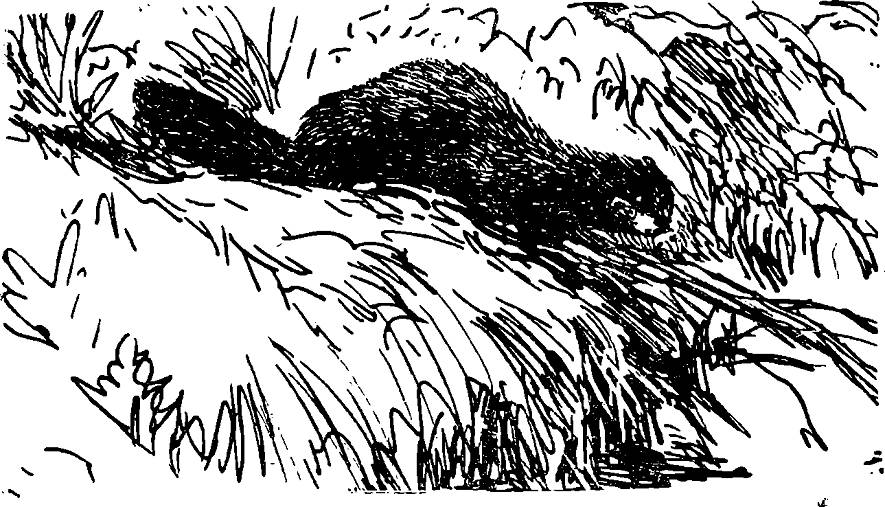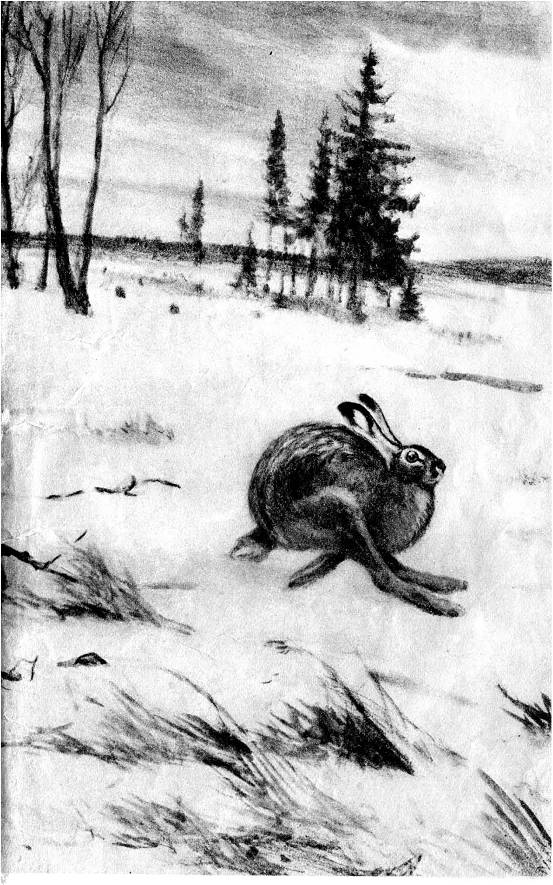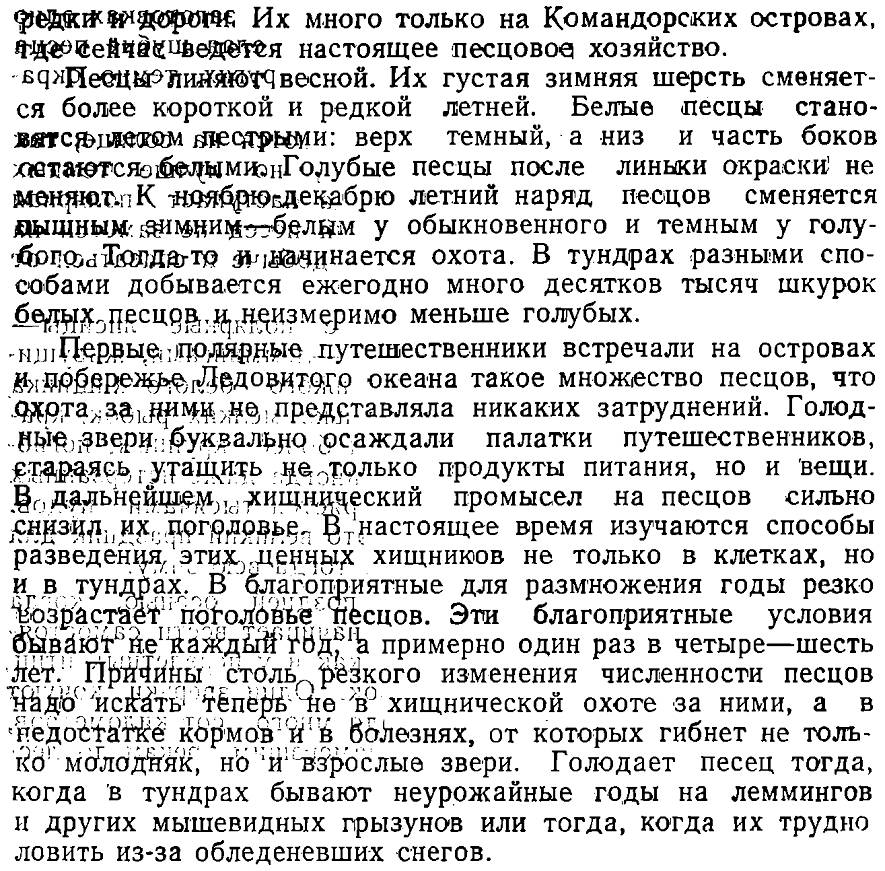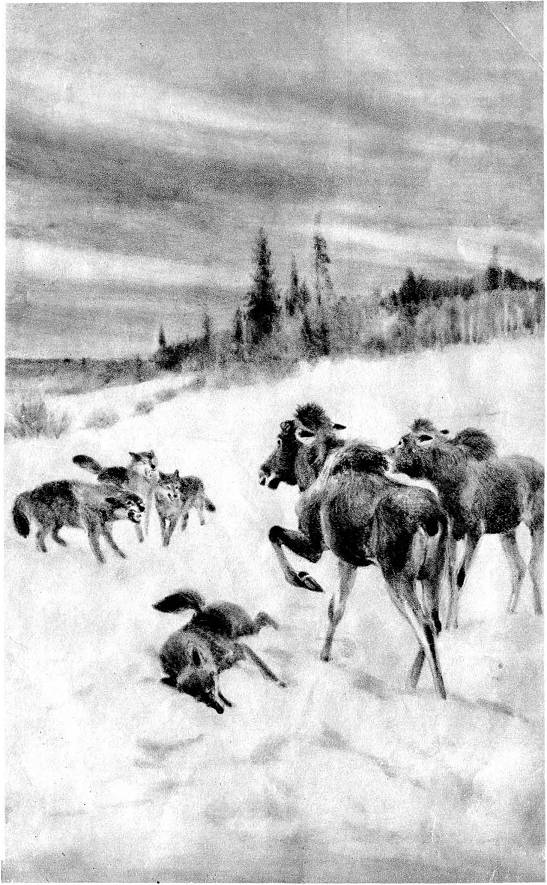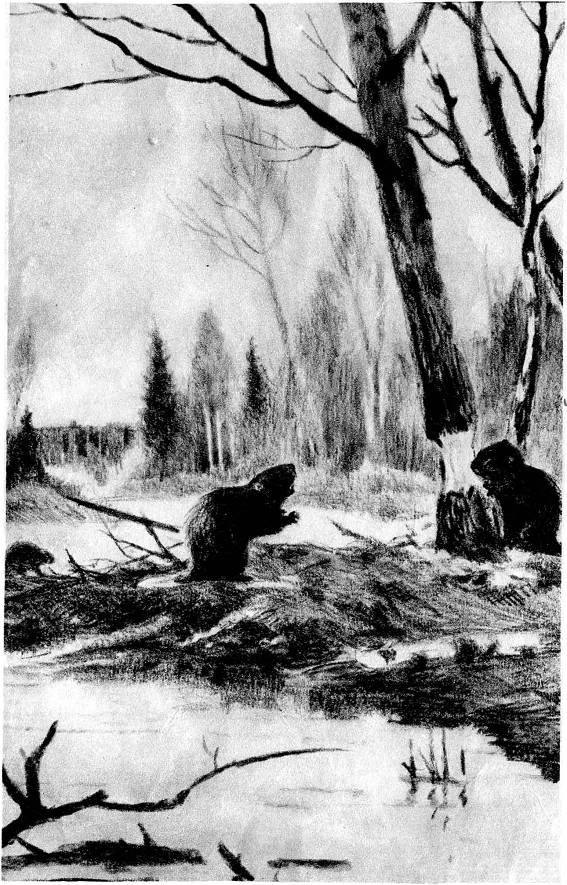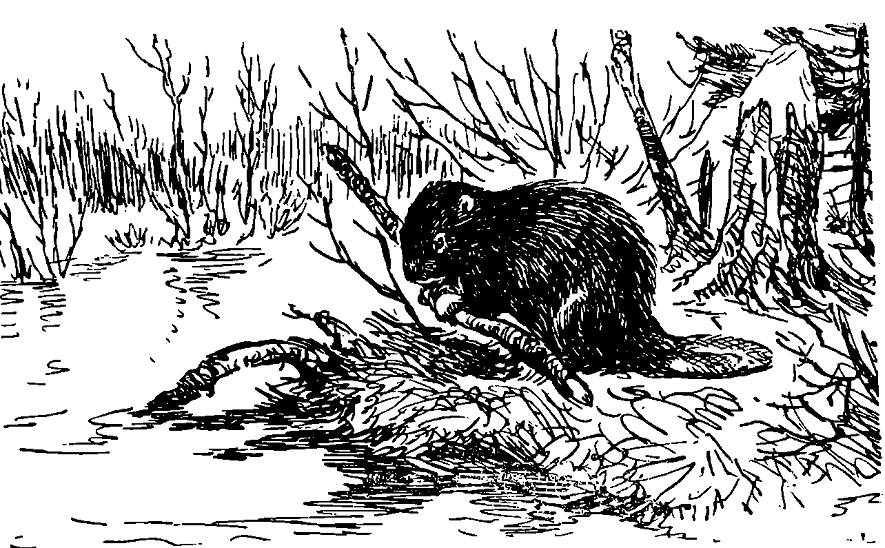| |||
Жизнь пушных зверей
Профессор П. А. Мантейфель
Издание второе Государственное издательство культурно-просветительной литературы Москва — 1948 Оглавление 599 м 23 Рисунки художника Г. Е. Никольского Предисловие Белка Лесная куница Куница каменная Харза Соболь Горностай Черный хорь Хорь степной Колонок Солонгой Европейская норка Северо-американская норка Выдра Калан Барсук Росомаха Лисица Песец Волк Бурый медведь Заяц-беляк Заяц-русак Суслики Бурундук Крот Ондатра Бобр Предисловие Пушнина нашей страны пользуется заслуженной славой во всем мире. Ее охотно покупают у нас зарубежные страны, оплачивая золотом. Огромное количество пушнины используется и внутри страны. В чем же ценность шкурок пушных зверей? Почему такой большой спрос на эти шкурки? Прежде всего, шкурки почти всех наших пушных зверей обладают поразительной красотой. Вспомните темнокоричневую с серебристой проседью шкурку бобра с ровным, плотным волосяным покровом; белую, как снег, шкурку горностая; темную, лоснящуюся и удивительно мягкую шкурку соболя; золотом отливающую на солнце шкурку лисицы; голубовато-серую шкурку белки; темную, бархатную шкурку крота: все они удивляют и чаруют глаз превосходными оттенками и красками. Одежды, отделанные шкурками пушных зверей, приобретают дорогой, изысканный и роскошный вид. Но красота—это не основное достоинство шкурок. Они обладают еще одним удивительным свойством—отлично предохраняют от мороза. Ни один материал не способен так удерживать тепло, как пух зверей. Вот почему жители полярных окраин изготовляют одежду почти исключительно из мехов и шкурок пушных зверей. Снаряжаясь в арктические экспедиции, советские путешественники, ученые, летчики также запасаются одеждами из пушнины. Высокую оценку шкурки пушных зверей получили и в нашей Советской Армии. Летчики, танкисты, разведчики, снабженные одеждами из пушнины, при любых морозах выступали в путь без риска обморозиться. При своей исключительной нетеплопроводности шкурки отличаются легкостью и прочностью. Все эти качества и придают им большую ценность. Советский Союз очень богат пушными зверями; свыше ста видов их населяют наши леса, поля, степи, тундры и воды. А такой первоклассный пушной зверек, как соболь, вообще нигде, кроме -нашей страны, не водится. Ежегодно охотники добывают и сдают стране на миллионы рублей пушнины. Особенно много добывается у нас шкурок белки. Шкурки белки составляют тридцать пять—сорок процентов всех пушных заготовок Союза. Советское правительство придает исключительное значение развитию пушного промысла и постоянно заботится о правильном, хозяйском использовании природных богатств. Нигде в мире не проведено так много мероприятий по охране и размножению ценных пушлых зверей, как в нашей стране. Десятки заповедников размещены в самых различных уголках страны. В эгих заповедных местах звери не только размножаются, но и изучаются. Советские ученые пытливо изучают жизнь зверей, чтобы сделать пушной промысел организованной отраслью народного хозяйства. Уже сейчас ряд пушных зверей удалось «одомашнить», разводить в неволе, в клетках, вольерах, загонах. Многие колхозы и совхозы страны наравне с животноводческими фермами строят тег ерь фермы серебристо-черных лис, норок и других зверей. Иными словами и в этой важной области народного хозяйства человек успешно переделывает природу. Советские ученые и практики-звероводы руководствуются при этом передовым учением, созданны м трудами великого преобразователя природы, основоположника современной биологической науки И. В. Мичурина. И. В. Мичурин и продолжатель его дела академик Т. Д. Лысенко учат, что успешное воздействие на природу организма требует глубокого изучения биологии животных и растений. Изучением биологии диких животных заняты в СССР специальные исследовательские институты, а также единственный в СССР вуз—Московский пушно-меховой институт, готовящий специалистов: охотоведов-биологов и звероводов. Только с хорошо подготовленными кадрами можно было провести сложную работу по реконструкции фауны охотничьих животных СССР, заставить размножаться на зверофермах ценнейших соболей и многих других полезных диких животных (лосей, изюбрей, пятнистых оленей и пр.), быстро одомашнивая их. Мы по-мичурински изучаем природу для того, чтобы управлять ею, обогащать новыми формами животных и изменять ео на благо нашей великой Родины. Широкие массы населения СССР проявляют большой интерес к нашим пушным зверям—к их жизни, обитанию, проблемам приручения зверей, к проблемам обогащения нашей природы новыми пушными зверями. В книге использовано много новых материалов и габлю-дений, до сих пор не известных в печати. Автор выражает свою благодарность за сообщенные ему ценные фактические данные следующим научным сотрудникам и охотникам: Ю. А. Салмину, В. П. Теплову, Е. Д. Ильиной, М. П. Игошину, Г. Г. Шубину, П. М. Зюзину, Б. И. Мясникову, М. Г. Головкову, К Г. Абрамову, И. Б. Кулешову, М. Г. Волкову, С. С. Фолитарек, М. П. Павлову, Г. Ф. Бромлей, В. Д. Шамыкину, А. И. Матюшину, Ю. JI. Овчинниковой и многим другим. Автор
Белка Через каждые четыре—шесть лет наши еловые леса справляют свой веселый праздник урожая. Еще с весны концы зеленых лапочек елей увешиваются пунцовыми цветами. Менее заметные желтенькие пыльники разбросаны по ветвям. Ветер разносит так много еловой пыльцы, что поверхность луж, озер, дорог и тропинок покрывается желтой пеленой. При таком обилии пыльцы красные цветы ели все оказываются оплодотворенными. В такой год урожай шишек (семян) дают не отдельные ели, а все сразу, весь лес, все еловые леса во многих областях; а потом лет пять—шесть они отдыхают, и на сотни километров в еловых лесах трудно сыскать семена. В центральных областях Советского Союза обильные урожаи еловых семян были в 1936, 1940 и 1947 годах. В такие урожайные годы в еловых лесах жизнь бьет ключом. Первыми здесь появляются клесты. Их задорные песенки радуют охотников. Раз прилетели клесты, значит, в этих лесах остановятся и белки: между ними существует взаимная связь. Клесты ловко вытаскивают за пленчатые крылышки семена, запуская перекрещенные наискось клювы под чешую шишек; птицы действуют ими, как кривыми пинцетами. Когда шумная при полете стая клестов садится на ель, сразу водворяется тишина, и только часто падающие на - землю шишки выдают присутствие этих «северных попугаев». Р. сброшенных шишках мы нашли от семидесяти двух до ста девяноста, а в среднем около ста тридцати еловых семечек в каждой. Клест не вылущивает шишку начисто, а ;выбрав из нее некоторое количество семян, бросает ее и рвет новую, особенно в мороз, когда зябнут пальчики. Да как и не рвать, когда кругом такая масса шишек, одна другой лучше! Под каждой чешуйкой прижаты два полновесных ^семечка с пленчатыми крылышками. Урожай еловых семян достигает часто десяти пудов на гектар. Обрывают шишки дятлы и уносят в свои «кузницы». Там, защемив шишку в развилке сучьев, дятел разбивает се и поедает семечки. Б пылу этой работы он вместе с чешуйками роняет и семена. Этим пользуются мелкие птицы, которые не могут сами разорвать шишку. Поэтому дятлов всегда сопровождают стайки синиц. Синицы не только пользуются помощью дятла, но и сами помогают ему, предупреждая громким пискам об опасности. Но много сброшенных клестами шишек заносится сне-- гом, где их и находят белки к весне, когда начинается голод. И если бы не клесты, сбросившие эти шишки, туго пришлось бы белкам; ведь весной, под лучами солнца, оставшиеся на елях шишки, взъерошиваются, высыпая из-под чешуек семена на землю. Привольно в такой урожайный год белкам: семена ели содержат до сорока процентов жира и столько же белков! Но совсем по-другому выглядят еловые леса в неурожай. В них редко услышишь голос птицы, редко на снегу зимой увидишь след белки. С наступлением зимы в такие годы белок ждет голод. Разнообразный летний корм—ягоды, грибы, птичьи яйца, а иногда и птенцы, семена различных трав, орехи, почки, побеги, многие насекомые и "х личинки—исчезает, а взъерошенные старые шишки елбй давно пусты. Еще задолго до зимы белки в такие годы начинают волноваться» покидают знакомые места, и одна за другой пускаются в длинные путешествия. Они идут одиночками, но все в одном направлении, не останавливаясь ни перед большими полями и даже реками, а иногда проходят и Через большие города. Немало гибнет их от хищников, от голода, на переправах через реки, но все же очень многим удается добраться, наконец, до урожайных еловБ1Х лесов, до заветных полновесных шишек. Один из биологов дважды встречал белок на самом острие мыса Канина. Белки бегали по выброшенному океаном Плавнику (лес, доски) и посматривали на Северный Ледовитый океан, преградивший им дальнейший путь к северу. Откуда же взялись здесь эти заблудившиеся белки? Им больше неоткуда было прийти, кроме как из лесов, а леса эти отсюда за несколько сот километров. Интересное сообщение ыы получили от сотрудников Си-хоте-Алинского заповедника. Там, на реке Сан-Хабе (Терней-ский район), в августе 1935 года были окольцованы семь молодых белок и выпущены у их гнезд. 16 ноября 1935 года одна из этих белок с кольцом была убита у устья реки Санда-Гоу. Таким образом, если даже считать по прямой, линии, белка прошла более трехсот пятидесяти километров и должна была перевалить через ряд горных хребтов. Иногда наплыв белок в урожайные леса бывает настолько велик, что сразу можно видеть более десятка этих зверьков. Придя в новое место, белка ищет подходящее дупло и устраивает в нем теплое гнездо. Если нет дупла, она поправляет старое, построенное другой белкой, гнездо (гайно). Поздно пришедшим, ввиду «квартирного кризиса», приходится строить новые гнезда, что зимой особенно трудно. Вот почему бывает, что две, реже три, белки поселяются вместе. Рано утром, если нет трескучего мороза или снежной бури, белки выходят из теплых гнезд и отправляются к избранным деревьям, где шишек особенно много. В сильные морозы белки часто совсем не выходят из гнезда, находясь в полудремотном состоянии. Белки предпочитают передвигаться по снегу, чем по замороженным, засыпанным снегом деревьям. Рядом можно заметить бисерные следы мышей, парные следочки ласки или горностая, куницы, прямой след лисицы и многих других обитателей леса. Одних привлекают шишки, а других (хищных зверей и птиц)—те, кто кормите» шишками. На прекрасной старой ели—нередко это прародительница всех окружающих молодых елок—после восхода зимнего солнца можно видеть нескольких белок, грызущих шишки. Сразу и не заметишь этих зверьков. В такое утро слышна только, как где-то кто-то грызет жесткий предмет. Неосторожное со стороны охотника движение—и оборвались эти звуки. Долго и неподвижно приходится стоять, прежде чем они возобновятся. Вот из густых ветвей, кружась в воздухе, летит в сторону легкое крылышко елового семени. За ним падает с ветки на ветку чешуйка шишки. Наконец, стукаясь о сучья, валится в снег и стержень объеденной шишки. Зашевелились зеленые ветви, припадая к сучку, появляется красивый светлопепельный зверек с большими кисточками наг ушах и пушистым хвостом. Быстро подбегает он к концу ветки, где висят желто-розовые гирлянды шишек, откусывает веточку, на которой держится шишка, и исчезает с ней в еловой гуще. Опять полетели плёночки и посыпались чешуйки... В крепкий мороз белки спешат покончить с обедом и отправиться греться в гнездо. Часам к десяти-одиннадцати уже редко можно видеть их в лесу, но в оттепели и легкие мсрозы они бегают и после полудня. Одни еловые семена скоро приедаются, и белки стараются разнообразить корм, отыскивая на ветках засушенные ими с осени грибы, под снегом — орехи и жолуди, а иногда близ опушек и семена ржи, гороха из оставшихся на поле под снегом колосьев и стручков. Разбирая на снегу следы белок, не раз приходилось удивляться тонкому чутью этих грызунов. Сквозь метровый слой снега белка прекрасно чует жолудь, орех или даже колос ржи: норка идет прямо вниз, а на поверхности снега, у края норки, остаются две половинки ореха или растрепанный колос. Белка раскусывает орех так: в то место, где был прикреплен орех к веточке, белка вонзает оба нижних резца, раздвигает половинки нижних челюстей, которые подвижно соединены спереди. Нижние реэцы от этого расходятся, и орех разламывается. В отличие от белки, мыши, чтобы съесть ядро ореха, прогрызают в скорлупе дырку. Белка может чуять н на очень большом расстоянии. Так,, например, нам известен случай, когда больше десятка белок повадилось на чердак одного строения, где лежал мешок орехов. Строение находилось в стороне от леса, и белки туда раньше никогда не подходили. Во второй половине зимы и в голодные зимы белки питаются почками елей, откусывая молодые побеги; под деревьями лежит тогда масса еловых веточек и желтеньких колпачков, которые прикрывали почки. Белки питаются и сосновыми семенами. Сосновые шишки не поспевают в один год, а зреют на второй год. Пирамидальные чешуйки этих шишек настолько плотны, что не так-то легко добраться до крылатого семечка. Когда и на соснах шишки подходят к концу, для белок начинается голодная пора. Тогда зверьки перестают искать корм в хвойных лесах, бегают в березняки, где соскабливают со стволов короткие лишайники и набивают ими желудки. Несмотря на то, что желудки зверьков бывают тогда раздуты, все же питательных веществ в лишайниках оказывается так мало, что белки начинают быстро терять в весе, и многие, недотянув до лета, погибают от истощения. «Плохо дело, когда белка пошла по березнякам»—говорят охотники. В необозримых сибирских лесах белку кормят семенами кедр, лиственница, пихта. Чем разнообразнее породы деревьев (особенно хвойных) в лесах, тем более обеспечена корками белка. Некоторые полагают, что жолуди могут заменить белке семена хвойных деревьев. Это неверно, и при обильном урожае жолудей белки не бывают сыты: жолуди далеко не так питательны, как семена ели: они содержат всего лишь около 4 процентов белков и 3 процентов жира. В семенах ели этих веществ в десять раз больше. Вот почему, питаясь жолудями, белка несколько раз в сутки вынуждена выходить из гнезда на кормежку, а наевшись семян хвойных деревьев, она спит зимой около 22 часов в сутки. В следующий после урожая шишек год белки усиленно размножаются, но спустя два—три года после урожая число их сильно сокращается, а дальше, когда шишки (падалица) сгнивают и перетачиваются начисто мышами, белки становятся очень редки: частью откочевывают, частью гибнут от толода. Гнездо, белки построено из прутиков, мха и мочала. Оно имеет шарообразную форму и помещается в развилках хвойного дерева. Толстый слой мха и мочала из растрепанной коры лилы или осины выстилает всю внутренность гнезда, и ими же белка затыкает в сильные морозы выход из гнезда. Юные охотники-натуралисты измерил- температуру в шестидесяти беличьих гнездах. Градусник показывал восемнадцать—двадцать градусов тепла в то время, как снаружи ртуть термометра падала до пятнадцати — восемнадцати градусов Цельсия, причем оказалось, что даже в тех гнездах, где белок не заставали «дома», было тепло. Белки очень •чувствительны к холоду, и, если бы не теплые гнезда, им бы не сдобровать. В середине февраля, а в южных районах и раньше, когда солнышко начинает заметно пригревать, белки оживляются. Самцы ищут самок, ссорятся друг с другом и забираются в гнезда только перед заходом солнца. После тридцати пяти дней беременности самка приносит от четырех до шести го-.леньких, слепых, очень маленьких (весом в семь—восемь граммов каждый) розовеньких детенышей. Еще задолго до появления новорожденных (за семнадцать дней) самка не только выгоняет самца из гнезда, но грозно преследует его, отгоняя подальше. Он поселяется вдали в наспех устроенном гнезде, не принимая никакого участия в воспитании детенышей. Самка одна заботливо выращивает их, ненадолго отлучаясь от гнезда, чтобы покормиться и попить воды. Белка, вскармливающая детенышей, ищет в лесу кости и -жадно грызет их. Без этого в молоке ее нехватает извести и фосфора, и бельчата раетут рахитиками. Бельчата развиваются сравнительно медленно: только к двадцать девятому, тридцатому дню от рождения у них открываются большие темные глаза. Зубы резцы едва намечаются в верхней челюсти к сорока дням, а в нижней к этому времени они вырастают до. полсантиметра. К сорок третьему дню от рождения белочки бегают, цепко удерживаются на сучьях и начинают есть ягоды, недозревшие мягкие семена трав, а на пятьдесят второй день они уже разгрызают кедровые орехи. В теплом гнезде белки разводится много паразитов—мелких клещей и блох. Когда жизнь среди этих кишащих паразитов становится невозможной, белка-мать перетаскивает бельчат в другое, свежее, заранее приготовленное гнездо. Если и там постигнет семью такая же беда, то выводок переносится в третье гнездо. У хорошей, заботливой матери таких запасных гнезд бывает от трех до пяти. Мать перетаскивает малышей в запасные гнезда и после какой-либо тревоги, например, после осмотра гнезда человеком. Маленькие рыженькие белочки очень доверчивы. Часто с цоканьем, ударяя лапкой по суку, они спускаются на нижние ветки и как бы стараются обратить на себя внимание проходящих. Белка-мать самоотверженно защищает своих детенышей в минуты опасности. Мы наблюдали однажды, как маленький рыженький бель-ченок сошел с дерева на дорожку и доверчиво побежал к нам. Мать его нервно взмахивала хвостом, прыгала по дереву, цокала и даже взвизгивала. Наконец, она не выдержала, когда огромная наша собака нависла над бельченком в мертвой стойке. Легко спрыгнув с дерева, мать быстро подбежала к детенышу, схватила его передними лапками и закинула, как горжетку, на шею. Когда мы опомнились, белка с детенышем сидела уже высоко на суку и сердито цокала на смущенного пса. В лето белки приносят по два, иногда и по три выводка, то-есть одна самка к зиме может дать до пятнадцати детенышей. К концу следующей зимы все белки способны размножаться, а рано родившиеся приносят иногда детенышей этой же осенью. Весенняя линька у взрослых белок заметна с середины марта, в апреле. Она начинается с головы, лапок и кончается огузком и хвостом, которые линяют долго. Пепельне-сизая шерстка тогда меняется на редкую, короткую рыжую летнюю. В середине августа начинается вторая линька, заканчивающаяся в ноябре. В это время рыжая летняя шерсто меняется на сизую или (на востоке) на темную, густую и длинную зимнюю шерсть. Осенью линька начинается с огузка и, подвигаясь вперед, заканчивается лапками и головой. Подпушь выпадает несколько раньше длинных ц жестких остевых волос. Во время линьки мездра (внутренняя поверхность шкурки) белок изменяется: там, где выпал старый и растет новый волос, появляются темносиние пятна. Это объясняется тем, что в луковицах (основаниях) волос образуется красящее вещество (пигмент), которое придает меху тот или иной цвет. Ясно, что на брюшке, которое у белок всегда белое, синих пятен на мездре не бывает. Когда волосы кончают отрастать, темные пятна исчезают на шкурке, а охотники говорят: «белка вышла». Тогда-то наступает пора охоты на белку. Прежде чем установить сроки начала охоты, производят пробные отстрелы белок: если синева на мездре видна только на передних лапках и на голове, то скоро отрастание зимних волос закончится совершенно. Хорошие охотники стреляют в начале охоты только таких белок, у которых шкурка «вышла», а кисточки на ушах не только отросли, но и загнулись концами назад. Настоящие охотники-специалисты охотятся на белок с собакой, которая прислушивается, присматривается и обнюхивает еловые чешуйки и стержни обгрызенных белкой шишек, исследуя, не примешан ли к их смолистому аромату и свежий запах белки. Найдя белку, собака начинает лаять, но без особого азарта, иначе белка может пойти наутек, и в густом лесу за ней трудно уследить. Охотник подходит на лай и стреляет белку, которая, не подозревая опасности, с любопытством смотрит на собаку. Более Ьсех к этой охоте способны собаки из породы лаек, но нередко удается приучить и простую дворняжку, в которой есть охотничий азарт. Белки населяют все лесные области СССР, но отсутствуют в горных лесах Средней Азии, куда они не могли проникнуть с севера, так как должны были пересечь огромные степи. По той же причине белок не было на Кавказе и в Крыму, куда они успешно вселены недавно человеком. На Северный Кавказ (в Тебердинское ущелье) привезено и выпущено з 1937 году сто тридцать четыре алтайских белки и в Крым (1940 год) сто пятьдесят телеуток. На Камчатку, где белок не было, они пришли в 1920 году из Якутии сами, преодолев большие тундры, и заняли почти всю лесную часть полуострова. Белка—самый распространенный пушной зверь в СССР. Охотятся за ней много десятков тысяч охотников. От полного уничтожения белку спасают ее плодовитость, громадные пространства лесов, заселенных белкой, и глухие места, где охота за белкой почти не производится, а главное — охотничьи законы. На громадной территории СССР мех белок очень разнообразен по окраске и качеству. Лучшей в СССР, имеющей зимой самый пышный светло-•сизый мех, серый хвост и огненно-рыжие кисточки на ушах, считается крупная белка-телеутка. В восточных горных районах СССР (Якутия и Дальний Восток) белки отличаются темным зимним пышным волосом. Темные белки преобладают и в’ Буковине. Обычно белки не превышают двадцати двух—двадцати трех сантиметров длины от кончика носа до корня хвоста, а телеутка достигает двадцати семи сантиметров. Она живет в изолированных сосновых борах пред-алтайских степей, вдоль по рекам Иртышу (Усть-Камено-шрск—Павлодар), Оби (Ойрот-Тура—гора Камень) и в сосновых лесах Челябинской и Курганской областей. Теперь она появилась в Крыму и в красноярских сосновых лесах, куда выпущена недавно. У белки много врагов в природе. Как молния, нападает на нее ястреб-тетеревятник. Едва успевает она увертываться от него, вертясь вокруг ствола и стараясь добраться до густых ветвей, гнезда или дупла. Но нередко громадные когти этого страшного хищника Ёонзаются в тельце белки. Очень часто ловят белок ястреб-перепелятник и филин, а также совы—каменная неясыть и длиннохвостая. Горностай иногда залезает в гнезда белок, но чаще этим занимается похожий на хорька сибирский рыжий колонок. Домашние кошки подстерегают белок на земле. Нам пришлось наблюдать не раз, как выслеживала и ловила белку лисица. Она терпеливо ждала, когда белка, чуя под снегом орех или шишку, закапывалась, преодолевая смерзшийся после оттепели поверхностный слой снега. Когда же эта преграда была раскопана и зверек исчезал в снегу лисица бросалась к норке, из которой белка сама лезла в-рот хищнику. Наблюдались и такие случаи, когда лисица ловким прыжком успевала сорвать вскочившую на дереве* белку. Но самый страшный враг белки—это куница.
Лесная куница Белка смертельно боится этого ловкого лесного хищника,. Всю ночь шарит куница по беличьим гнездам, стараясь захватить врасплох сонную белочку и вонзить в ее шею свои острые зубы. К счастью белки куниц не так уж много: охотники усиленно преследуют этого ценного зверька, да и размножается он плохо. Куница кочует за белками и тоже делает громадные переходы. Хотя она уничтожает зимой много мышей, ловит спящих в снегу рябчиков, тетеревов, белых куропаток, ночующих в дуплах дятлов, иногда и зайцев, но все же главная и любимая ее добыча—белка. Куница охотится по ночам, когда белка, насытившись, днем, мирно спит, свернувшись в своем теплом гнезде. Парные следы, которые остаются при прыжках куницы на снегу, ведут от одной старой ели к другой. Куница быстро взбирается на дерево, разыскивая гнездо со спящей: белкой. В лиственных лесах, где такие елки стоят одиночками или небольшими группами, куница во время своей ночной охоты не пропустит ни одной ели, не обследовав ее (след пропадает у ствола ели и идет дальше с противоположной стороны ее). После долгих странствий куница замирает, наконец, у гнезда, которое издает свежий запах белки, G осторожностью определяет она место входа, заткнутое изнутри мхом или липовым мочалом, с силой вламывается в гнездо и хватает спящую хозяйку. Белка с криком старается вырваться, из гнезда на снег сыплется мусор (строительный материал), и редко когда кунице удается задушить белку в гнезде; чаще оба зверька, цепляясь за сучья, падают в снег, где и заканчивается их поединок. На снегу от падения двух зверьков остаются ямка, несколько капелек крови и глубокая бороздка от ямки к стволу ели, на которую потащил ночной хищник безжизненный труп белки. Удобно расположившись в гнезде только что убитой белки, голодная куница сейчас же приступает к долгожданному обеду. Она прокусывает голову белки и, начиная с мозга, съедает весь череп с костями и зубами. Больше лоловины белки она осилить не может и крепко засыпает, оставив заднюю часть добычи до следующей ночи. Если белок в лесу мало, то на другой день охотник не увидит следов куницы, которой незачем выходить на охоту. Лишь на третью ночь после описанной кровавой расправы, доевши заднюю половину белки, хищник отправляется искать новую жертву. Но если белок много, то куница, оставив недоеденной заднюю часть, давит в следующую ночь новую белку. Во многих гнездах, обследованных нами, мы находили такие половинки белок. Не всегда, впрочем, так легко достается кунице белка: бывает, что куница ошибается и вместо входа начинает ломиться в гнездо сквозь плотную стенку, сложенную из прутиков. Тогда белка, как стрела, выскакивает из гнезда и, распластавшись в воздухе, летит в снег. Следом за ней прыгает и куница. У обеих очень ясно зарисовываются при падении на снег пушистые хвосты. Но перевес не на стороне белки, которая не привыкла к ночной темноте, да к тому же она значительно слабее куницы и скоро начинает уставать. Все описанное можно прочесть по ночным следам куницы. Отойдя шагов на двадцать, охотник целится и стреляет немного ниже центра гнезда. Обычно смертельно раненная куница выскакивает сейчас же, в предсмертных судорогах виснет на сучьях и замертво падает на снег. Но в случае промаха, она с такой быстротой идет по деревьям или низом, что охотник чаще всего промахивается из второго ствола и теряет ее из виду. Нередко куница за всю ночь не найдет ни одной белки, и тогда, полуголодная, закусив одной—двумя мышами, ягодами рябины, шиповника, она спит под кучей хвороста, под корнями деревьев, в дупле или в старых беличьих гнездах. В случае большого голода она бродит и днем.
Нападение куницы на белку Иногда куница живет близ улья диких пчел, медом которых она питается. К этому дуплу-улью зимой бывает протоптана куницей торная тропа В марте куница начинает линять, и мех ее теряет ценность. В конце зимы самки выбирают в глухих участках леса дуплистые, старые деревья и устраивают там гнезда. Вход в гнездо чаще всего бывает близ вершины дерева. Детеныши, родящиеся в конце марта, начале апреля, помещаются много ниже на трухе, сухих стеблях трав и перьях, натасканных матерью. В дупле, как в высокой трубе, теплый воздух от гнезда струится вверх, а снизу сквозь труху постепенно притекает свежий, как при хорошей вентиляции. В Московском зоопарке нам впервые удалось добиться размножения в неволе лесной куницы. Оказалось, что ее детеныши родятся покрытыми очень короткими, видными только в лупу, белесыми волосками. Длина кунят от кончика носа до корня хвоста равнялась десяти сантиметрам, длина хвоста двум и восьми десятым сантиметра; вес куняг— двадцать один—двадцать восемь граммов. Малыши, впрочем, быстро обросли темной шерсткой, а глаза у них открылись только на тридцать четвертый—тридцать девятый день от рождения. Уши, заросшие при рождении кожей, открылись к двадцать шестому дню. К середине июля кунята были уже настолько большими, что едва отличались от взрослых. Срок беременности куницы оказался не сорок дней, как •считали раньше, а более восьми месяцев (не превышая девяти). Почему же, спросите вы, никогда зимой в утробе убитой самки куницы не находят детенышей? Оказалось, что после •спаривания (в конце июля) образовавшиеся зародыши бывают так малы, что их не видно простым глазом. Зародышей ее можно рассмотреть только в микроскоп. Всю зиму они не развиваются и только весной начинают расти. Беда всем мелким зверькам и пернатым обитателям, когда куница воспитывает детенышей. Хищнические наклонности куницы в это время не знают предела. Она душит всех, с кем может справиться,—от насекомого и лягушки до зайца и глухаря включительно. Даже рыба не застрахована от нее: куница может ловко нырять и долго оставаться под водой. Много поедает она жуков и личинок насекомых. К августу— сентябрю молодые кунята расходятся и ведут одиночный образ жизни. Молодые, как оказалось, долго не способны размножаться: только в трехлетием возрасте приносят они в первый раз детенышей. Куницы приносят чаще всего трех, реже четырех и еще реже пять и даже семь детенышей. Зная теперь, что этот зверь очень медленно размножается, нам приходится особо беречь его, как очень денного пушного хищника. Вот почему так часто объявляется полный запрет охоты на куницу. Лесная (или, как ее называют пушники, мягкая) куница населяет леса Западной Европы, а в пределах СССР — лесную и лесо-степную полосы к западу от Урала. За Урал лесная куница заходит не далее реки Оби. На юге СССР она живет только в лесах Северного Кавказа. Куница лесная отличается желтым горловым пятном. Куница каменная У куницы-белодушки (горской, каменной) белое горло, от которого идут снизу вдоль брюшка две белые полоски. Если лесная куница охотится, главным образом, залезая на деревья, то каменная промышляет на земле, ловя мелких грыт зунов, птиц, насекомых. В отличие от лесной куницы бело-душка часто залезает в курятники и опустошает их еще сильнее, чем хорек. Эта куница отличается более грубоватым волосом и распространена в южных частях СССР, населяя Кавказ, Крым, Украину, горы Средней Азии, но редка в Тарбагатайских и Алтайских горах. С лесной куницей она встречается только на Кавказе и в Западной Европе. В Тифлисском зоопарке белодушка с лесной давала помеси (гибриды). Вероятно, это случается и на Кавказе, где у очень редких белодушек наблюдается слегка палевое (беловатое) горловое пятно, Бёлодушка поселяется часто в строениях, старых колокольнях, в норах, в расселинах скал и камней и дуплах. По деревьям она лазит хорошо, но чаще лишь спасается на них от врагов. Сроки размножения, развития детенышей, по нашим наблюдениям, у нее такие же, как и у лесной куницы. В 1936 году куницы-белодушки были выпущены в Ерах-торском районе, на территории Окско-Касимовского охотничьего хозяйства в урочище Лаптев лес. Эти шестьдесят восемь куниц (из них тридцать четыре самки) привезены из питомника с Кавказа. Многие из них поселились в колокольнях церквей, где и размножаются. Добывать куниц можно только по особым разрешениям. Охотникам необходимо всегда помнить, что куница размножается медленно; следить за тем, чтобы к весне достаточное число зверей было оставлено на племя, и кончать охоту в строго назначенный срок.
Xарза К счастью многих зверей и птиц, эта очень крупная куница живет у нас только в Уссурийском крае. На коротких сильных ногах, с черной головой, белым горлом и белой нижней челюстью, золотистой шкуркой и черным хвостом харза очень красива. Однако шкурка ее ценится невысоко, так как волос на ней груб и короток. Это—вредный хищник, от которого нет спасения ни белке, ни соболю. Даже крупные животные, как косуля, кабарга, енотовидная собака, не всегда избегают при встрече с нем гибели. Молодые харзята, родившиеся весной, остаются с матерью и зимой. Заметив соболя, харза сейчас же загоняет его на дерево, как и белку. Легка белка, но харза проворнее и прыгает дальше. Нет несчастной спасения и на земле, где ждут ее, не спуская с добычи глаз, молодые харзы. Харза спаривается, как соболь и куница, в июне—июле, а детенышей (двух—трех) приносит весной. В Московском зоопарке харза несколько лет спаривалась именно в эти сроки. Всеми способами необходимо истреблять этого страшного хищника. Держится харза как в лиственных, так и в хвойных лесах. Харза у местных жителей называется «менгуза». Откуда же взялась менгуза в Уссурийском крае? Много тысяч лет тому назад, переселяясь к северу, харза пришла сюда через Китай из Индии, где распространена и сейчас.
Соболь Н а этого зверька (соболь из того же семейства куньих) охота разрешается только по особым удостоверениям (лицензиям), в которых указывается, где, в какие сроки, кому и сколько можно добыть (шкурок или живьем) соболя. Почему? Дело в том, что до Великой Октябрьской социалистической революции в России этого ценнейшего зверька выбили настолько, что он уцелел всего в нескольких местах. Теперь его разводят, охраняют и переселяют. Особенно сильно сократились самые ценные баргузинские, якутские и камчатские соболи. Поэтому советское правительство организовало специальные соболиные заповедники. В обширных лесах Сибири, от Урала и до Тихого океана живут разные по окраске и величине соболи. Черные соболи водятся в Баргузинских горах, шкурки их ценятся особенно дорого; самые крупные соболи живут на Камчатке. Светлые со боли встречаются на Урале, в Западной Сибири. Есть соболи и на Алтае, в Саянских, в Сихоте-Алинских горах, вдоль Татарского пролива, на Сахалине, Шантарских островах; самые же маленькие соболи распространены далеко на севере, близ низовья реки Лены (жиганские). Нигде ь мире, кроме СССР, соболей нет. Соболь отличается от куницы-желтодушки гораздо более шелковистой шерстью, светлой головкой, значительно более коротким хвостом, горловым пятном, которое (если оно большое) не резко ограничено, а расплывается постепенно на шею и бсжа. Лапы соболя сильно опушены, почему следы его кажутся много больше, чем следы куницы. Соболь—житель леса. Соболь охотится по низу и чаще днем. По деревьям лазит прекрасно, но таких прыжков с дерева на дерево, как куница, не делает. Его главная добыча— мыши, полёвки, бурундуки; ловит он и рябчиков, даже иногда глухарей. Немало съедает соболь кедровых орехов, ягод;, в ключах ловит рыбу. Особенно хорошо чувствует себя* этот ловкий, сильный зверек в зарослях кедрового стланца, через который по горам почти невозможно пройти охотнику. В этих стланцах бывает много некрупных кедровых шишек. Там, где соболей охраняют уже давно, например, в Кондо-Сосьвинском заповеднике, расположенном северо-восточнее Уральских гор по рекам Конде и Сосьве,—притокам Оби,—там их так много, что в подходящих для соболей местах на каждом километре пути можно встретить след, одного или двух соболей (на сто гектаров леса—один соболь). Жилище соболя зимой не постоянно. Он охотится то в одном, то в другом конце занимаемого им участка леса, а, наевшись, спит иногда в дупле, чаще под корнями большого дерева или же з камнях. Этот зверек готов подолгу караулить мышь или другую добычу, как кошка. Он загрызает даже зайца-беляка и, говорят, нападает на кабаргу. Соболь редко попадается на глаза, и только его следы на снегу подробно рассказывают охотнику обо всем, что случилось с этим отчаянным хищником во время его охоты. В природе наблюдать за размножением соболя не удается. Поэтому-то мы очень обрадовались, когда уральская соболюшка по кличке «Кривой зуб» 3 апреля 1929 года ( в неволе —впервые в мире) принесла в Московском зоопарке детенышей. Эта самочка раскрыла нам все тайны, связанные с размножением соболей. После и другие соболюшки подтвердили правильность наблюдений, сделанных над «Кривым зубом». Мы узнали, что соболи спариваются не весной, как думали раныце, а в июле, что срок беременности соболюшек не полтора месяца, а около девяти месяцев. Далее мы выяснили, что молодые соболи способны (за исключением редких случаев) приносить первое потомство только в трехлетнем возрасте. В дальнейшем уральская соболюшка «Муська», ручная, как кошка, позволяла даже при родах брать в руки детенышей. Мы впервые узнали, что соболята родятся белесыми, покрытыми короткой шерсткой, которая уже через два—три часа после родов становится темной (в тепле шёрстка росла белой, а на холоде темной). У «Муськи» можно было брать соболят для взвешивания, измерения и зарисовки. Только что родившиеся детеныши весили 32,7 грамма, а их длина 11,9 сантиметра, длина хвоста—3 сантиметра. Глаза у соболят открылись на тридцать четвертый—тридцать шестой день от рождения, а слуховые отверстия—на двадцать четвертый—двадцать шестой день. К середине августа соболята становились почти взрослыми, а взрослые к этому времени начинали уже постепенно менять летнюю шерсть на зимнюю. Жалко было смотреть на соболюшку «Муську», когда она состарилась. К 1938 году у нее не осталось во рту ни одного зуба—только редкие, едва заметные в деснах стертые корешки. «Муська» не могла уже лазить, ходила пошатываясь, а голова ее тряслась старческой дрожью. В апреле 1938 года она все же родила соболят, но не могла их кормить. Соболят пришлось положить под кошку. «Муська» дожила до 18 сентября 1938 года и пала в возрасте тринадцати лёт пяти месяцев от рождения. Это, как заметили мы и по другим соболям, надо считать почти предельным сроком жизни соболей. Зверек этот не выносит прямого солнечного света: случаются тяжелые припадки, приводящие нередко к гибели. У соболя есть серьезные враги. Видели, например, как ястреб-тетеревятник тащил в когтях молодого черного соболя. На него нападают филины, а иногда и хищные звери. Особенно страдают молодые, доверчивые зверьки. Но самый пасный враг соболя—это лесные пожары. В голодные годы соболь особо далеких путешествий, как, например, белка, не совершает. Соболь поселяется нередко в каменистых россыпях, где охотится за бесхвостыми зверьками сеноставками (пищухами). На Урале, где соболь встречается с лесной куницей, охотники добывают странного зверя, похожего на соболя и на куницу вместе, которого зовут кидусом. Кидус—это помесь соболя и лесной куницы. Теперь это доказано совершенно точно. В Ростовском зоопарке и Пушкинском зверосовхоза от спаривания самцов соболя с самками куниц получены такие же, как и на Урале, кидусы.
Горностай За этим зверьком обычно охотятся не с ружьем, а с калканами, кулёмками и прочими самоловами, особенно в промысловых районах. Живет он исключительно на земле. Правда, лайкг загоняет иногда горностая на дерево. Нэ лазит он много хуже куницы и, забравшись на дерево, смирно сидит на суку, когда на него лает собака. Чаще всего горностай при погоне старается скрыться в какую-либо норку, под валежник или в кучах камней. Парные следы горностая несколько похожи на куньи, но гораздо меньше их. В годы, когда мало мелких грызунов, горностай ходит очень много и за ночь избороздит следами лес, болота, тростники озера по всем направлениям. Его следы парные, с расстоянием между отпечатками двадцать—сорок сантиметров, а на больших прыжках и до девяноста сантиметров. Осенью горностай быстро линяет. Его мех только тогда ценится, когда рыжеватая летняя шкурка становится белоснежной и лишь кончик хвоста останется черным. Этот зверек чрезвычайно смел. Он нападает на животных гораздо крупнее себя. Охотится он ночью, но нередко и днем. Основная же добыча горностая—мышевидные грызуны, которых он преследует в лесах, полях, в скирдах, сараях. Особенно достается от этого белого хищника водяным крысам,, живущим на берегах рек, озер и болот. Горностай свободно шныряет по норам этих грызунов, которым нет от hero спасения. В клетку горностая мы пустили однажды трех водяных крыс. Не прошло и полминуты, как все они были умерщвлены молниеносными укусами в затылок Горностай съел тогда только мозг этих крыс. Норы более мелких полёвок, где царит маленькая ласка, не всегда доступны горностаю. Он ловит этих зверьков тогда, когда они выходят кормиться. Не раз наблюдали охотники, как метался заяц, в шею которого вцепился горностай. Мне показалось раз, что из снега выглянули на меня три черные точки. Это были два выпуклых глаза и черный носик горностая. Одно мгновение смотрел он на куропаток, сидевших вдали, и скрылся в сугробе. Не прошло и двух минут, как маленький белый зверёк мертвой хваткой держал за шею бьющуюся в предсмертных судорогах птицу. Он подобрался к ней под снегом, верно определив расстояние. Один раз мы заметили торную тропинку, протоптанную в свежем снегу горностаем от густой елочки к гнилому пню. Там под мхом оказались восемь обезглавленных длиннохвостых синичек. Хищник съел их головки, а тушки сложил в запас. Он загрыз их ночью, когда птички, тесно прижавшись друг к другу, спали. В другой раз меня заинтересовал след горностая, сбоку которого тянулась зигзагом полоска. Дойдя до конца следа, под кучей хвороста мне удалось обнаружить большую гадюку с отъеденной головой. Змею горностай вытащил из-под торфа, где, вероятно, собрались змеи на зимовку. Этот энергичный зверек продолжает охотиться и тогда когда сыт, таская добычу в свои склады, где можно найти водяных крыс, полёвок, птичек. Горностай редко копает 1землю сам (у него слабые когти), чаще всего он занимает норы других животных или живет в расселинах камней. Нам пришлось наблюдать горностая среди колонии пищух, которые в горах (Саянских) осенью сушили сено и складывали его на зиму в стожки. Горностай шел прямо к нам, как бы не замечая разбегавшихся перед ним пищух, за счет которых он безбедно жил, пролезая во все их убежища. Горностай был еще в темном наряде со сверкающей белизной манишкой. Господство здесь горностая означало, что поблизости нет рыжего колонка и тем более соболя. Соболь особенно не терпит горностая в своем охотничьем районе. Он гоняется за белым отчаянным зверьком не только по поверхности» но и под рыхлым снегом. Однажды две мои собаки лаяли на кучу камней посреди доля. На них из камней шипел горностай, а когда нос собаки слишком приближался к куче, то внезапно высовывалась золовка горностая, и резким криком «кэк» он заставлял отскакивать нападавшую. Из-под последних поднятых мною камней выскочил коричнево-рыжеватый зверёк с черным кончиком хвоста и помчался к лесу. Десятый раз настигая его, стукались собаки лбами,.а горностай, резко меняя направление, добрался все же до леса, вскочил на дерево и растянулся, позевывая, на суку. Не трогайте горностая, быстро переплывающего реку. Oн поспевает вскочить на весло или шест, которым вы пытаетесь его! ударить, быстро пробежать по нему и броситься на руки или в лицо гребцу. Нам известны два случая, когда такое внезапное нападение кончалось катастрофой; от неожиданности гребцы шарахались в сторону и опрокидывали лодку. Наблюдением в Казанском зоосаде установлено, что горностаи спариваются в конце лета, а детенышей приносят в апреле. Срок беременности их примерно такой же, как и у куниц, то-есть около восьми месяцев. Горностаи, рожденные-весной, уже в конце лета (в трех—четырехмесячном возрасте) способны спариваться, а следующей весной рожать слепых, белесых горностайчиков. На свет появляется их целая куча—десять, тринадцать и более штук. Самец помогает самке воспитывать молодых. Родители смело защищают малышей, нападая на животных, крупнее себя. В годы, обильные грызунами и благополучные для горностая, он дает многочисленные скороспелые выводки. Кроме неурожая грызунов, горностай страдает от болезни, вызываемой глистами, которые проникают из носа в лобные пазухи. Особенно быстро распространяются эти глисты сырым летом, когда много улиток, переносчиков личинок этих глистов. Горностай населяет почти весь СССР, кроме Крыма, пустынь Средней Азии и Южного Казахстана. Горностай в СССР не добывается в том количестве, в котором следовало бы. Усиленным размножением он быстро восстанавливает поголовье. Но горностаев, поселившихся g скирдах, стогах и амб,арах, следует сохранять,,так как это лучшие сторожа сена и хлебов от мышей, крыс и полевок. Совершенно белый мех горностая с черным кончиком хвоста очень красив и обладает хорошими техническими качествами. Стрелять горностая запрещено, так как от дроби портится его белая шкурка. Часто желтеет мех горностая, попавшего в капкан. Поэтому наиболее распространена охота на этого зверька с особыми самоловами «ледянками» и черканами.
Черный хорь Этот зверек также очень полезен в борьбе с мышами и крысами в полях, в скирдах и амбарах. Шкурки хорей очень высоко ценятся, и их в нашей стране добывается много. По своему значению в заготовках пушнины хорь стоит на четвертом месте Как и все куньи, хорь очень хищен, он давит иногда кур. Хорьки спариваются в конце марта и в апреле, а через сорок два дня самка рожает (в норе, под кучей хвороста, в подвалах строений и других местах) от четырех до, семи детенышей. Хорята родятся очень маленькими, что пришлось нам наблюдать впервые в Московском зоопарке. Самка, спарившаяся 28 апреля 1935 года, принесла шесть хорят 9 июня 1935 года. Нам, работникам зоопарка, было очень интересно посмотреть, какими же родятся черные хорьки, ведь никто еще не видал их в день рождения. Самку, которая не допускала нас к детёнышам, мы перегнали в другой домик, куда она успела утащить с собой одного детёныша. Хорята были jaK нежны, что мы опасались, как бы не раздавить их пальцами. Длина тела хорят равнялась семи сантиметрам, хвоста—двум с половиной сантиметрам. Вес хорят—7,17 грамма. Все они были слепые, уши у них закрыты, шёрстка белая, редкая и короткая Глаза хорьков открылись на тридцать четвертый — тридцать шестой день. К этому сроку хорята стали темными, но загривок у них еще более недели после того оставался пепельно-седым. Хорьки способны к размножению на следующую же весну после рождения. Хорьки, как и все куньи, схватив добычу, не отпускают ее, хотя бы животное сопротивлялось и даже кусало хорька. Черные хорьки, взятые слепыми и выращенные дома, при хорошем с ними обращении, могут жить в доме так же, как домашняя кошка. Они не кусаются, любят ласку, играют, терпеливо караулят мышей и крыс, которых ,ловят очень ловко. Хорьки исключительно опрятны. Они распознают «своих» от «чужих» и посторонним далеко не всегда позволяют себя гладить. Выращенные вместе с домашней птицей и кроликами, некоторые хорьки перестают их трогать, но вообще охотничьи инстинкты у хорьков очень сильны. Рассерженный или очень напуганный хорь издает резкий неприятный запах, выпуская жидкость из двух желёзок под хвостом. Хорьки доживали в неволе до двенадцати лет и погибали от полного одряхления. Черный хорь распространен в европейской части СССР, от Карелии до Ирбита на севере, заходя несколько за Уральские горы до Орска, а южная его граница проходит через Ростов-на-Дону и побережье Азовского моря. От норки хорь отличается более длинной и редкой темной шерстью, темным хвостом и белыми краями ушей. Линяет он два раза в году. Следы хорька часто похожи на следы очень маленьких зайчат. Но он идет, как говорят, в «три ноги», иногда оставляя и парные следы. В камышах на ручьях хорек производит опустошения в колониях водяных крыс. В голодное время зимой хорек часто ищет добычу на дне ручьев, где под камнями ловит зимующих лягушек. Он есть и жаб. Иногда хорьки, выловив грызунов, переселяются, покидая обжитую нору. Можно видеть тогда, как на много километров, прижимаясь ко дну придорожной канавы, к заборам, к густым опушкам, тянется ровный след хорька. Черный хорь селится в перелесках, в зарослях по берегам ручьев и рек, в вырубках и близ возделанных полей, в деревнях и даже больших городах. Хорь степной (белый) Шкурка степного хоря резко отличается от темного хоря светло-палевой, иногда белой окраской, когда редкие, темные остевые волосы не скрывают светлой подпуши. Легче всего узнать белого хоря по двуцветному хвосту: у основания светлому, а на конце—черному. На груди и задней части брюшка у этого хоря черные пятна. Белый хорь—гроза сусликов, хомяков, /а в сырых местах и тростниках степных озер—водяных крыс и ондатры. Наиболее опасны для грызунов самки, которые значительно меньше самцов и пролезают во все сусличьи норы. Самцы в среднем на пять сантиметров длиннее самок, достигают длины в сорок пять сантиметров от кончика носа до корня хвоста. Самая маленькая самка, не длинее двадцати девяти сантиметров, то-есть она немного крупнее белки и свободно может пролезть даже в норы тушканчиков и самых мелких видов сусликов. Степные хорьки охотятся не только по ночам, но и днем, особенно там, где их не преследуют. Они ловят сусликов, которые выходят на кормёжку после восхода солнца. Редко эти хорьки роют новые норы, чаще всего они расширяют ходы сусликов и других грызунов, увеличивая и число отнорков. «Хорь любит копать,—говорят колхозники,—часто выкидывает свежую землю». Да как и не выкидывать, когда в норе скапливается много недоеденных гниющих остатков мяса, костей, а то и запасов портящегося корма. Мы находили по пятидесяти и более трупов полёвок и сусликов в одной норе хорька! Если бы хори не чистили норы, то жизнь в них стала бы невозможной. Недаром в норы к ним лезут синие мясные мухи, жуки-могильщики. Не в-сегда степные хори живут постоянно в одной и той же норе. Чаще всего это бывает только в период вскармливания молодняка. В конце марта, в начале апреля хорьки бывают очень оживленны. В это время можно видеть на снегу вереницы следов, а местами на утоптанных площадках—капельки крови и клочки шерсти сражающихся самцов. Через тридцать восемь—сорок один день после спаривания, то-есть в первой половине мая, рождаются розоватые, покрытые нежным, редким белесым пушком многочисленные детеныши (до девятнадцати штук). Вес новорожденного хорька всего пять—шесть граммов. Сравнительно с черным- хорьком белые новорожденные имеют более короткий хвост и меньший вес (если их родилось много). Хорьчата растут быстро, но слепыми и глухими остаются долго: глаза открываются у них на тридцать первый—тридцать пятый день. В Московском зоопарке белые хорьки становились способными к размножению в возрасте около десяти месяцев. У некоторых самок мы оставляли самцов при выводке. Если домики были тес.ны, то родители иногда давили во время сна малышей, но в просторных гнездах самцы усиленно помогали матерям вылизывать многочисленное потомство. Здесь интересно отметить, почему все матери, рождающие слепых детенышей, вылизывают их. Оказалось, что родители прежде всего лижут тех детенышей, которые пищат, а пищат они потому, что не могут без помощи матери или отца освободиться от кала и мочи. Чем сильнее «нужда», тем крепче сжимаются у детенышей мускулы кольцевых клапанов, замыкающих конец прямой кишки и мочевого канала. Только массаж (щекотанье) этих мест заставляет открыться клапаны. Если бы детеныши могли справляться с нуждой сами, то в гнезде создались бы такие антисанитарные условия, при которых жизнь многочисленного семейства.в тесном логове была бы совершенно невозможной,-—семья вымерла бы. Так, путем естественного отбора в природе за многие тысячи лет установился этот важный закон, по которому слепые детеныши зверей скорее погибнут от переполнения кишок и мочевого пузыря, чем освободятся от испражнений сами, без посторон-дёй помощи. Только когда откроются глаза и детеныши смогут подальше отползать от гнезда, кончается действие этого сурового закона. К трехмесячному возрасту молодых хорьков уже трудно отличить от матери, и они начинают постепенно вести самостоятельную жизнь—все дальше и дальше отходить на охоту от норы. К зиме каждый хорек занимает свой охотничий участок. Мать и отец отчаянно защищают детенышей. Если, например, во время прогулки выводка к хорькам приблизится человек, то старые хори могут напасть на него. Замечено, что если усиленная охота на степного хорька сокращает его численность, то хомяки, суслики, полёвки и водяные крысы, быстро размножаясь, начинают уничтожать посевы хлебов и корнеплодов. Из сказанного ясно, что, охотясь за хорьками, необходимо •часть их оставлять на племя, не облавливая все норы. Если же хорь сильно сократился, а грызуны размножились, то необходим и полный вапрет на добычу хоря на несколько лет. Белого хоря добывается в СССР в три, а в некоторые годы и в четыре раза больше черного:, так как он по сравнению с черным хорем занимает гораздо большую площадь. Он обитает в лесостепи, степи, пустынях, предгорьях как европейской части СССР, так и Сибири и Средней Азии. На восток он доходит до Благовещенска. Совершенно нет белого хоря в Закавказье.
Колонок Ростом колонок с черного хорька, но отличается от нега красивой рыжей шкуркой, На мордочке между носом и глазами у колонка резко обозначается темная «маска». Редко живет колонок в глухих, мрачных лесах. Чаще всего его можно встретить в долинах лесных сибирских рек, ручьев, на лесистых горах, там, где много бурелома, полян, кустарников. В открытую степь колонок почти не выходит. По зимнему следу колонка можно пройти восемь—десять; километров, прежде чем дойдешь до места, где спрятался зверёк после долгой ночной охоты. Следы его парные с расстоянием между парами при обычном беге в тридцать пяте* сантиметров. Колонок охотится в кустарниках, по опушкам, в тростниках, избегая выходить на открытые места. Короче говоря, он охотится там, куда не заходит белый хорь. В степных перелесках, где эти два зверька встречаются, охотники добывают иногда больших рыжеватых хорьков величиной почти с кошку, похожих и на колонка и на белого хоря. По всей вероятности, это помеси, хотя точно это еще не установлено. Путаный след охотящегося колонка идет то вдоль ручья1 ло кустарникам, то пересекает лесные, участки, нередко пропадает у подножья деревьев, на которые он лоеко взбирается. На деревьях колонок обследует дупла, где ловит ночующих дятлов, синичек и белок. Но главная зимняя добыча колонка — водяные крысы и полёвки. Редко в желудках колонков зимой находили мы перья, остатки лягушек, насекомых, В отличие от белого хорька, этот рыжий хищник заходит в деревни и даже города, где ловит крыс, а иногда нападаем как черный хорь, на кур, голубей и кроликов. За последние десятилетия колонок, живущий в Сибири, расселяется на запад и стал обычным охотничьим зверьком в восточных областях европейской части СССР. С конца марта и в апреле можно видеть на снегу вереницу следов колонков, бегающих за самкой. После примерно месячной беременности самка приносит в норе под корнями деревьев, в камнях, иногда под постройками до десяти де-• тенышей, чаще семь—восемь. Как у всех зверьков, относящих-: ся щ семейству куниц, новорожденные покрыты белым пушком. Около тридцати и более дней детеныши колонка бывают слепы. К августу выводок расходится. Молодые способны размножаться следующей* весной. После весенней линьки рыжая шкурка колонка становится бурой. К ноябрю буроватая летняя шерсть сменяется! пышной рыжей, зимней. В сильные бураны и морозы зверек больше спит в теплой норе или в дупле, расходуя собственные запасы жира. Колонки, впрочем, как и другие хорьки, делают значительные запасы водяных крыс и полёвок. Злейшие враги колонка—филин, лисица, соболь. Не каждый год бывает много колонков. Больше всего их в те годы, когда родится большое количество водяных крыс и мышей. Иногда, особенно на Дальнем Востоке, можно встретить переселяющихся колонков, проходящих большие-пространства. В пушнине колонок имеет большой удельный вес. Солонгой (горный колонок, сусленик) Если колонок достигает тридцати девяти сантиметров; длины, та солонгой на десять сантиметров короче его. Окраска солонгоя буро-желтая, голова без «маски», хвост не пушистый. Этот зверёк чаще обитает в горных лесах, каменистых районах и в тростниках озер. Он населяет Тянь-Шань, Тарбагатай, Алтай, Саяны, Дальний Восток, встречается близ Балхаша в тростниковых зарослях и по гривам. Как и колонок, солонгой охотится в основном за мышевидными грызунами, нападая не только на мелких, но: и на таких крупных,, как ондатра. Солонгой хорошо лазит по деревьям. Размножается так же, как и колонок, принося от семи до десяти детенышей. Охотится солонгой чаще ночью, но нередко и днем, держась близ рек и ключей, ныряя иногда за кормоц в воду.
Европейская норка Этот зверёк избрал местом своих охот ручьи и реки. Норка замечательно ныряет и добывает пропитание под водой. Шкурка ее стоит дороже хорьковой, так как ее мех гораздо плотнее, а ость почти не выдается над подшерстком. Следы норки похожи на следы куницы, но лапки парного следа поставлены ближе друг к другу, так что иногда кажется, что здесь не два отпечатка задних лапок рядом, а один большой (как у лисицы). Около пня или подмытого берега, где норка вырыла себе убежище, можно заметить целые тропинки, пробитые ею в снегу. Из жилой норы сильно пахнет зверьком. Норка, как и ее ближайшие родственники (куница, горностай, ласка, хорь), часто ловит добычи больше, чем может съесть, например, лягушек. Норка спаривается в апреле. Срок ее беременности колеблется, но чаще всего продолжается сорок два — сорок пять дней. В Московском зоопарке норчата родились покрытыми короткими белыми волосками и весили по шесть с половиной граммов. Длина их была—8,6 сантиметра, длина хвоста — 1,8 сантиметра. Развитие молодняка проходило так же, как п у черных хорей. Способными к размножению норки становятся на следующий год. Там, где за норками усиленно охотятся, эти зверьки быстро исчезают, так как норки упорно держатся только теас речек, на которых они родились, и не склонны расселяться. Этим й объясняется, почему до сих пор за многие тысячелетия наша норка не расселилась по Сибири. В каждой речке, где отлавливаются норки, необходимо оставлять некоторое количество их на племя. На нашу норку довольно часто устанавливается запрет охоты. Весенняя линька норок очень растянута и протекает незаметно, переходя в осеннюю, которая в свою очередь заканчивается столь же неясными переходами к зиме. Норка распространена в европейской части СССР, за исключением Кольского полуостровй, тундры, прикаспийских пустынь и Крыма; по восточному склону Уральских гор она заходит и в Сибирь до Иртыша. Норка встречается и на Северном Кавказе. Северо-американская норка От европейской норки она отличается темной верхней губой (у европейской белые обе губы); белые у нее только нижняя губа и подбородок. У американской норки много белых пятен на грудке и брюшке, чего почти нет у европейской. Так как Во всей Сибири (от Оби до Тихого океана) совершенно нет нашей обыкновенной (европейской) норки, то было решено заселить эту громадную территорию северо-американ-ской норкой, широко распространенной в США и Канаде. С 1933 года началось вселение этого нового в СССР пушного зверька; племенные экземпляры были куплены в Америке. . Через моховые болота, тайгу, по кручам гор пришлось нести от железных дорог ящики с норками. Когда же им была предоставлена свобода, то оказалось, что многие из них так привыкли к своим ящикам, что поселились в них. Выпущенных зверьков подкармливали рыбой, мясом, пока они осваивались с новыми местами и сами не начинали охотиться. Всего с 1933 года выпущено более 3100 норок, которые быстро разошлись от мест выпуска, заняли наиболее удобные места в Свердловской, Омской, Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском, Красноярском краях, на Дальнем Востоке, в Якутии, а также в Азербайджане, Армении, Воронежской, Мурманской областях, в Карело-Финской ССР, Татарской и Башкирской АССР. Размножаться американская норка начинает на месяц раньше, чем наша,—в марте. Сейчас этого зверька развелось у нас уже много, и в некоторых местах на него охотятся. Выдра Речная выдра еще лучше норки оказалась приспособленной к подводной охоте. Лапы у нее с перепонками между пальцами; голова плоская, что помогает ей рассекать воду при быстром плавании. Едва высунув плоскую голову из воды, выдра может видеть, слышать, чуять, так как органы чувств у нее расположены на одной прямой. Густой мех выдры почти не смачивается водой. Длинный и толстый у основания хвост действует, как руль. Выдра может быть под водой больше двух минут, и редкая рыба, за которой погналась выдра, минует ее острых зубов. На поверхности воды многочисленными пузырьками воздуха обозначается подводный путь выдры. Чтобы вдохнуть воздух в свои очень объемистые легкие, выдра высовывает из воды только нос, заметить который с берега очейь трудно. Она на мгновенье открывает клапаны-ноздри и опять ныряет под воду. Под водой и нос и уши выдры замыкаются валиками—клапанами. Мех выдры особенно дорог. Выдра привязана к своей норе только в период выкармливания детенышей. В небольших водоемах выдра очень быстро уничтожает рыбу или разгоняет ее. Живет она в прозрачных водоемах, не заросших растениями. Выдры кочуют и по суше, делая большие переходы, питаясь тогда чем придется, чаще лягушками. Он» переходят через водоразделы в другие реки. На снегу и сырой почве выдра оставляет парные следы, если идет скачками, но, бывают и простые следы, когда она идет рысцой. След выдры имеет в ширину около шести—семи сантиметров. Минуя многочисленные изгибы реки, кочевая выдра идет напрямик, точно ей хорошо известна дорога. Интересно, что и другие кочующие выдры идут путем первой. Нора, в которой живет выдра, неглубокая и помещается обычно в корнях зарослей прибрежных кустарников у воды. Иногда, особенно зимой, вход в нору скрыт под водой. Выдра часто катается по снегу, обтирая от воды свою плохо смачивающуюся шерсть. Все ее движения напоминают змеиные: она может извиваться, ползать на брюшке и на спине. В воде сытая выдра часами играет с замученной рыбой или с камешком, который старается удержать на носу, как жонглер. Ловя на спиннинг рыбу в реке Клязьме близ станции Петушки, я оборвал блесну, зацепив на глубоком месте. Велико было мое удивление, когда на следующее утро блесна моя оказалась на берегу, а вокруг нее песок был истоптан широкими лапами выдры. Видно было, что выдра долго играла с никелированной рыбкой, а за ней из-за куста, как говорили следы на песке, наблюдала лисица, привыкшая подбирать остатки рыбы после выдры. Охотники Прилукского района Черниговской области наблюдали, как лисица напала на выдру, тащившую по льду большую щуку. Звери катались в снегу, лисица кричала и, наконец, вырвавшись, убежала. На одном из водохранилищ под Москвой рыболов думал, что тащит на спиннинг крупную рыбу, но как же он был испуган, когда у самого берега высунулась из воды выдра! Она пронзительно закричала и, сильно рванувшись, оборвала леску. Путешествуя по льду, выдра делает два—три прыжка, а затем поджимает лапки и катится метра полтора—два, скользя на брюшке и оставляя на тонком слое снега странные мазки. , Таким ходом зверь идет многие километры, как по рыхлому снегу, так и по хорошему насту. В сильные морозы, идя сушей, выдра часто пользуется коридорами, которые образуются между берегом и нависшим на кустах льдом. От проруби к проруби выдра проныривает под водой свыше ста метров. Незаметно на спине подплывает выдра под стоящую щуку и снизу хватает за брюшко близ головы. Если рыба заметила и бросилась в сторону, то выдра догонит ее, прижав к какой-либо отмели-. Зимой рыбы стаями собираются в более глубокие водоемы, где стоят как бы в оцепенении. Быстро находит выдра зимовья рыб и поселяется поблизости в размытых берегах. Если улов успешен, выдра оставляет на берегу много недоеденных голов. Особенно охотно в сибирских реках выдра ловит стерлядь. По следам выдры и рыбаки находят рыбьи залежи. Не всегда выдра питается рыбой; очень часто осенью в ее испражнениях мы находим только кости и кожу лягушек. Кожа лягушек-не переваривается. Выдра гоняется иногда за утятами, ловит и водяных крыс. Крупные выдры, достигающие восьми и более килограммов веса, настолько сильны, что могут вытащить из воды щуку весом более четырех килограммов. Выдры в мае приносят в норе или другом укрытии от двух до четырех слепых детенышей. Подрастающие выдрята более месяца бывают слепы, потом прозревают и часами играют, барахтаясь в воде. Прося есть, они громко и отрывисто свистят. Свист этот похож на тревожный свист суслика. По нашим наблюдениям, выдра может приносить потомство лишь в возрасте от трех лет. Когда спариваются выдры, точно не известно, но в Московском зоопарке ясные признаки течки наблюдались каждый год в июле. Не решен вопрос, каждый ли год взрослая самка приносит детенышей. Предполагают, что через год, так как детенышей своих выдра кормит рыбой и лягушками всю зиму, приучая к охоте. Самцы выдр в воспитании выдрят участия не принимают. Взятые маленькими, выдры прекрасно приручаются и следуют по пятам за своим воспитателем. В Московском зоопарке жило несколько ручных выдр. Они ходили на прогулку с их воспитательницами и никогда не кусали знакомых им людей; даже среди многочисленных посетителей зоопарка они находили свою воспитательницу чутьем, по следу. Выдру можно приручить настолько, что она возвращается к человеку из больших водоемов, в которых ловит крупных рыб. Во многих областях и республиках охота на выдр запрещена совершенно. Выдр мало не только потому, что их промышляют, но и потому, что они медленно размножаются. Выдра распространена в СССР до Камчатки и Сахалина включительно. Ее нет в реках Южного Казахстана и пустынных местах Средней Азии. Но в низовьях реки Аму-Дарьи я наблюдал не раз, как выдры барахтались в воде, ловя громадных сазанов За выдрами охотятся зимой, когда мех их особенно ценен. Калан Л востоку от Камчатки, на Командорских островах, живет замечательный пушной зверь—громадная, до полутора метров длиной, морская выдра, достигающая сорока четырех килограммов веса,—калан. После Великой Октябрьской социалистической революции наше правительство установило охрану на Командорских островах и спасло калана от гибели. В настоящее время его насчитывают там сотнями. К воде калан оказался приспособленным еще лучше, чем наша речная выдра: его задние ноги напоминают несколько ласты, но по суше, хоть и не быстро, каланы ходить могут. На берег или на камни эти звери вылезают поспать и погреться, а за кормом ныряют на дно бухты, доставая там морских ежей или рыб. Нам мало что было известно о размножении каланов, и только в 1937 и 1938 годах, когда несколько каланов, было отловлено для переселения их на Кольский полуостров, мы узнали, немало нового. Калан—единственный зверь из семейства куньих, который вскоре после родов на берегу забирает детеныша и уходит с ним в воду. Одна из отловленных самок на другой же день в клетке с водоемом родила детеныша-самца. Он был зрячий, имел маленькие клыки и еще менее развитые резцы и ложно-коренные зубы. Малыш был покрыт густой светлобурой шёрсткой, которая- на голове казалась светлее, а к заду — темнее, В день рождения, то-есть 30 ноября 1937 года, его длина от кончика носа до корня хвоста равнялась сорока сантиметрам, а вес—одному килограмму пятистам тридцати граммам. До двадцатндневного возраста он мог только лежать на воде, плавать на спине и ждать, когда возьмет его на грудь вынырнувшая из глубины мать. Через шестнадцать дней вес его равнялся 2,45 килограмма, а на двадцать первый день он начал переворачиваться и учиться плавать на животе. До двадцати двух дней малыш питался только молоком матери. К сожалению, дальнейшие наблюдения были прерваны, так как и мать и двадцатипятидневный детеныш погибли. Был и второй интересный случай. 10 июля 1938 года в неволе на острове Медном у самки происходили тяжелые роды. Детеныша пришлось извлечь уже мертвым. Он весил 1,45 килограмма. Самка вскоре оправилась, а 18 и 19 сентября 1938 года она снова спаривалась. 14 мая 1939 года, то-есть через двести тридцать восемь дней после первого дня спаривания (около восьми месяцев), у нее опять начались неблагополучные роды, и она пала. Детеныш оказался нормально развитым, покрытым шёрсткой, с открытыми глазами и зубами, такими же, как у нормально рожденного. На каком году жизни каланы способны размножаться, остается до сего дня невыясненным. Зоолог Барабаш-Никифоров- наблюдал, как в заливах у Командорских островов жили каланы. То и дело ныряли они на дно, где в складки кожи на груди, как в карманы, напихивали морских ежей. Поднявшись с добычей на поверхность воды, калан ложился1 на спину, доставал передними лапами ежей, прокусывал их, в ысасывал и вылизывал содержимое. Особено интересно наблюдать за матерью которая «няНь-чит» детеныша. Она часто поднимает его с груди в воздух, тыкает в него носом, лижет и как будто нянчит. В необычайное волнение приходят каланы, когда, рассекая острым спинным плавником поверхность воды, в их заливы заходят зубастые киты-касатки. Эти крупные хищники бросаются на каланов, которые спешат выброситься на камни или скрыться в густых зарослях гигантских морских водорослей. Беда замешкавшемуся калану! Его перекусит и проглотит морское чудовище. В плане реконструкции фауны СССР предусмотрено раз-ведение каланов у побережья незамерзающего Баренцова моря, где уже успешно производились такие опыты.
Барсук Болee всех похож на куницу неуклюжий, толстый, с серым щетинистым мехом барсук, но и он относится к тому же семейству куньих. Про барсука рассказывают много басен, вероятно потому, что это ночное животное выходит из своих подземных «крепостей», когда люди ложатся спать. Зимой никто не увидит его следов. А ведь только следы без обмана рассказывают охотнику о жизни зверя,—надо уметь лишь хорошо читать эти следы. Куда же девается этот зверь зимой? К осени барсук настолько жиреет, что он едва может подняться вскачь, если его напугать; широкая спина барсука трясется при каждом шаге. С первыми морозами он залегает в норе, где на мягкой подстилке из листьев и мха спит до весны, но не холодеет, как, например, суслик или ежи, впадающие в настоящую спячку. Температура его тела зимой равна тридцати семи—тридцати восьми градусам Цельсия. Только в оттепели можно видеть около самых нор следы барсука. Он вылезает, чтобы похватать снега, размяться, поваляться на просторе и почистить испачканную землей грубую шерсть. В Московском зоопарке барсуки спаривались чаще всего в середине марта. Срок беременности самок колебался от трехсот сорока двух до трехсот семидесяти одного дня, но чаще, как потом подтвердили сотрудники других зоосадов, •барсучиха «носила» около трехсот пятидесяти семи дней. Появлявшиеся на свет барсучата были очень малы, весом всего лишь около пятнадцати граммов, длиной гела в тринадцать сантиметров, с хвостом о три сантиметра. Барсучата покрыты белой шёрсткой, а на мордочках, где на одиннадцатый день вырастали черные волосы, кожа казалась темной. Мать лежала, обычно свернувшись в клубок, а на брюхе у нее, как в термосе, помещались новорожденные. Барсучихи приносят от трех до пяти детенышей. Глаза у барсучат открываются на тридцать третий—тридцать восьмой день. Интересно было наблюдать, как самка вытаскивала из норы еще слепых барсучат и раскладывала их под деревьями, куда слабыми бликами пробивались лучи утреннего солнца. Солнечные ванны оканчивались тогда, когда малыши начинали пищать. Мать хватала барсучат за шиворот и поспешно, одного за другим, уносила обратно в подземелье, как бы чувствуя, что избыток света губителен для ее потомства. Самка спаривалась с самцом, после родов через несколько дней (в-марте—апреле), а до этого грызла его и не пускала в нору. К осени молодые барсучата почти достигают роста самки,но приносить детенышей способны только в трехлетием возрасте. Быстро сгоняет весенний ветер снег, журчат ручьи, в лесу по вечерам поют прилетевшие дрозды. В темной, сырой норе почувствовал весну и барсук. Исхудавший, голодный, вымазанный мокрой глиной, вылезает он вечером на вольный воздух и долго приводит в порядок свой «костюм», оставляя на снегу желтые следы своих грязных лап с ясными отпечатками могучих копательных когтей, отросших за зиму. По холодным весенним лесным- ручьям тяжело прыгают* против течения серые лягушки, сидевшие зимой под камнями в бочажках речки. Они стремятся скорее добраться до болот, из которых эти ручьи берут начало. При закате солнца барсук отправляется к ручейкам ловить лягушек, которые весной становятся как бы чумовые, и не боятся опасности. Барсук быстро восстанавливает потерянную за зиму силу и вечером, прежде чем уйти на охоту, долго возится с ремонтом своего жилища, в котором от сырости весной начинают обваливаться стены и своды. Подгребая землю под себя, барсук пятится из норы задом и оттаскивает землю шагов за пять—десять от входа. Он спускает ее с крутизны оврага, в стенках которого и бывают чаще всего барсучьи норы. Земля и камешки с шумом катятся вниз и нередко пугают осторожного труженика. Ощетинившись, он поворачивается и с недоумением смотрит ча бегущими вниз камнями, которые сам же сбросил. От норы до того места, куда отгребает барсук землю, идет глубока» ложбинка. Барсук—«нелюдим», места для нор выбирает где поглуше: в заросшем овражке, куда незачем заходить людям и где близ норы есть свежая проточная вода. Весной матка пыгребает из норы старую подстилку и заменяет ее свежим мхом и сухими листьями, которые тащит в нору, пятясь задом, подгребая подстилку под себя. Барсух очень чистоплотен, и около его нор всегда имеется несколько ям глубиной в десять—пятнадцать сантиметров—это его уборные. Когда ямка наполняется, он роет новую. Все дальше и дальше начинает отходить от норы на охоту весной барсук, и, когда на березках начнут развертываться почки, он удаляется уже километров за пять, за шесть (в зависимости от наличия корма). Пища его самая разнообразная: он выкапывает гнезда ос, плохо защищающихся ночью, и поедает осиных детей—беленькие личинки, похожие на толстых червяков; ест дождевых червей, которые ночью выползают из норок наружу, лягушек, змей, к яду которых он мала чувствителен; выкапывает гнезда мышей, личинок май-ких жуков; приканчивает иногда случайно попавшихся молодых зайчат; съедает нелетающих птенцов. Барсук нередко идет и на падаль. Не отказываясь ни от чего съедобного, барсук быстро жиреет к концу лета. После ночной охоты, на рассвете, он возвращается в нору, но иногда, увлекшись разыскиванием добычи, запаздывает и проводит день во временном убежище. Самка начинает в мае брать своих малышей на охоту, приучая их находить добычу. - Жизнь барсука легко проследить, если за час до заката солнца сесть недалеко от его норы. Hqpa имеет несколько выходов, но главный выход—«парадный»—легко отличить по торным, свежим тропинкам, ведущим к нему, и вытертым, обшмыганным щетиной барсука входам. Наблюдающему нужно сесть так, чтобы ветерок тянул от норы к нему, иначе барсук почует человека и не выйдет. Прежде чем выйти, барсук с осторожностью высовывает голову и долго обнюхивает воздух. Сидеть нужно не шевелясь. Зрение у этого подземного жителя слабое; он может на самом близком расстоянии, не тревожась, смотреть на вас, но движение с вашей стороны или запах, долетевший до него, мгновенно заставят встать дыбом щетину барсука, и, резко фыркнув, он юркнет в нору и долго, а иногда и совсем не покажется вновь. Интересно бывает смотреть, как играют у норы молодые барсучата, а мать, почесываясь о дерево, наблюдает за ними,, хватает иногда за ухо чересчур развозившегося малыша. К осени молодые расходятся и роют новые норы, но бывает, что некоторые остаются зимовать в одной норе с матерью, и тогда можно наблюдать по вечерам, как дружно работает вся семья, сгребая передними лапами опавшие листья. В очень старых норах, длина которых достигает нередко десяти —пятнадцати и даже более метров, где барсуки жили уже десятки лет, поселяются двое и несколько хозяев. Барсук коренаст и силен, его тело на низких ногах приспособлено к подземным передвижениям. Он со своим могучим сложением легко выдерживает подземные обвалы. Редкая собака может справиться с барсуком, укусы которого очень сильны. Сам барсук сражений избегает и всегда норовит скрыться в нору, но раненный или застигнутый вдали от норы, он храбро защищается, устрашая врага фырканьем и грозным шипением. Осенью при охоте с гончими собаками нередко приходилось наблюдать, как барсук оборонялся против целой стаи. После короткого боя собаки не смели уже приближаться к барсуку, который пятился от куста к кусту и, откланиваясь, медленно добирался до норы. Маленькие барсучата, взятые от матери, скоро привыкают к хозяину, бегают за ним как собаки, едят все кухонные отбросы и быстро растут. За барсуком охотятся из-за его шкурки, щетины и сала. Осенний жир барсука целебен, но при сильном нагревании теряет это свойство. Мясо барсука съедобно. Под хвостом у него имеется неглубокий слепой ход, в котором помещается железа, выделяющая вонючую желтую жидкость. Если у убитого барсука эта железа не вырезана, то вскоре все мясо приобретает противный запах. Барсук не приносит человеку вреда, если не считать тех немногих птенцов дичи, или нескольких поеденных арбузов на бахче. Без нужды, для одной забавы, не следует стрелять этого зверя, который населяет почти всю нашу страну, далеко не доходя, впрочем, да Полярного круга. На Южном Урале н в степной полосе Сибири живет другой подвид барсука, называемый песчаным, у которого черная полоса идет от глаза мимо уха на затылок. На Дальнем Востоке обитает барсук с совершенно черной головой. Охота на барсуков с собаками, фокстерьерами и таксами, при которой раскапываются и уничтожаются коры, запрещена законом об охоте. Росомаха Посетители в зоопарке, глядя на росомаху, восклицают: «Хорек-то какой здоровый!», хотя на хорька она не очень-то похожа. Это крепкий, коренастый, на коротких сильных ногах зверь, темная блестящая длинная и грубоватая шерсть спины которого окаймлена с боков светлой полосой («шлеей»). Вес самца росомахи обычно не превышает тринадцати—пятнадцати килограммов, но встречаются и более крупные экземпляры. Длина тела росомахи шестьдесят два — семьдесят сантиметров, а хвоста—около двадцати трех—двадцати четырех сантиметров. Росомаха хорошо лазит по деревьям, но охотится -обычно на земле. Хотя шкурка этого зверя и ценит ся, но вреда росомаха приносит так много, что никак не может-окупить его своей шкуркой. Она населяет всю таежную полосу от Кольского полуострова до Чукотки, Камчатки и Сахалина, встречаясь также в Алтайских и Саянских горах. Росомаха бродит и в далеких тундрах. Она не боится глубоких лесных сугробов, так как ее широкие лапы оставляют частые следы до пятнадцати сантиметров в длину и одиннадцать з ширину. Росомаха «лепит», как говорят охотники, следы, мало углубленные даже в рыхлом снегу. Охотники-таежники ненавидят ее за то, что росомаха раньше их обходит ловушки и рвет попавшихся зверей и птиц. В отсутствие охотников она нередко забирается в охотничьи избушки, грабит запасы продовольствия и рвет добытые на промысле шкуры. Спасая запасы от росомахи, приводится строить специальные кладовые на гладко выструганных столбах. Вытаскивая из ловушек добычу, росомаха редко попадается в них сама,— так она чутка и осторожна! Этот, сравнительно некрупный и с виду неуклюжий зверь отваживается нападать даже на больших животных. Научный сотрудник Печорского заповедника однажды сообщил: «Картину нападения росомахи на лосиху довольно легко было установить по следам. Росомаха, судя по следу, некрупная самка — килограммов на семь, — вначале сделала засаду, в снежной пещере, образовавшейся из-за обвала снега у крутого берега лесной речки. Но лоси по льду не пошли. Тогда зверь поднялся на берег и залез на пихту, с которой и бросился на лосиху, проходившую по прибрежному ельнику. Лосиха выскочила на лед и пробежала около трехсот метров, причем три раза падала и один раз долго билась, стараясь,, видимо, сбросить зверя, но это ей не удалось. Росомаха тем временем вгрызлась в основание шеи лосихи, оставив на шкуре дыру в десять сантиметров в диаметре. Лосиха небольшая, весила около ста шестидесяти килограммов». Научный сотрудник Алтайского заповедника сообщил, что. он увидел длинные скачки следов горного козла—козерога, который несся с большой кручи к речке. Громадными махами пробежал он через долинку и провалился сквозь тонкий лед в речку. Края полыньи был измазаны кровью, а рядом на снегу появились следы росомахи, которая, как оказалось» мчалась на козле и в момент погружения его в воду спрыгнула на лед. Козерог все же выбрался из воды, и росомаха вновь умчалась на нем до следующей полыньи, где и закончилась эта горная драма. Хищник растащил и запрятал б снег части козла. Много диких северных оленей гибнет от росомахи, которых она не спеша преследует изо дня в день до полного изнеможения. Но не всегда росомаха побеждает. В Западной Сибири был убит лось, на передней ноге которого, как огромная муфта, красовалась замерзшая росомаха. Лось пробил ее копытом навылет. Росомаха охотится и на птиц. Много глухарей и другой дичи уничтожает она зимой. Как размножается этот неприятный зверь, точно еще не изучено. Но по снегу еще никто не видел, чтобы самцы шли за самками и, тем более, сражались из-за них. Очевидно, спаривание проходит до выпадения пороши. В Московском зоопарке как самцы, так и самки проявляли все признаки возбуждения в июне—июле. Но потомства, по причинам технического характера, в зоопарке получить не удалось. В 1937 году в районе Пак-озера Мурманской области 2 апреля было найдено логово с тремя только начинавшими •смотреть в. узкие щелочки век росомашками. Им было, вероятно, около тридцати четырех—тридцати шести дней. Детеныши лежали на моховой подстилке в глубокой пещере между камнями. В капкан, поставленный у логова, попал самец, а самка ушла. Очевидно, что самец помогает самке воспитывать малышей. По всем признакам очевидно, что росомахи появились на свет в конце февраля—в начале марта. К 25 сентября 1937 года самец достиг веса 15,95 килограмма, а самка — 13,6. Летом следующего года они не проявили половой активности; очевидно, как барсуки, куницы, соболи, так и росомахи способны размножаться (спариваться) только на третьем году. Росомах, как и волков, необходимо всеми средствами истреблять. Они приносят неисчислимые убытки охотничьему хозяйству страны.
Лисица После белки лисица занимает часто в пушных заготовках страны второе место. И понятно: ведь этот зверь, из семейства собачьих, населяет всю нашу страну—от западных границ до Камчатки и Сахалина включительно; на севере во многих местах достигает берегов Ледовитого океана. За пределами СССР лисица) распространена по всей Северной Америке, по всей Европе и большей части Азии. Лисицы из разных краев нашей страны сильно отличаются друг от друга по окраске и густоте меха, размерам, длине ушей и другим! признакам. И ценность их поэтому также разная. В лесной полосе СССР лисица имеет яркокрасный мех, похожий на опавшую осеннюю листву, на фоне которой лисица мала заметна. Южные лисицы, живущие в степях, окрашены много светлее. Растительность в степях к осени выгорает, и среди бледножелтых равнин степная лисица также становится мало заметной. Маленькая лисица казахских и Есех среднеазиатских степей «корсак» живет на светлых полупустынных почвах среди низких, редких трав. Серебристый мех этой самой маленькой лисички очень подходит под общий тон выгорающей степи. Наконец, на крайнем севере в тундрах лисицу, сменяет похожий на нее песец, который свою темную летнюю окраску, напоминающую цвет земли, меняет к зиме на чистобелую и становится совершенно незаметным на снегу. Есть чернобурые лисицы—«выродки» от красных, мех которых очень ценится. Есть и так называемые «голубые песцы», которые остаются темными и на зиму. Красивые, с грубоватым серым волосом, лисицы-караганки жив!ут в южных степях-Самые крупные—камчатские лисицы-огневки. Шелковистый красный мех их очень ценится. Лисицы встречаются и в тундрах, но редко. Они забегают Даже и на острова Ледовитого океана. Например, в 1937 к 1938 годах на острове Врангеля добыты три зашедших туда, по торосистым льдам лисицы. Мех лисиц часто оказывается с большими дефектами,, зависящими от среды обитания. Астраханские лисицы, например, обитающие в тростниках, часто, вытирают мех на боках, так как им! приходится пробираться в зарослях по очень узеньким тропинкам. У лисиц, живущих в норах, где торчат камни или корни, на шкурках в соответствующих местах так> же бывают плешины. Зрачок лисиц, в отличие от всех собачьих, не круглый,, а овальный. Если лисица смотрит ночью на светящуюся точку (фары автомобиля, костер, освещенные окна), то глаза ее горят, как фонари. У всех лисиц, какой бы окраски они ни были, наружна® сторона ушей черная, только у корсака уши рыжевато-бурые. У лисиц много врагов, но осторожность, чутье и защитная, незаметная окраска часто спасают их от когтей орлов, от волков и охотников. Первыми попадают в беду те, которые оказались не приспособленными окраской шкуры к местности и очень заметны даже на большом расстоянии. Каждый сельский житель видел, конечно, зимой на поле лису, которая охотится за мышами. Своим тонким чутьем и слухом она определяет, где под снегом копошатся и пищат мыши. Одним большим красивым прыжком бросается она в это место, раз(рывает снег и хватает короткохвостую полёвку. Но не только одним мышам достается от лисиц. Если вскочит с межи заяцнрусак, то не упустит лисица случая попытаться догнать его. С лёжкй заяц нескоро разомнется и не может развить сразу полной скорости, тут-то лиса и настигает; его. Чаще всего лисе удается настигать молодых, неопытных зайцев. Старые зайцы сравнительно легко уходят от этого хищника. Далеко не всегда лисица бросается в погоню за добычей. В Калининской области я видел, как облезшая весной лисица потихоньку, стороной, обходила токующего косача, стараясь постепенно приблизиться к нему, временами она валялась как собака. Косач токовал, но пятился от нее задом, все время держа дистанцию не ближе тридцати—тридцати пяти шагов. Минут ч^рез десять, не спугнув тетерева, лисица полакала из лужи и ушла. Об аналогичном наблюдений было получено сообщение из Крыма. В небольшой котловинке Крымских гор была замечена лисица, которая тихо шла мимо русака, кормившегося шагах в двадцати от нее. Наблюдавший прижался к дереву и следил, как1 не спеша отбегал в сторону заяц, когда лисица, как бы нечаянно делала неосторожный шаг в его сторону. Хищник, стараясь не глядеть на русака, постепенно приучал его к себе. Наконец, заяц так близко подбежал к наблюдателю, что заметил его и одним крыжком исчез под горой. Лисица не видела этого, но, оглянувшись и не найдя зайца на полянке, заволновалась, стала энергично разнюхивать его след и быстро побежала вдогонку. Лисица уничтожает летом дичь в значительном количестве, и там, где есть поблизости лисьи норы, особенно с лисятами, дичь становится редкостью. Она ловит даже линяющих глухарей, которые не могут летать, давит молодых косуль. Зимой лисица часто проверяет поляны и опушки, где в глубоких снежных лукках спасаются от мороза тетерева, рябчики, глухари и белые куропатки. Но было бы большой ошибкой считать, что лисица кормится преимущественно дичью: зимой ее желудок - бывает наполнен мышевидными грызунами, а летом чаще насекомыми—жуками и личинками хрущей 1 . Однажды в Белоруссии, наблюдая из кустов, я увидел на1 лугу лисицу, которая странно вела себя, прыгая вверх и в стороны. Когда же она приблизилась, то стало ясно, что лисица ловила жуков-навоз-ников, тысячами слетавшихся вечером на конский навоз, оставшийся после табуна, пасшегося здесь днем. Мне слышно было, как хрустели на зубах лисы эти черные крупные насекомые. Лисица осенью и зимой бродит по всем окрестностям и хорошо изучает местность километров на двадцать. Она охотится, главным образом, ночью, не боится трескучих морозов, от которых защищена теплой шубой, а подошвы (подушечки) лап, в отличие от домашней собаки, шакалов и волков, у нее густо покрыты шерстью. В снежные зимы она покидает леса, где глубоко вязнет в рыхлом снегу, и выходит на поля. Лисица охотно приходит на падаль, где нередко
Заяц делает скидку днем сражается с воронами. Когда люди спят, она подбирает у жилищ отбросы и заходит даже на свалки окраин городов. Прямой след лисицы трудно спутать со следами других зверей. За ночную охоту лисица обходит огромные пространства, а к утру, если сытно поела, идет мелкими шажками в то место, где спит обычно днем. Иногда лисицьг живут даже в больших городах, где по ночам ловят крыс и питаются на помойках. Некоторые лисицы наглеют настолько, что начинают потаскивать домашнюю птицу. Часто охотники считают лисицу вредной, так как она уничтожает зайцев и пернатую дичь. Но сельские хозяева во многих местах считают ее полезной, как мышатницу, очищающую поля от вредных грызунов. Если лисица у нас и приносит ущерб охотничьему хозяйству, то истреблением грызунов и своей ценной шкуркой она сполна расплачивается за это поздней осенью и зимой. В СССР лисиц убивают очень много. Но, несмотря на это, количество их не только не уменьшается, а в некоторые годы заметно растет. Лисица хорошо защищена от истребления тем, что детей рожает в глубоких, часто барсучьих норах, выбирая для этого глухие места. Кроме того, ее врожденная осторожность, прекрасное чутье, слух и быстрые ноги помогают избегать многих опасностей. Молодые лисы способны размножаться на следующую весну. Весной лисицы теряют всю зимнюю шерсть. С середины февраля у лисиц в лесной полосе начинается гоньба (течка). Самцы с хриплым отрывистым лаем, бегая по лесам и полям, ищут самок. В это время можно нередко видеть целую вереницу ссорящихся самцов. В конце концоз один самец остается при самке, а остальные, побежденные, отправляются искать других. В это время лисицы усиленно объедают еловые ве^ точки, ягоды шиповника. Вероятно, в хвое есть то, чего не-хватает в брачный период в! обычных кормах, например витаминов. Слабый лис имеет мало шансов стать отцом семейства, отчего род лисиц только выигрывает, так как от слабого, не «зубастого» отца родились бы такие же дети. А хищник должен быть силен и ловок, иначе туго пришлось бы ему в жизни. Хороший, ^овкий самец иногда совершенно откусывает голову слабейшему, поймав его снизу за шею. Такой самец способен даже взбираться и на деревья (если ветки близко подходят к земле или дерево слегка наклонено), на которых не застрахованы от него птичьи гнезда. Полнеющие самки становятся малоподвижными, они много спят, греясь на солнышке. Другое дело самцы. У них опять начинается война—из-за беременных самок. Опять сильнейший лис отвоевывает^ себе, но уже не только самку, а право на воспитание вместе с нею потомства. Он выискивает у самки блох, роет нору, ловит ей водяных крыс и другую добычу. В нем просыпается отцовский инстинкт. Проносив пятьдесят один—пятьдесят два дня, лисица рожает в норе от четырех до восьми, иногда до двенадцати темных, слепых лисят. От всех других зверей, например, ьолчат, новорожденные лисята отличаются белым кончиком хвоста. Родятся они крепкими, мускулистыми, весом около ста—ста пятнадцати граммов. Растут красные лисицы быстро,-прибавляя (примерно) в сутки в первую неделю по двадцати одному грамму, во вторую—по двадцать два, в третью пс двадцать пять граммов, в четвертую—по двадцать восемь, в пятую—по| сорок пять и в восьмую—по сорок два грамма. Как только у лисят раскрываются глаза (на семнадцатый— девятнадцатый день), они начинают выходить из логова. К. этому времени открываются у них уши, подушечки лапок обрастают шерстью, а темнобурая шёрстка на темени и лопатках сменяется рыжей. Лисята очень-бойки и| часами возятся около нор, развивая силу и ловкость. Мать зорко следит за ними, а лисята за нею: малейшая тревога матери мгновенно передается лисятам, и они бросаются в нору. Мать близко подбегает к собакам, пытающимся раскапывать нору, и резким лаем отвлекает их от лисят. Отец и мать приучают лисят убивать животных, принося раненых птиц, зверьков г* даже змей. К осени выводок расходится, и каждый из обученных родителями лисят начинает самостоятельную жизнь. Нередко барсучьи и лисьи семьи живут вместе в одних норах. Но барсуку, видимо, не нравится такое сожительство, так как лисица очень нечистоплотна, у нее в норе постоянно гниют остатки несъеденной добычи, и она не имеет привычки зарывать свои вонючие испражнения. Нередко, как говорят, она своей неопрятностью выживает барсука из его же собственной норы или же вынуждает его забить общие с лисицей отнорки землей и прорыть новые самостоятельные выходы. Где поселилилась семья лисиц, там близ нор быстро исчезает дичь,—лисицы уничтожают ее, частью! распугивают. К середине ноября лисицы обрастают зимней шерстью, и тогда молодняк трудно отличить от взрослых. В августе у лисиц усиленно линяет шерсть подушечек лап, на которых растет жесткий волос. Пока он короток и напоминает щетину небритого человека, лисица плохо бегает. В дальнейшем шерсть отрастает, и зверь ходит, как в валенках. Голыми остаются только кончики пальцев. ___ Охота за лисицами начинается осенью^ когда по утрам уже белеет от мороза трава и выпадает снег. К этому времени мех лисицы становится длинен, густ и пушист. \ Особенно дорого ценятся шкурки чернобурых лисиц. Чернобурые лисицы, скрещиваясь с красными, дают лисиц-сиво-душек с буровато-красным мехом. В некоторых пунктах СССР были выпущены серебристо-черные лисицы. В Усть-Куломском районе области Коми после выпуска там пяти беременных самок и пяти самцов серебристо-черных лисиц заметно увеличилась заготовка сиводушек. В СССР уже давно начали разводить серебристо-верных лиоиц в неволе-—в клетках и вольерах. Сейчас в нашей стране существует много таких зверосовхозов (питомников) и колхозных звероферм. Получена теперь новая ценная порода—платиновая лисица. Лисица, взятая из норы маленькой, хорошо приручается, не утрачивая, впрочем, природных привычек. Такие прирученные лисицы бывают более хорошими родителями, так как дикая лисица настолько тревожится в неволе за своих щенят, что не знает, куда их спрятать ,и, таская в зубах, замучивает иногда до смерти. %
Песец Р азмашистой рысью бежала по снежной пустыне упряжка северных оленей. На легких санках (нартах) в меховой одежде сидел человек, а впереди него—остроухая серая собака. Оба онк зорко смотрели туда, где впереди оленей причудливой цепочкой вился след, ясно заметный на свежевыпавшем снегу. Вдруг на ближайшем пригорке появились три черные точки: это были два глаза и носик белого песца, обернувшегося на шум погони. Взметнулся снег, и только облачко белой пыли указывало направление, по которому невидимкой помчался драгоценный зверь. Олени перешли на карьер. Перегнувшись, следила за песцом собака. Долго продолжалась эта бешеная гонка. Но перевес был не на стороне зверя; отпечатки прыжков песца на снегу становились заметно короче. Песец уставал, расстояние сокращалось... Еще немного—и пушистый, белый, как снег, зверек—мечта охотника—уже едва увертывался от копыт оленей. Пора! И охотник отстегнул поводок от ошейника собаки. Не раз пришлось перевернуться через голову азартному псу, прежде чем усталый, но ловкий зверек попал ему в зубы. Долго любовался охотник добычей. Это был крупный, белый, как снег, очень пушистый зверек, с коротким;? круглыми ушами и лапками, в густой шерсти которых терялись не только подушечки пальцев, ко и когти. Недаром песец занимает у нас в пушных заготовках одно из первых мест. Мех его превосходный. Белая шубка песца сохраняет тепло много лучше, чем мех других, темно окрашенных зверей. Белые волосы хуже темных нагреваются на солнце, так как они отражают солнечные лучи , но лучше темных сохраняют теплоту тела зимой, когда наступает полярная ночь и солнца нет. Кроме того, белый песец не заметен на снегу, и ему легче подкрадываться к добыче и спасаться от врагов. Питаются песцы—эти своеобразные полярные лисицы— главным образом мелкими грызунами—леммингами, живущими в тундрах. Щедро кормит маленького белого хищника и море, выбрасывая на берег не только мелких рыбок, крабов, морских ежей, моллюсков, но и более крупных, погибших в море, животных—тюленей, а иногда даже истерзанных касатками китов, вес которых измеряется тысячами пудов. Выброшенный на сушу труп кита—это великий праздник для всех северных хищников, пирующих тогда всю зиму. Песец не всегда живет оседло: поздней осенью, когда подросший молодняк расходится и начинает вести самостоятельную жизнь, у многих песцов, как и у перелетных птиц, пробуждается инстинкт перекочевок. Одни зверьки кочуют вдоль морского побережья, проходя много сот километров, другие идут к югу, спускаясь по замерзшим рекам до лесной полосы, где зимой легче добыть пропитание. Во время кочевок песцы попадают и на движущиеся льды Северного Ледовитого океана, вместе с которыми заплывают к отдаленным северным островам. На необозримых ледяных полях кормо,в нет, если не считать случайной добычи, которую в страшные штормы волны выбрасывают на ледяные торосы. Песец следит на льдах за белыми медведями, урывая от их добычи куски мяса после удачного нападения медведя на тюленей или молодых моржей. Наши дрейфовавшие суда «Садко» и «Ост» встречали во льдах много голодных песцов, шнырявших близ бортов кораблей. Немало, конечно, песцов гибнет на льдинах от голода. Понятно, что песцы заселили побережья всех стран, омываемых Северным Ледовитым океаном, и те острова его, на которых есть корм. На побережье Южного Ледовитого океана песцов нет. Как среди красных лисиц встречаются очень редкие и дорогие черные и чернобурые, так и среди белых песцов известны темные, именуемые «голубыми». Голубые песцы очень
В марте, возвращаясь в тундры из далеких путешествий, песцы начинают глухо лаять. Около самки собираются ссорящиеся самцы. Наконец, самому сильному, ловкому и смелому удается победить и отогнать остальных. Грызутся весной песцы тогда очень азартно. Нам приходилось видеть, как два равных, но выбившихся из сил соперника лежали рядом на снегу и временами кусали друг друга, спокойно забирая в рот и жуя пушистую шкурку противника. Потревоженные нами, они разошлись, пошатываясь, в разные стороны,- Победивший всех остальных самец деятельно помогает самке копать новые и ремонтировать старые норы, в которых появляется е мае—июне, после пятидесяти одного—пятидесятитрехдневной беременности, многочисленное потомство. Мы находили норы, в которых было по шестнадцати щенков, а один раз в погибшей самке было обнаружено двадцать дйа щенка. Новорожденный имеет от шестидесяти до вось- -мидесяти пяти граммов веса при длине тела в одиннадцать— тринадцать сантиметров. Щенки и белых и голубых песцов •рождаются слепыми и одинаково темными. Только на седьмой—восьмой день у щенков от белых песцов начинает белеть брюшко от появляющихся белых волос. Глаза у молодых песцов открываются на пятнадцатый— восемнадцатый день, к этому же сроку формируются слуховые отверстия; зубы прорезаются на двадцать седьмой—двадцать восьмой день. С появлением в норах молодняка начинается трудная жизнь для родителей: редко урвут они время на сон, так как приходится неустанно ловить добычу и кормить ненасытное многочисленное потомство. Свежие крылья белых куропаток у входа в норы говорят о том, что семья песцов кормится сытно, так как белые куропатки—самый любимый корм песцов. Крылья и перья куликов говорят о том, что куропатка стала редкостью в районе охоты песцов. Преобладание в испражнениях непереваренных остатков ягод— показатель начавшейся голодовки. Немало щенят песцов погибает от голода, когда в окрестностях нор почти не остается добычи, а родители слишком много времени тратят на охоту. Многие матери переводят тогда свой выводок в другие, - заранее подготовленные норы, близ которых больше корма. Жителям севера не раз приходилось наблюдать, как, держа в зубах малыша, взрослый песец переносил его за пять—шесть километров в новое убежище. Но не всегда удается песцам такое переселение: значительный процент подросших щенят погибает при этом, отказываясь следовать за родителями и оставаясь в прежних норах, вокруг которых кормов больше нет. Интересные наблюдения за голубыми песцами были проведены на острове Кильдин, близ Мурманского побережья. Самка, у которой погиб самец, перетащила из своей норы всех щенков в нору другой семьи. Здесь щенки отлично кормились, так как жили близ пляжа, на который волны выбрасывали обильный корм, а в ближайшей тундре водилось множество белых куропаток и леммингов. Обе матери сообща кормили два выводка молоком, добросовестно несли караул у норы и во-время предупреждали игравших щенков об опасности. Услышав отрывистый глухой лай сигнал опасности, щенки в панике бросались в нору и не выходили и г нее, пока не слышали голоса матери, который означал, что опасность миновала. Эта многочисленная семья росла без потерь. Вообще в тундрах, кроме корма, родители таскают к норе совершенно побелевшие кости, сброшенные рога северных оленей и примитивные игрушки, похищенные у ребят в ближайших поселках или чумах. Часами возятся молодые песцы, подбрасывая и ловя деревянные мячики или,, уцепившись за рог оленя, стараются отнять егсц друг у друга, развивая силу и ловкость. На Командорских остров ах наблюдали такой случай: две самки, самцы которых оказались неспособными прокормить многочисленных щенков, притащпли детенышей в н-.фу третьей, близ которой была обильная добыча. Каждая мать кормила молоком своих щенят, а охрану все несли сообща. Единственный самец вынужден был охотиться почти круглые сутки, чтобы накормить целое стадо молодых. Правда, ему в этом помогали и самки. Не всегда норы с выводками отстоят далеко одна от другой. Это бывает только в бедных кормом местах, удаленных от морского побережья, или в годы, неурожайные для мышевидных грызунов. В тундрах, богатых кормами, песцы часто живут колониями. Но каждая семья имет свои охотничьи маршруты, и самцы всегда угрожающе бросаются на соседа, пытающегося пойти не по своей тропе. На Командорских островах, как мы уже говорили, ведется правильное хозяйство голубых, песцов. Близ жилых нор служащие охотничьего хозяйства лётом кладут подкормку, чем сильно снижается потеря молодняка. Кроме летней подкормки у нор, на островах Медном1 и Беринга имеется много специальных «кормушек-ловушек», куда приходят и едят корм песцы из ближайших районов. Они так привыкают к этому, что являются в строго определенные часы, когда служащие разносят и раскладывают корм. Звери перестают бояться человека. Даже больше того, мчатся к нему из тундры, когда слышат условный сигнал—свисток или металлический звук гремящих ведер. Прикормленных зверей легко потом, когда в декабре шкурки их достигают наивысшей ценности, отлавливать в этих кормушках и сортировать; мелких, легких с плохой шкуркол тут же забивают, а крупных и тяжелых, с лучшими пушными качествами, метят специальными метками и отпускают на племя. Опыт разведения песцов на Командорских островах проверяется и на материке. Так, еще в 1937—1938 годах удалось подкормкой, выкладываемой еще до наступления осени, удержать близ кормушек многих песцов в то время, как в других местах они откочевали. Начавшего кочевать песца не удавалось задержать кормом,—наевшись, он продолжал свой путь дальше. В том же 1938 году было организовано двадцать пять опытных подкормочных мест, где действовалр более шестисот кормушек-ловушек. Очевидно, не у всех: песцов в одинаковой степени бывает развит осенью инстинкт кочевок.-Некоторых не удается никакими кормами заставить вести оседлый образ жизни, в то время как другие легко остаются близ кормушек на зиму и здесь же, если есть удобные места для нор, приносят летом потомство. В Обдор-ской тундре для опыта были выпущены из клеток сидевшие там молодые белые песцы, привыкшие по звонку получать корм. Интересно было смотреть, как на тот же звон-песцы бежали к клеткам, в которых получали всего только четверть нормы суточного корма, а три четверти они должны были сами добывать на воле. Для того чтобы узнать, в каком направлении и далеко ли кочуют песцы на материке, проведен опыт кольцевания. Более чем ста песцам, отловленным летом 1937 года в Ямальской тундре, были вдеты в уши алюминиевые кольца с номером и надписью «Москва». Номера колец записали. В эту же зиму четырнадцать из окольцованных песцов были добыты-охотниками в районе реки Печоры и под Архангельском. Значит, некоторые звери откочевали от нор, где они воспитывались, далее, чем на две тысячи километров.
Волк 3 тот хищный предок собаки уничтожает в нашей стране ежегодно сотни тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, домашних птиц и неисчислимое количество оленей, лосей, косуль, кабанов, зайцев и других охотничьих ценных животных. Сотни людей ежегодно бывают искусаны бешеными волками. По приблизительному, очень неполному подсчету, каждый волк приносит нашему государству убытка в год более чем на двести пятьдесят рублей. Где же скрывается этот лютый зверь? Из каких недосягаемых лесов он совершает набеги на наши стада и колхозы? Почему его не уничтожили до сих пор начисто? Волк не приходит к нам из глухой тайги, он обычно живет в населенных районах, там, где развито животноводство. В глухих лесах он не ® силах прокормить себя, так как зимой в рыхлых лесных снегах глубоко вязнет и может передвигаться, главным образом, по дорогам. Почти везде в СССР, где пасутся стада рогатого скота, свиней и лошадей, есть волки. Они живут даже в далеких тундрах, где режут домашних северных оленей. Из тундр волки заходят и на льды Ледовитого океана. Например, в 1938 году три волка, пройдя по торосам более двухсот километров, зашли на остров Врангеля, бывают они и на острове Колгуеве. На громадных просторах нашей Родины,) в зависимости от местных условий обитания, волки северные, степные, горные и прочие сильно отличаются ростом, окраской, хвостом и другими признаками друг от друга. Северные волки—крупные, имеют белесый пышный мех. Пустынные волки—рыжеватые, с большими ушами, сравнительно мелки; а лесные и степные—более крупные и темные. Восточные волки (забайкальские) отличаются от других более длинным хвостом, часто изогнутым в конце вверх, в то время как у других разновидностей хвост далеко не достигает земли и висит, как «полено», а если бывает задран, то прямо, без изгибов. Шкуры волков похожи на собачьи и отличаются только короткой шерстью на ляжках. (У волков не бывает «штанов»). В СССР убивается ежегодно меньше половины всего поголовья волков, поэтому, особенно в годы Отечественной войны, численность их заметно выросла. Ближе к осени за селом часто слышится по вечерам вой волчьего выводка. Волк-отец гудит басом, волчиха—тенором, а молодые (прибылые) то визжат, то воют с подлаива-нием. Этот своеобразный концерт означает, что выводок отправляется из логова на охоту, где матёрые (старые) волки обучают молодых (прибылых) нападать на добычу и терзать ее. С каждым разом все дальше и дальше от логова отходят по ночам волки, и, наконец, выводок совершенно перестает возвращаться к нему. К выводку присоединяются и прошлогодние волчата (переярки), которые летом держались отдельно, и вся стая начинает кочевую жизнь. Чужие полки не смеют подойти к стае, они встречаются с ней, как враги. Численность выводка бывает различной, чаще всего, как поется в былинах («Идут семь волков»), в| нем оказывается семь—восемь. Самый большой выводок, который приходилось встречать нам, состоял из шестнадцати волков. С выпаданием снега, когда стада на пастбища больше не выгоняются, охотничий район волков расширяется до пятидесяти и более километров в диаметре. По глубокому снегу волкам двигаться трудно, идут они цепочкой, стараясь попадать след в след. Если зверей прошло много, то след, оставленный стаей, кажется рыхлой тропой. В сумерки, когда окраска волков сливается с кустарниками и тростниками, выходят они на добычу и к селениям. Чаще всего они иду! ют села до села по дорогам и с неохотой сворачивают в сугробы. Нередко встречной подводе приходится далеко объезжать волков. Случаи нападения волков на лошадь в упряжке крайне редки, но, преследуя собаку, они могут вскочить в в сани. Человека эти хищники не трогают, и только за последние годы в нескольких местах волчицы летом нападали на детей до двенадцати—четырнадцатилетнего возраста. По статистике прежних лет, в царской России погибало ежегодно, от волков свыше тысячи человек. Но точными расследованиями выяснено, что все погибшие умирали совершенно от других причин и волки были совершенно не по-г.инны в этих смертях. В других странах, где волков много, также неизвестны случаи, когда бы волки растерзали взрослого человека. Бросаются на людей только бешеные волки. Зимой волка «ноги кормят», говорит русская пословица. И правда: много километров приходится пробежать ему »• длинную зим нюю ночь, прежде чем удастся задавить неосторожную собаку, проникнуть в овчарню или наткнуться на падаль. Редко посчастливится волкам повалить в лесу сильного и сердитого лося, растерзать злобного кабана. Очень часто после неудачных похождений голодные волки вынуждены ждать следующей ночи, свернувшись в лесу на утоптанной снежной лежке. Удивительна зимой выносливость этих зверей: они легко переносят даже недельные голодовки, не теряя силы и быстроты. Но при удачной охоте или натолкнувшись на труп павшей лошади у дороги, волк может съесть сразу пуда полтора мяса, наедаясь как бы авансом—вперед. Сытые волки не идут далеко и стремятся поскорее лечь, но голодные даже днем не затруднятся пробежать несколько километров на голос гончей собаки или лайки. Двенадцатилетний сын нашего егеря подходил на голос лайки «Весты», облаявшей зимой белку в Серпуховском охотничьем хозяйстве. Оставалось десятка четыре шагов, и юный охотник, видя уже собаку, просматривал затаившегося на дереве зверька. Вдруг страшный визг собаки заставил парнишку посмотреть вниз «Серые, темные, рыжие спины,—рассказывал он потом,—клубились под елкой»... Он выстрелил, не целясь, и все исчезло, кроме «Весты», силившейся подняться на передние лапы. Плача, принес мальчуган свою любимицу домой, где она скоро испустила дух. Отец его установил, что девять волков примчались издалека на лай собаки и, не останавливаясь, бросились на нее. По первой пороше, рассказывает охотник Максим Карпович из-под Вязьмы, он ходил с гончими. В низинном подмерзшем болоте громадный выжлец (кобель) и маленькая выжловка (сука) взлаивали, распутывая след русака. На голоса двух собак подваливала третья, махая по кочкарнику. С пригорка было видно, как с разбегу она сбила с ног выжлеца» а выжловка понеслась к охотнику. В следующую секунду собаки вздыбились, но выжлец сейчас же снова полетел на землю. Охотник побежал туда, ломясь через кусты, и, подбежав почти вплотную, увидел замершего, как на стойке средних размеров волка. Охотник выстрелил. Зверь помчался прочь громадными прыжками, перемахивая через кусты. Потом его нашли мертвым километра за два от болота. А собака, залепленная грязью, вылезла из трясины, в которой, проломив тонкую ледяную корку, очутилась после сильного броска. Еще случай. В мягкую порошу после ночного снегопада охотник шел скользкой дорогой, накатанной прошедшим обозом. Нигде никаких следов! Вдруг, принюхиваясь против ветра, прыжками пошла гончая с дороги в частый осинник. Раздался сердитый, отрывистый, как на человека, лай и сейчас же, настигаемая волком, собака понеслась по рыхлому снегу обратно к дороге. Зверь не хватал ее за зад, а старался заскочить сбоку и поймать за шею, но не успел, так как гончая выбралась на дорогу и вихрем помчалась к хозяину. Волк, увлеченный погоней, лишь шагов за тридцать увидел наведенное на него дуло. Он сразу осел, но с разбегу продолжал скользить, как на ледне, подъезжая с вытаращенными глазами к охотнику. Ружье дало осечку. Волк с такой силой оттолкнулся задними лапами, что содрал когтями лед с дороги, но тут же был сражен вторым выстрелом. У каждого выводка волков зимой свой охотничий маршрут, и в зависимости от того, где и сколько найдут волки корма, определяется срок возвращения выводка. Волки хорошо запоминают места скотских кладбищ, выкладываемых привад и постоянно, через более или менее равные промежутки времени, проверяют их. В степях, где скот вынужден добывать и зимой корм на пастбищах, волки наносят стадам особенно большой урон. Сытые волки идут цепочкой, стараясь поскорее лечь в укромном месте. Следы голодных волков часто расходятся, и звери возбужденно роют лапами снег, разбрасывая мох и траву. Не раз приходилось удивляться организованности волчьего выводка, когда он охотится зимой за зайцами или другими зверями. По следам было видно, что одни гонятся за добычей, а другие идут наперерез или затаиваются в засадах, а затем, не подавая голоса находят в лесу друг друга, сходясь вместе на какой-либо полянке. Волк скачет быстрее зайцев, даже русаков (высшая скорость русака 70 километров в час, а волка—восемьдесят), которых настигает в лунную ночь в полях. Особенно удачно волки проводят охоту за лисицами, и там, где волков много, лисица становится большой редкостью. Только очень голодные волки едят лисиц, а чаще давят их и оставляют нетронутыми. На лосей волки избегают нападать по глубокому рыхлому снегу, так как движения у хищников связаны, а лоси без промаха рубят хищников острыми копытами длинных и сильных передних ног. Но зато на твердом насте, когда эти лесные великаны проваливаются копытами до земли, а ледяной коркой режут ноги, волки мчатся к ним, как по асфальту, нападают со всех сторон и быстро валят даже крупного быка, хватая за брюхо и вырывая внутренности. В декабре, январе, феврале (в зависимости от места и возраста) у волков начинается брачный период—гон. Около волчицы появляются чужие самцы. Волки тогда часто бродят и днем. По следам видно, как в возбуждении роют они снег, вместе с которым далеко в сторону отбрасывают сухую прошлогоднюю траву. После ожесточенной грызни самцов, в которой принимают участие и некоторые особо сильные переярки (большая часть которых способна размножаться только в следующем году), около волчицы остается самый крепкий— победитель. Немало самцов уходят сильно израненными, а некоторые вовсе гибнут. Обычно переярки помогают победителю прикончить побежденного. Щенятся волчицы через шестьдесят два—шестьдесят три дня после спаривания, как и собаки. Недели за две, за три до родов волчица, где бы она ни находилась, стремится возвратиться к тому месту, где воспитывала выводок в прошлом году. «Гнездо» волчицы чаще всего бывает под выворотом бурелома, под старой поленницей дров, среди кочек на сухом, бугре болота, в тростниках, в кустарнике. Только степные волки, если нет лесных оврагов, роют норы. Логово находится в глухом, не посещаемом людьми месте, но не всегда. В лесу-парке рядом с городом Вязьмой, где постоянно гуляли люди, я заметил в августе 1921 года недалеко от центральной дорожки, на краю пологого овражка, в густых папоротниках лёжки, на которых осталась серая с черными перехватами -волчья шерсть. Я не хотел верить этому, так как в сорока— пятидесяти шагах играли на лужайке маленькие дети. Но велико было мое удивление, когда почти из-под ног из травы поднялась волчица и, пригибаясь, рысью побежала по узкой протоптанной тропинке. Где бы ни выбрала волчица место для логова, оно всегда бывает около воды—ручья, речки, болота, озера и даже близ глубокой, непересыхающей колеи лесной дороги. Если вода пересыхает, то и выводок перемещается. Без воды волки жить не могут. Около водопоя всегда ясно видны на сырой земле большие, кругловатые следы с ясными отпечатками когтей. В апреле рождаются от трех до четырнадцати, чаще пять— восемь слепых, глухих, с затянутыми кожей ушами, темнобурых головастых волчат. Волчица кормит их молоком, а отец, сперва волчицу, а потом и волчат кормит отрыжкой полупе-реваренного мяса. Реже приносит он запрызенных или раненных животных. Весной, когда горные сурки после зимней, спячки выходят из нор, волки перестают уничтожать в этих местах скот и охотятся за зверьками, Особенно обильно питаются волчьи выводки тогда, когда молодые сурчата начинают в массе появляться на поверхности земли. Волчата прозревают на двенадцатый—тринадцатый день,, а ушные отверстия открываются у них несколько раньше. Трехнедельных волчат родители уже оставляют одних, отправляясь на охоту. Летом волки промышляют и днем, подбираясь к стадам коз, овец, свиней; режут жеребят, телят. С радостью встречают волчата отца, виляют хвостиками, лижут ему губы и тихо взвизгивают. Вскоре у него начинаются спазмы, и примерно половина съеденной порции отрыгивается на утоптанную площадку. Оставшееся мясо после волчат подбирает волчица. Сотрудники Московского зоопарка в шутку говорили: «Волк так любит своих детей, что как увидит их, так его тошнит». Мы пробовали воспитывать маленьких волчат без отрыжки самца, но росли они медленней и часто становились рахитиками. У волчат, видимо, нехватает св оих желудочных соков, и они получают их от самца с кормом. Чем взрослей волчата, тем с меньшей охотой делится с ними отец содержимым своего желудка. Иногда приходилось наблюдать на обширной поляне «Острова зверей» в Московском зоопарке, как наевшийся самец отворачивался и пытался отойти от пристававших к нему подросших волчат, которые начинали даже прихватывать его за губы. Волк вел себя, как виноватая собака, искоса взглядывая иногда на строгую волчицу. Если сцена эта затягивалась, то вмешивалась и мать: одним прыжком сбивала она самца с ног и кусала за живот. Молчаливый вообще волк визжал при этом и, вскочив на ноги, тут же отрыгивал гораздо большую порцию, чем обычно. Вообще сердитый в другое время, волк беспрекословно подчиняется волчице в период воспитания потомства. Достаточно-бывает ее пристального взгляда, чтобы он отошел и лег на свое место. Ближе к осени, когда молодые начинают уже отходить с родителями от логова, мы наблюдали в Московском зоопар-*ке, как жестоко расправлялась волчица, а за ней и весь выводок, с кривоногими и вообще слабыми волчатами. Начинается эта расправа с того, что пристальный злой взгляд мать останавливает на избранной жертве. Волчонок извивается, виляет хвостом, не знает, куда глядеть... Момент—и весь выводок бросается на него, а через несколько секунд волки треплют уже оторванную голову, лапы и другие части тела погибшего. Не потому ли в природе среди бродячих выводков мы не находим хилых волков? В Московским зоопарке, где конкуренция между самцами при отвоевывании самок отсутствовала, пара доживала до глубокой старости. Когда же самец терял зубы или стачивал их до уровня десен, то более молодая волчица умерщвляла его, хватая за горло и не отпуская до тех пор, пока он не переставал шевелиться. Так волчица «Дикарка» задавила 1 декабря 1934 года старого волка «Арго». В природе такой старый волк должен был бы погибнуть много раньше в борьбе с сильнейшими. По нашим наблюдениям, в Московском зоопарке волки становились дряхлыми и погибали не старше двенадцати лет, по другим же источникам—они могут доживать до четырнадцати—пятнадцати лет. Самый старый волк, живший в неволе и павший от старости, имел шестнадцать лет от роду. Волчицы впервые приносят волчат в двух, а многие даже в трехгодовалом возрасте и щенятся ежегодно. Самый крупный волк, известный нам, весил семьдесят два килограмма. Он был пойман 25 февраля 1942 года в капкан на Алтае. Во многих книгах написано, что в темные ночи у волков блестят глаза. Это верно, но не совсем. Глаза блестят у волков, лисиц и некоторых других зверей только в том случае, когда рядом с наблюдателем есть свет, например, фонарь, фары автомобиля, освещенное окно, костер или даже зажженная спичка. Блеск этот происходит потому, что сосудистая оболочка глаза имеет «зеркальце», содержащее кристаллики, отражающие свет. Взятые маленькими, некоторые из волчат легко приручаются, очень привязываются к хозяину, если он хорошо с ними обращается, и ведут себя, как собаки, отличаясь от них большей непосредственностью и активностью. Но далеко не все волки одинаковы, многие из них в неволе остаются злыми и осторожными. Как и собака, волк ест все, чем питается и человек, даже фрукты. На воле также эти звери питаются не одним мясом, а уничтожают на бахчах немало арбузов, дынь, едят злак*.
Бой лося с волками Если кормить волчат фаршем, картошкой и другими мягкими кормами, то череп выкормленного волка трудно отличить от черепа домашней собаки: все бугры к которым прикреплены сухожилья мускулов, оказываются сглаженными. Воспитанные в неволе волки, так или иначе очутившиеся затем на свободе и снова одичавшие, могут стать опасными для людей, особенно для детей, в чем мы могли не раз убедиться. Так, двухлетняя волчица по кличке «Женька», переданная нами подмосковному совхозу для охраны фруктового сада, вырвалась дорогой.и бросилась назад в Москву. В зоопарк она не попала, а поселилась в Лосиноостровском лесничестве. Первое время она питалась отбросами на помойках дач, куда приходила по ночам. Потом начала рвать и есть собак, а впоследствии стала нападать на школьников, которых, к счастью, во-время удавалось отбивать. С первым же выпавшим снегом на эту волчицу была устроена облава. Немало удивился один из участников облавы—юный биолог, когда перед ним на полянку от загонщиков выбежала... «Женька». Он назвал ее по имени, и она завиляла хвостом. Для верности все же пришлось ее застрелить. Интересно отметить, что у волков и собак имеется странная на первый взгляд привычка валяться на гниющих и пахучих отбросах. Нам пришлось не раз наблюдать, как вернувшуюся с падали собаку обнюхивали в деревне другие, встречавшие ее собаки. После этого они отправлялись по ее следу •и возвращались с раздутыми желудками. «Надушившаяся» собака помогала в данном случае другим найти по ее пахучим следам корм. Стремление валяться на падали свойственно всем собачьим и, нам кажется, наследственно закрепилось, как выгодный для вида признак. Так, подросшие волчата являются по следам родителей к трупам животных, от которых матёрые волки пришли к логову. Волк—вреднейший хищник, которого нужно уничтожать во все времена года. Для этого нужно научиться находить волчьи логова, следя за взрослыми волками, которые идут к выводку прямо по протоптанным узким дорожкам, а утром оставляют хорошо заметный след на росистой траве.
Бурый медведь Туго приходится зимой волку, когда голод вынуждает его бороздить глубокие снега. Совсем иначе устраивается другой наш могучий лесной хищник—бурый медведь. Осенью медведь, жиреет и устоаивает берлогу, в которой и лежит до весны. Зимой берлога заносится снегом, и медведь дремлете ней, медленно расходуя запасы осеннего, жира. Над берлогой свирепствуют снежные бураны, трещат от мороза деревья, но это все мало касается лесного великана. Однажды, когда на улице был мороз в четырнадцать градусов, мы всунули привязанный к палке градусник в берлогу. Там на расстоянии ста семидесяти сантиметров от входа, близ места, где лежал медведь, температура была плюс два градуса по Цельсию. Особенно чувствительны к морозу у бурого медведя голые ступни лап, которые он, лежа в берлоге, прижимает к телу, пряча в густой шерсти. Хорошо! упитанный с осени медведь за всю зиму ни разу не выходит из берлоги. Те же медведи,, которые не могли к осени накопить в теле достаточно жира, в берлоги не ложатся. Они вынуждены искать себе зимой пропитание и, понятно, гибнут, оказавшись совсем неприспособленными к снегам, морозам и бескормицам в наших негостеприимных зимой, молчаливых лесах. Особенно в неурожайные для ягод годы, попадаются такие «шатуны». Лежа в берлоге, взрослый медведь теряет за зиму от трех до пяти пудов жира на поддержание температуры тела в тридцать шесть с половиной—тридцать семь градусов по Цельсию. Исхудавший и голодный, еще при мартовских, апрельских морозах он покидает берлогу и отправляется искать корм. Водянистый весенний жир зверя быстро расходуется. Еще труднее, казалось бы, дотянуть до весны медведицам, которые в декабре—январе после семимесячной (приблизительно) беременности приносят в берлоге двух—трех, иногда четырех медвежат. Но это только так кажется. На самом же деле медведицы ложатся в берлоги еще более ожиревшими, qeM самцы, а детеныши родятся такими маленькими, что прокормить их до весны молоком не столь уже трудная задача для такой громадной матери. Велико было наше удивление, когда впервые пришлось взвешивать и измерять новорожденных медвежат. Их вес колебался от пятисот до пятисот десяти граммов! Жесткая шерсть новорожденных настолько редка, что малыши казались почти голыми. Веки глаз у медвежат плотно сросшиеся, а ушные отверстия затянуты кожей. Полусогнувшись, мать лежит на спине и держит малышей у себя на животе, со всех сторон прикрывая их лапами и головой. Медвежата сосут мать с урчанием, напоминающим звук далеко летящего аэроплана, а иногда кричат. - Только при выходе из берлоги на солнышко, когда появляются уже на пригорках большие проталины, медвежата начинают быстро расти. Некоторые молодые медведицы сильно запаздывают с родами, принося медвежат даже в апреле, когда надо бы уже выходить из берлоги. Эти поздныши не поспевают к зиме вырасти и в берлогу с матерью ложатся осенью недоросшими. За зиму они, конечно, не растут и за второе лето, когда они отходят от матери (медведицы не каждый год, а через год приносят потомство), не вырастают до нормы. Отстав в росте за два года, эти поздныши уже никогда не становятся крупными медведями, почему некоторые зоологи и охотники часто считают, что в данном районе водятся два подвида (породы) медведей—одни крупные, другие мелкие («муравьятники» и «стервятники»). По существу же это одна порода, один вид. Самцы и холостые медведицы раньше выходят из берлог. Голодные, они сейчас же отправляются искать корм. Их можно встретить на падали, на прошлогодних костях, на оттаявших моховых клюквениках, где собирают они мороженые ягоды, способствующие очищению столь долго не действовавшего пищеварительного тракта. Нередко в желудках и испражнениях медведей весной встречается лишайник. Старые медведи нападают весной на лосей. Следует опасаться их в это время и человеку. Еще по насту отправляется старый, опытный медведь туда, где в низинных ивовых зарослях зимовали, протоптав дорожками снег, лоси. Спугнув лосей с места, медведь гонит их по глубокому снегу. Состязание это не в пользу лосей, которые до земли режут острыми копытами жесткий и еще глубокий снег, обдирая ноги, а медведь на махах мчится поверху, не оставляя на насте даже отпечатков широких лап. Беда лосям, если не поспеют они выскочить на мелкий снег, покрывающий лед озера или реки. Один из студентов охотоведческого факультета шел в апреле на лыжах по льду реки Чун в Лапландском заповеднике. Увидев впереди себя полынью, он стал взбираться на берег, чтобы обойти это опасное место. Поравнявшись на откосе с кустами, он увидел большого рыжего медведя, бежавшего прямо на него. Зверь мгновенно сбил охотоведа с ног, схватил зубами за ногу, и начал злобно трепать. Лежа на спине, студент снял все же с плеча ружье и в упор хотел выстрелить в медведя. Набившийся на боек снег вызвал осечку. Испугавшись металлического звука курка, медведь отскочил на метр и внимательно стал смотреть на жертву. Студент нажал спуск второго курка, и на этот раз зверь был пронизан пулей. Оказалось, что медведь только-что прикончил тут двух лосей: годовалого он успел закопать в снег на берегу, а крупную беременную лосиху он настиг на льду и вместе с ней, проломив лед, попал в воду, где задавил ее и почти вытащил на снег. Эту то полынью и обходил студент, не подозревая, что медведь, разгоряченный схваткой, охранял из кустов свою богатую добычу. Весной же чаще Всего медведи нападают на коров и лошадей. Но далеко не все медведи столь вредны. Есть глухие места, где нападение медведей на скот и людей очень редки. А на Камчатке, где живут особенно громадные медведи, таких случаев почти не бывало, как и на Дальнем Востоке, на Кавказе и во многих других местах СССР. Но на реке Кан, притоке Енисея, очень опасаются медведей, которые не раз выслеживали и первыми нападали на охотников. Мы часто наблюдали (то же замечали и наши знакомые мецвежатники), как крупные медведи, встав из берлоги, ищут других, не поднявшихся еще соплеменников с явным намерением переломать им ребра. Поэтому, вероятно, медведь ют медведя не ложится на зиму ближе, чем за несколько километров. Иногда след медведя, вставшего из берлоги, ведет прямо, не сворачивая, на десятки километров, очевидно, туда, откуда пришел этот зверь во время осенней перекочевки, чтобы залечь в берлогу. Таких кочевых медведей много на Урале. Но чаще медведи ж>ивут оседло, питаясь на обширном участке, и переходят лишь из одних угодий в другие по мере созревания тех или других кормов. Чем быстрее развертывается ъе с-на, тем больше кормов находит медведь. Он отрывает корни, клубни, разворачивает пни и ищет в гнилушках жуков и их личинки; сдвигает с места упавшие деревья и выбирает под ними червей, жужелиц, улиток; ищет прошлогодние орехи, жолуди; раскапывает муравейники и, гсложив на них лапы, с жадностью затем слизывает с них длинным языком муравьев. Часто весной встречаются толстые деревья, кора которых бывает изодрана когтями медведей на такой высоте, до которой они могли достать, лишь встав на задние лапы. Из разодранной коры елей, сосен, кедров обильно слезится смола. Некоторые американские ученые считают эти высокие метки на деревьях «предупреждением» для более мелких медведей, чтобы они удирали подальше от опасных и более сильных соседей. Крупные медведи, действительно, злы и не терпят поблизости других, но к ободранным деревьям это, конечно, не имеет никакого отношения. Царапают деревья медведи потому, что за пять—шесть месяцев зимнего покоя у них так сильно отрастают бездействовавшие когти, что мешают весной ходить. Их-то медведи и стачивают, царапая кору. С весны медв еди линяют. У них, начиная с пахов, выпадает постепенно вся зимняя шерсть, заменяющаяся более темной, короткой, подрастающей к осени. Второй линьки у них не бывает. С конца мая по июль включительно медведи спариваются. Между самцами (бывают в это время сильные бои. Однажды охотник на реке Кан (приток Енисея) рассказывал мне, как недалеко от него на краю высокого обрыва сражались около медведицы два больших медведя. После особо сильного удара один из них покатился ш круче, увлекая за собой целую лавину камней. Встав на ноги, неудачливый соперник печально посмотрел вверх, откуда, свесившись над обрывом, за ним внимательно следил победитель. Постояв немного на месте, разбитой походкой побрел побежденный прочь от места сражения. Молодые медведицы и самцы впервые могут спариваться в возрасте не ранее двух с половиной лет. но не все. Многие медведи впервые спариваются в три с половиной года. Однажды нам удалось в Московском зоопарке отделить медведицу от самца на другой же день после начала спаривания. Она принесла после этого медвежат через семь месяцев. Если зимой потревоженная в берлоге медведица легко покидает медвежат и бежит от охотников, то летом она самоотверженно защищает подросших детенышей. Самцы не только не принимают участия в воспитании медвежат, но при удобном случае пытаются их уничтожить. Свирепо обороняющаяся медведица отгоняет самцов. На следующую осень медведица ложится в берлогу вместе с медвежатами. Медвежат она кормит из вымени, парные соски которого расположены близ передних ног. Медвежата, рожденные в январе, достигают к осени тридцати—сорока килограммов. Медведица—очень заботливая мать, но иногда с силой бьет лапой непослушного медвежонка. Наряду с жуками, муравьями, птичьими яйцами, рыбой, мясом медведи поедают громадное количество ягод—земляники, малины, черники, морошк , гонобобеля, брусники, водяники « клюквы. К осени поспевают семена болотной гречишки, которая летом цветет розовыми плотными колосками. Нам часто приходилось удивляться терпению медведей, которые ошмыгивали губами каждый колос с редкими семенами этой гречи. К осени медведи начинают выходить на недозревшие овсы, обсасывают метелки. На Кавказе они ломают и поедают кукурузу. Только к осени медведи способны жиреть даже на бедных кормах. В другие сезоны года эти звери жиреть не могут. Интересно, что осенью из медведей выходят круглые и ленточные глисты, которых всегда много летом в кишечниках этих зверей. В берлогу медвед и залегают лишенные внутренних паразитов, иначе не перезимовать бы этим зверям. Возможно, что глисты выгоняются какими-либо глистогонными кормами, но, как говорят наши наблюдения в зоопарке, и без глистогонных кормов многие медведи на эиму очищались от глистов: очевидно, сам медведь на зимний сезон становится неподходящим «хозяином» для этих паразитов. От глистов осенью очищаются не только медведи, но все звери, впадающие в з имний сон или в спячку. В сибирских лесах медведи обезображивают кедровые леса, Ломают и корёжат у кедров вершины и громадные боковые сучья, доставая кедровые шишки. Они раскапывают и поедают запасы бурундуков, упорно копают норы сурков, погружаясь почти совсем в землю. Не застрахованы от них даже норы барсуков. На Дальнем Востоке бурые медведи следят за тиграми, поедая остатки после удачной охоты этих могучих кошек. Но старательней всего медведи ищут ттчел, прислушиваясь к их жужжанию и находя мед чутьем. Нередко они ошибаются, принимая за пчел гудящие телеграфные провода, которые рвут, взбираясь по столбам. Осенью медведи откочевывают туда, где лежали они в берлогах зиму, занимают, подновляя, старые и строят новые. Они таскают в берлогу много еловых веточек, обрывая и •обкусывая ближайшие деревья. Полной старости медведи достигают к тридцати годам жизни, «о самый старый бурый медведь дожил в Шенбрун-ском зоологическом саду до тридцати четырех лет. Самые большие медведи, о которых сообщали нам, были убиты на Камчатке и Дальнем Востоке. Вес их достигал двадцати четырех пудов (четыре центнера)! Полного роста медведи достигают к четырем—пяти годам. Медведь обладает громадной силой: он выворачивает большие камни, приподнимает упавшие деревья, ломает толстые ветки, утаскивает на далекие расстояния убитых коров и лосей. Он редко попадается на глаза человеку, бесшумно скрываясь в чаще при встречах. Неуклюжий с виду, медведь очень проворен и быстр на бегу. Был случай, когда напуганный черный медведь более километра мчался вдоль шоссе, уходя от автомобиля, шедшего со скоростью сорок пять — пятьдесят километров в час. Медведь бесшумно идет по частому лесу. Он хорошо ялавает скачками и на плаву легко догоняет лося. Не мало медведей тонет осенью и весной, когда они отваживаются переходить реки и озера по тонкому или трухлявому льду. О присутствии медведя в лесу можно быстро догадаться тю вывороченным и разодранным гнилым пням, стронутым с места большим упавшим деревьям; по полумертвым разрытым муравейникам; по отпечаткам когтей и громадных косых ступней зверя на грязи лесных дорог; по странным тропинкам с частыми косыми, как на вальке, ступеньками; яровые поля, примыкающие к лесу, где бродит медведь, бывают измяты, а объеденные метелки овса закручены вихрями. Часто можно встретить и помет медведя. На деревьях остается шерсть от почесывания зверя, царапины от когтей," свежеполоманные вершины кедров. Летняя охота на медведя носит случайный характер. В основном охотятся за медведями зимой на берлогах. Охоту на медведя следует начинать лишь поздней осенью, когда зверь жирен и с полным мехом. В летнее время надо отстреливать лишь тех медведей, которые нападают на скот и портят посевы.
3аяц - беляк Более всех других зверей оказался приспособленным к жизни в лесах заяц-беляк. Этот зверек, из отряда грызунов, к зиме меняет однотонную рыжевато-серую шерсть на чисто белую,— черными остаются у него лишь кончики ушей. На рыхлом снегу беляк оставляет очень крупный след, и трудно бывает верить, глядя на него, что здесь прошел заяц. Величина следа объясняется тем, что беляк широко расставляет свои четыре длинных пальца задних лап. И если бы он не мог этого делать, то жизнь в лесу для него была бы немыслимой: заяц глубоко тонул бы в рыхлых лесных снегах. При широкой лапе беляк мало вязнет и легко движется по рыхлому снегу. Его лапы густо опушены, даже когти скрыты шерстью: он ходит, как в валенках. Беляк—это настоящий-лесной житель, хотя изредка и встречается в Башкирских и Казахских степях на тех местах, где, вероятно, раньше был лес, исчезнувший впоследствии. Беляк занимает всю северную лесную ча>сть СССР с ее горными областями. Встречается он и в кустарниках тундры. В Европе беляк населяет Альпы. Нет его только на Кавказе, в Крыму и Средней Азии. Живет он в самых разнообразных лесах, но больше в таких, в которых есть богатые травой сечи, осоковые болота,, черничные кочки, ельники, молодые ивняки, осины. Беляк питается этим скудным лесным кормом и начисто обгладывает зимой кору поваленных осинок. Он приходит еще с осени к лесорубкам, где лежат сучья и вершинки осин, берез, веточки которых он обгрызает. Особенно охотно откапывает и ест беляк грибы —олений трюфель. Посещает он и озими. Кору осин беляк начинает глодать тогда, когда осыпается листва. Осенью в коре деревьев откладывается большой запас крахмала и других питательных веществ, за счет которых так быстро растут весной листья и побеги. У всех зайцев сзади двух широких и острых резцов верхней челюсти находятся два тупых, коротких. Эти подставочки задерживают резцы нижней челюсти, когда, перекусив веточку, они с размаху стукаются об них, как ножницы садовника. Если бы не было задних тупых резцов, то нижние, перекусывая мороженые веточки, ранили бы нёбо. Зимой беляк протаптывает тропы в лесных сугробах и живет на небольшой площади (иногда на одном—двух гектарах). К местам кормежки беляки собираются со всех сторон и образуют целые колонии по десяти и более штук. Если зайцев мало тревожат охотники, лисы и волки, то они перестают даже в ясные морозные ночи далеко отходить от мест кормежек и лежат днем там, где кормились. Это наблюдается при глубоких рыхлых снегах, когда беляку и на широких лапах все же трудно бегать. Но чаще зайцы кормятся по ночам в одних местах, - на лежку днем ух одят подальше, в более укромные места. По снегу тогда видны длинные тропы, ведущие от лесосек к густым зарослям ельника и орешника, пригнутого к земле снегом. Особенно много собирается зайцев, если среди поваленных осинок снег посыпать солью.; беляки, как и все растительноядные звери, нуждаются в соли. После свежевыпавшего снега зайцы ходят очень мало, а если пороша кончилась поздно ночью, то многие и совсем не выходят на кормежку, оставаясь лежать целые сутки. В такое время и (следов их почти не бывает. Иногда в ненастную погоду, в снегопад, в сильный ветер и буран зайцы не встают с лежек и по двое суток или же, покормившись у соседних кустиков, залегают вновь, нередко на прежней лежке. Обычно же после каждой ночной кормежки зайцы ложатся в новом месте. Что удерживает зайца на лежке — снегопад, ветер , мороз, давление? Неизвестно, и вопрос этот не так прост. В некоторых местах Сибири, где беляка ловят на тропах проволочными петлями, охотн ики со держ ат в неоталеваемых помещениях живых зайцев и пользуются ими, как баро^ -метром. Если ночью корм остался нетронут ым, а на полу, подсыпанном известкой или_ песком, нет свеж их заячьих следов, значит, и в лес хо дить незачем, так как зайцы и там не поднимались. Прежде чем лечь, беляк путает свой след, делая большие прыжки со сдвоенного следа в сторону, бежит тропами, где след его незаметен, колеей, лыжней. Прыжков со сдвоенных следов бывает много, они называются сметками или скидками. Часто зайцы «скидываются» также с торных дорог. След зайца, идущего на лежку, резко отличается от следа кормящегося или просто бегущего зайца. Это нужно хорошо помнить охотнику и уметь быстро различать следы. Вспугнутый с лежки заяц бежит большими скачками и оставляет «гонный» след, не похожий на тот, который шел к лежке. Интересно отметить, что если к лежке нет следа (заяц не вставал, след занесен), то собаки не чуют зайца даже на •близком расстоянии. Часто гончая, много раз пробегавшая по одному и тому же месту, вдруг бывает озадачена внезапным появлением зайца, выросшего перед ней, как из-под земли. Где же было хваленое чутье гончей? Дело тут не в чутье, а в зайце, у которого шкурка почти не пахнет, так как в ней нет потовых желез. Почему же тогда гоняет его собака, чуя след?—спросите вы. След чует собака потому, что именно на подошвах зайцев много потовых и сальных железок, оставляющих сильный запах на следу. Сидящего зайца, с прижатыми к земле лапками никто не чует, а бегущего чует хищник даже на полном скаку. След зайца, только что вскочившего с лежки, собака чует много хуже, чем того, который перед тем долго бежал. Усталый заяц оставляет более потные отпечатки лапок, чем лежавший на лежке без движения. Вот почему собаки, долго гонявшие одного зайца, не подменяют его другими «шумовыми», то-есть только что вскочившими от шума. На лежке заяц никогда не мочится и не испражняется. В середине марта зайцы начинают линять, белая шерсть клочьями ползет с них, заменяясь рыжевато-серой, более короткой и редкой. Брачный период у зайцев начинается в середине февраля и длится с перерывами до конца июля (зайчихи приносят зайчат два и даже три раза в лето). В это время зайцы бегают и днем. О размножении зайцев долгое время не было точных сведений. Лишь в 1927, 1928 и 1929 годах, поместив партию беляков и русаков на просторную огороженную поляну Московского зоопарка, мы хорошо изучили этот важный в жизни зайцев период. Раньше полагали, что срок беременности у зайчих такой же, как и у кроликов,—двадцать восемь—тридцать дней. Оказалось же. что зайчиха беляка «носит» почти вдвое дольше—пятьдесят—пятьдесят один день и рожает от трех до шести (иногда и больше) зрячих, со стоячими ушками, покрытых густой, волнистой серой шёрсткой зайчат. Еще мокрые, они лезут под брюхо матери и жадно присасываются к соскам. Каждый зайченок, не отрываясь, высасывает около сорока граммов молока. Молоко беляка, как показал аналйз, раз в шесть жирнее коровьего, оно содержит 23,6 процента жира! Накормив новорожденных, зайчиха не задерживается •около них долго и убегает. Через пятьдесят—пятьдесят один день зайчиха вторично приносит новорожденных Как же растут зайчата? В первый день рождения они весят около восьмидесяти тати граммов плюс сорок граммов молока, высосанного у матери. Некоторое время накормленные зайчата сидят кучкой, греются и сохнут, а затем разбегаются и затаиваются в траве, припав в какой-либе ямке или у корня дерева. Переваривая жирное молоко, зайчата сидят смирно, не бегая и, следовательно, не оставляя следов от двух до четырех дней, в зависимости от того, сколько досталось им молока. Найти их мудрено, так как серенькая шёрстка незаметна среди прошлогодней травы, а запаха малыши не имеют. Мать не ходит к ним и тоже не оставляет следа. Пока зайчики сидят, они не мочатся и не испражняются, значит, и лежка их не пахнет. Хищники с самым острым чутьем не могут обнаружить зайчат, проходя совсем рядом. Но спустя три—четыре дня молоко переварится, и голод заставляет зайчат встать и иттй на поиски пищи. К этому времени у всех матерей-зайчих вдруг пробуждается материнская забота о детях, и они с вытаращенными глазами бегают по лесу, нюхают землю и ищут зайчат. Своих? Нет, им все равно чьих. Напав на след зайченка (а он пахнет, так как низ лапок потеет), зайчиха быстро догоняет его. Он бросается под брюхо кормилицы, жадно сосет и вновь затаивается. На восьмой—девятый день у зайчат уже отрастают зубы, и малыши начинают жевать траву. Раньше говорили, что зайчиха «плохая мать», что она не «заботится» о детях, как другие звери. Но не будем поспешно ругать зайчиху. Другая, более заботливая мать, наверное, погубила бы зайчат излишними посещениями их. Вспомните только: ведь за зайцами охотятся все хищники, выслеживая их по следам. Если бы зайчата сидели в лесу под кустиком, кучкой, а зайчиха по нескольку раз в день прибегала кормить и облизывать их, то следом за ней явились бы лисы или волки; беспомощные зайчата были бы уничтожены до единого На поляну, где, затаившись, лежало много новорожденных зайчат, я однажды вошел с ручной лисицей, ведя ее на поводке. Мне хотелось выяснить, почует лиса зайчат или нет. Ничего не подозревая, лиса пробегала в пятнадцати—двадцати сантиметрах от зайчат, распластавшихся на земле, не замечая их. Мы закрывали потом лисе глаза, чтобы она не-видела, как побежит поднятый нами с лежки зайченок. Пересекая после этого след зайченка, лиса задыхаясь, рвалась за ним в догонку. Напрасно охотники чрезмерно винят лисицу в том, что она уничтожает массу зайчат. Не так легко, оказывается, взять зайчонка и не такой уже он беспомощный!. Работники Волжско-Камской биологической станции были очень смущены тем, что в испражнениях лисиц, которые они собирали и изучали, шерсть зайчат попадалась, как большая редкость, в то время как год выдался урожайный на зайчат. До этого они были уверены, что лиса в значительной степени питается зайчатами. Зайчонок, начавший есть траву, снова перестает бегать. Он питается, осторожно выедая зелень плешинками кругом себя, опять-таки без следа. И здесь только случайно можно наткнуться на зайчат в густой траве. Тринадцатидневного зайчонка (весит он в это время около четырехсот граммов) поймать уже трудно,—он быстро бегает, ловко увертывается и мастерски «западает», делая прыжки в стороны. Огороженная большая поляна в зоопарке оказалась недостаточной для того, чтобы зайчихи могли на ней вырастить два выводка подряд. Только что родивших зайчих быстро высасывали подросшие, пятидесятидневные, даже чужие зайчата (весившие уже свыше шестисот граммов), а новорожденные, которым молока не оставалось, скоро погибали от голода. В природе беременные зайчихи далеко отходят от места,, где есть уже выводок, иначе новорожденным грозит гибель от голода, как это было в зоопарке. Так благодаря отбору ’ выработалась у зайцев полезная привычка, предохраняющая от перенаселения. Зайчата совершенно не похожи на крольчат, так как кролики родятся голыми, слепыми; за ними все время ухаживает мать, оберегая беспомощных детенышей в длинной и узкой норе. Понятно, что столь недоразвитые крольчата, меньше «аходились в утробе матери, чем зайчата (двадцать девять— тридцать дней). Понятно также, что и все опыты по получению гибридов (помесей) зайцев и кроликов остались безрезультатными. Нет надежды, что такие гибриды (лепориды) могут быть получены вообще. Совы и филины уничтожают много кормящихся ночами зайчат. Только большая плодовитость зайцев спасает их от истребления. Живут зайцы десять—двенадцать лет, но редкие из них умирают своей, естественной смертью. Кроме указанных вра-(гой, у зайца есть еще очень серьезный истребитель—это его •болезни. В некоторые, особенно сырые, годы зайцы бывают заражены легочными, кишечными, печеночными и пузырчатыми глистами, от которых слабеют и гибнут массами или делаются легкой добычей хищников. Немало зайчат гибнет от весенних заморозков, снегопадов и холодных дождей, особенно в ранних выводках. Беляк, как лесной житель, не причиняет человеку заметного вреда, уничтожая лишь поросль лесных пород. Ни одного зверя (кроме суслика и белки) не преследуют охотники так сильно, как зайца. В Сибири ставят на заячьих тропах петли и капканы. В спортивных охотничьих хозяйствах охотятся на зайцев исключительно с ружьями. Это одна из самых интересных охот, так как она не требует особых приготовлений (загонщиков, флажков). 3аяц - русaк Русак—заяц открытых мест, он избегает сплошных лесов и живет в полях, степях, заливных лугах, посещая лишь перелески и фруктовые сады. Его узкие задние лапки сильно вязнут в рыхлых лесных сугробах. Только пЪ открытым полям, где снег сдут или уплотнен ветром, русак ходит, как по паркету. В Западной Белоруссии, где снега бывает мало (например, Беловежская пуща), русак живет и в лесах. В отличие от беляка русак и зимой остается серым, а хвост у него сверху черный. Светлеют у него только бока. Северо-восточные и кустанайские русаки к зиме светлеют несравненно больше, чем южные. Русаки не так страдают от болезней, как беляки, живущие е сырых лесах. Корм русака гораздо питательней, чем его лесного собрата—беляка. Живя близ человека, русак посещает посевы; зимой откапывает зелень; забирается в сенные сараи; подходит к стогам; грызет на огородах кочерыжки капусты и во время февральских—мартовских настов приходит по твердому снегу в сады и обгладывает кору фруктовых деревьев, чем приносит иногда громадные убытки. Поэтому-то необходимо на зиму обвязывать стволы фруктовых деревьев ветками ели или; огораживать сады. Снег с полей бывает часто сдут к опушкам лесов, в овраги, и серая спина русака как нельзя лучше подходит под-цвет обнажившейся борозды пашни, где русак, выкопав неглубокую ямку, лежит днем. По полям очень легко ходить, и русак за зимнюю, длинную, ясную и морозную ночь исхаживает много километров, посещая, знакомые гумна, заросшие бурьяном межи. Нередко при луне у клеверного стога можно, видеть целую компанию кормящихся русаков. Мясо русаков упитаннее, чем у беляков, да и по размеру русаки больше. Взрослый русак весит обычно пять килограммов, достигая иногда и шести. Взрослый беляк редко достигает веса в пять килограммов. Русак распространен >в европейской части СССР и во> всей Европе. В Азию русак проник между Чкаловой и Гурьевом, пройдя в эти безлесные ворота до Аральского моря на восток к: до Челябинска—Кургана на север. Через лесной Урал русак ке мог проникнуть в Сибирь потому, что зимой его не пропускали рыхлые уральские лесные снега, а летом зайцы вообще не кочуют, так как приносят потомство. Начиная с 1936 года несколько партий русаков, общей численностью свыше тысячи штук, были отловлены в Башкирской республике (лучшие по качеству русаки—мензелин-ские), перевезены по железной дороге и выпущены в несколь -ких пунктах Западной и Восточной Сибири. Там они разошлись по степям и начали размножаться, но не везде одинаково успешно, так как их усиленно преследовали хищники. Принято считать зайца великим трусом. В действительности же он совсем уж не такой трус, в чем часто приходится убеждаться охотникам. Не раз я видел, как нападал на зайцев гроза всех птиц и мелких зверей ястреб-тетеревятник. Мужественно вел себя серый русак, на которого нападал этот ястреб посреди чистого поля! Казалось, нет спасенья несчастному,—до густых кустов далеко. Каждый раз в самую критическую секунду, когда когти настигающего хищника готовы были вонзиться в шею жертвы, русак оборачивался и прыгал навстречу ястребу, нанося ему молниеносные удары и царапины острыми когтями передних лап. В сильный бинокль мне было видно, как временами, тяжело дыша, сидел заяц, а против него—ястреб. Они отдыхали, чтобы затем? сразиться снова. Мне удалось застрелить этого ястреба и-спасти зайца. У ястреба оказалась сильно израненной когтями зайца грудь. На Дальнем Востоке однажды охотник спугнул с лежки беляка, на которого стрелой бросился с высоты могучий орел-беркут. Беляк упал на спину и с такой силой нанес орлу задними ногами удар в брюхо, что этот «царь птиц» с распущенными крыльями шлепнулся на землю. Подоспевший охотник видел, как не спеша уходил заяц, а грозная птица путалась в собственных выпущенных кишках. Но, понятно,, далеко не каждому зайцу удается так легко отделаться от пернатых хищников; большинство гибнет в их когтях. Основное средство защиты от врагов у зайцев—это их быстрый бег. Нам приходилось встречать в степях Украины, отдельных русаков, скорость которых превышала 80 километров в час. Зайчихи приносят детенышей 2—3 раза в год, а на юге СССР и 4 раза. Но чем южнее, тем меньше зайчат в помете. Зайчата долго сидят вместе, под небольшим навесом» выкопанной ими пещерки. Мать активно защищает их от хищных птиц—например луней. Иногда можно встретить помесь беляка с русаком, которые называются тумаками, особенно у северных границ распространения русака. В степях, пустынях и горах Средней Азии, в Казахстане-живут мелкие зайцы—толаи, напоминающие видом и повадками русаков, но с еще более длинными ушами. Эти зайцы-редко превышают два килограмма двести граммов веса. Они особенно многочисленны в прибрежных зарослях рек и высокой степной траве, которую там называют «чий». В приморских лесах Дальнего Востока также встречаются-очень маленькие зайцы—маньчжурские, скорее напоминающие кроликов, с короткими задними лапками и сравнительно-короткими ушами. В нашей стране охотники ежегодно добывают пятнадцать—двадцать миллионов зайцев, то-есть не менее сорока тысяч тонн вкусного и питательного мяса.
Суслики Трудно сказать, сколько зерна похищают суслики на колхозных полях, но несомненно, что убытки эти громадны. Достаточно вспомнить, что каждый суслик, поселившийся в посевах, съедает и портит за лето до шестнадцати килограммов зерна. Недаром с сусликами ведется такая упорная борьба. Их ловят капканами, затравливают в норках ядами, ядовитыми газами. Одних только шкурок различных видов сусликов у нас заготовляется в некоторые годы свыше сорока миллионов штук. При распашке степей суслики перебираются на края полей, на нераспаханные межи, на обочины дорог, где роют в целине глубокие норки. На самых полях они не поселяются потому, что при сплошной распашке, особенно на черных парах, не находят там кормов. Но летом, когда поля покрыты зреющими хлебами, многие виды сусликов переселяются туда и роют на пашнях временные норы. Все виды сусликов приносят тз норах детенышей один раз в году. Кроме тонкопалого суслика, который населяет песчаные пустыни Средней Азии и Южного Казахстана, все остальные суслики залегают в норах на долгую зимнюю спячку. Перед тем как залечь, они закупоривают норы изнутри землей. Засыпая на зиму, зверьки холодеют до такой степени, что трудно даже бывает решить живы они пли же мертвы. В спячку впадают суслики только сильно ожиревшие.
Бобры запасают древесный корм на зиму В СССР встречается десять видов сусликов, но все они живут и размножаются примерно одинаково. Выйдя весной на поверхность, суслики греются на солнышке й вскоре становятся очень активными. Самцы кусают друг друга. Сохранившийся от зимы сильно водянистый жир быстро расходуется, и беда для сусликов, если установятся холодные, да еще со снегопадом дни. Зверьки тогда вынуждены голодать, быстро слабеют и гибнут. Дней через тридцать—тридцать пять после пробуждения сусликов появляются в норах молодые суслята {от пяти до двенадцати), но чаще их рождается шесть. Во второй половине мая молодые начинают покидать те норы, в которых они родились. Тогда можно встретить бродячих суслят, которые роют новые норы близ основной колонии и занимают старые, покинутые. Поздние выводки дольше не залегают в спячку. На выгорающих пастбищах они не жиреют так сильно, как ранние выводки, и плохо растут. В следующем году большая часть этих мелких самок остается без приплода. До залегания в спячку все суслики успевают облинять. Линька, как и у всех зверей, впадающих в спячку, бывает у сусликов только один раз в году, исключая тонкопалого, который в спячку не впадает. Из всех сусликов наиболее подвижен длиннохвостый сибирский. Размерами он приблизительно с крупную белку и во многом напоминает ее (все суслики относятся к семейству беличьих). Кольцевание этих светлосерых зверьков с ясной рябью на спине выяснило, что они переплывают даже широкие реки и кочуют, расселяясь на десятки километров. Длиннохвостый суслик единственный, который от Алтайских и Тянь-Шанских гор расселен на северо-восток до берегов Ледовитого океана, Чукотского мыса и Охотского моря. Он же широко распространен и в Северной Америке. Норы этого суслика можно встретить в горах, степях, долинах рек и на лесных полянах. Охотники должны энергично вылавливать вредных сусликов, истребляя их всеми доступными способами. Не приносят вреда сельскому хозяйству только тонкопалые суслики, живущие в песчаных пустынях Средней Азии. Редко вредят и крупные суслики—песчаники, которые распространены в левобережье нижней Волги, Южном Казахстане, в Средней Азии и акклиматизированы в Карагандинских степях, на островах Барса-Келмес на Аральском море. Шкурки этих сусликов отличаются высокими качествами. Во многих местах они стали редки и охраняются. Бурундук бурундук похож! на сусликов, но отличается от них пушистым (расчесанным на стороны) хвостом и пятью темными полосками вдоль спины и боков. Этого грызуна называют иногда «земляной белкой», так как гнезда бурундук устраивает не на деревьях, а в норах. Бурундук—веселый и очень подвижный зверек. Относится он к семейству беличьих. Вес его редко превышает 100 граммов. Его первого встретишь летом в лесах всей Сибири (кроме Камчатки) и на севере европейской части СССР. Он близко подбегает к человеку, забегает вперед и вскакивает «а пни, на кусты, с любопытством рассматривая проходящего. Проводив вас метров двести, полосатый зверек возвращается назад, как бы передав -путешественника своему соседу по участку. Испуганный, он издает цикание, напоминающее призывный или тревожный крик овсянки, но более резкий. Интересно бывает наблюдать, как бурундук спешит в конце лета набить семенами свои большие защечные мешки. Если загнать зверька с раздутыми щеками на дерево, то, пережидая опасность, как бы от нечего делать, он выдавливает кулачками корм из защечных мешков в рот и закусывает. Напуганный бурундук взъерошивает шерстку, обнимает лапками голову и, сидя неподвижно на пне, издает мелодичное «трум-трум». В туго набитых защечных мешках помещается около десяти граммов зерна. В этих мешках бурундуки переносят корм, который складывают в специальных камерах своего жилища. К зиме набирается здесь иногда свыше четырех килограммов различных семян. В лесах, где нет полей, бурундуки запасают семена зонтичных и других растений, кедровые орешки. Все это в большом порядке уложено в его подземных камерах недалеко от котлованчика, в котором сам хозяин этого добра впадает на зиму в спячку. Тело его холодеет, и он редко просыпается зимой. Корм остается неиспользованным до весны. В марте, в первой половине апреля (в зависимости от местности и погоды) бурундуки выходят из нор. В эти же сроки поднимаются из берлог и медведи. Через неделю по выходе иэ нор бурундуки издают особые весенниь крики; самцы гоняются друг за другом по деревьям и, кусаясь, клубком катаются иногда по земле. Они много тратят в это время сил. Если бы не запасы кормов, остающиеся в норах еще с осени, то туго пришлось бы бурундукам весной, когда природа так скупа и бедна. «Проносив» тридцать один день, самка рожает иногда до десяти, а чаще шестерых голых и слепых бурундучат (от 2,7 до 3,3 грамма весом и длиной около 4,5 сантиметров), которые к полуторамесячному возрасту расходятся и роют каждый собственную нору с отделениями для кладовых. Мы оставляли на зиму в клетках по нескольку бурундуков в одном гнезде. Перезимовывал из них только один, просыпавшийся раньше всех: он прокусывал спящим собратьям головы и съедал мозг. Не одними семенами, ягодами, корнями и корневищами питаются бурундуки. Они едят немало насекомых, птичьих яиц, ловят ящериц и других мелких животных. Размножаются и линяют бурундуки только один раз в году. Как белка, суслики, так и бурундуки бодрствуют только днем, ночью спят. Немало бурундуков ловят ястреба, мелкие хищные звери, но больше всего достается им от медведей, которые раскапывают осенью норки этих зверьков и съедают запасы, а заодно и самих хозяев, впавших в спячку.
Крот * едко удается увидеть этого странного зверька из отряда насекомоядных на поверхности земли. Большую часть жизни он проводит в земле. Вывернутыми наружу широкими ладонями коротких, сильных передних лап, вооруженных крепкими когтями, крот быстро копает норы. Он лежит при этом на боку и, сопя, роет попеременно то одной, то другой лапой. Когда земли набирается столько, что она закупоривает сзади зверька нору, он прокапывает выход вверх и широкой, длинной головой выталкивает в него землю. Бывает видно тогда, как шевелится и растет черная кочка. Вытянутая мордочка крота кончается широким розовым чувствительным пятачком с ноздрями, которыми зверёк прекрасно чует. Глаза у крота так малы, что их сразу не заметишь,—вроде бисеринок. Ими крот может с трудом отличить только свет от тьмы, но предметы не различает совершенно. Наружных ушей у него нет, а вход в уши прикрыт валиками кожи, поэтому земля в них не попадает. На полянах и лугах подземные ходы крота обозначаются кочками, а в лесах чаще всего кочек не бывает, так как зверьки двигаясь под мхом и в рыхлой земле, раздвигают ее в стороны— тогда на поверхности бывают заметны лишь вздутия. Крот копает так быстро, что, посаженный на землю, уходит в нее на глазах. Кормовые летние норы его идут в общем недалеко от поверхности, но на разных глубинах. Труднее всего прорыть подземный ход под дорогой, где земля сильно утрамбована колесами и копытами лошадей. Долго трудится тут зверёк. Да одному кроту, пожалуй, и не преодолеть этого препятствия: здесь посменно работают многие кроты, которые и пользуются потом сообща этой траншеей при переходе с одной стороны дороги на другую. Глядя на луг, покрытый свежими и старыми кочками, невольно спрашиваешь, что же делают кроты в этих бесчисленных подземных галлереях? Оказывается, они в них кормятся, едят попавших туда дождевых червей. Черви и составляют основной корм этих странных животных, чавкающих и дробящих многочисленными зубами (крот имеет сорок четыре зуба!) извивающуюся добычу. Крот, как наблюдали мы со студентами, не просто пожирает дождевых червей, а постепенно, предварительно выда вливая из н х землю пальцами передних лап. Не случайно в ходы кротов попадают черви. Здесь они опоражнивают от земли свой пищеварительный тракт, так же как и ночью, выходя на поверхность земли. Поэтому-то норки червей всегда бывают чистыми, незасо-ренными ходами. Много раз в день кроты проверяют свои подземные длинные галлереи. Они больше охотятся и меньше спят, пожирая в день более пятидесяти граммов червей, то-есть больше половины веса своего тела (крот весит восемьдесят—сто граммов, а алтайский до двухсот). Нет пощады от кротов и вредным жирным личинкам майских жуков, жестким плотным и длинным гусеницам жуков-щелкунов, или «проволочным червям» (костянкам), въедающимся в картофель, свеклу, морковь, жукам и другим! насекомым, которые попадают в охотничьи норы крота. Если добычи в эти норы начинает попадать мало (окрестности обловлены), то кроты роют новые траншеи. Там, где личинки майского жука нападают на посевы или лесные посадки, крот находит обильный корм и спасает тысячи растений. Дело в том, что всем известные майские жуки летающие весной по вечерам, а днем объедающие молодую зелень берез, дубов, яблонь и других деревьев, летят потом на паровые поля и опушки лесов, где самка откладывает в землю на глубине до двадцати пяти сантиметров около семидесяти яичек в разных местах. Из яичек выводятся маленькие беленькие личинки, которые грызут живые корни растений. Растения от этого желтеют и сохнут. Личинки движутся под землей и растут в течение четырех лет, уходя на зиму в более глубокие, не промерзающие слои земли. Туда же за ними часто опускаются и кроты. Только на пятое лето личинка, достигшая семи сантиметров длины и почти- в палец толщины, превращается в жука. Вот почему сильный лёт майских жуков бывает через каждые четыре—пять лет. Если бы не кроты, которые активно ищут в земле этих толстых и жирных вредителей, прокладывая следом за ними свои ходы, то редкой сосенке и другим молодым деревцам удалось бы избежать гибели от этих гусениц-обжор. Кроты сильно страдают в засуху, когда дождев ые черви перестают ползать, худеют и замирают до дождей в своих пещерах. Кроты переселяются тогда в пониженные, более влажные, места. На зиму, когда черви уходят от морозов глубже, кроты роют норы по дну канав, узких лесных лощин, где земля покрывается опавшим листом, а потом—толстым слоем снега. Под таким покровом земля промерзает меньше. Зимние охотничьи норы кротов тянутся иногда на два—три километра, -придерживаясь пониженных мест. Никаких запасов кормов на зиму кроты не делают. Эти зверьки распространены в СССР широко. От Белого моря, переходя и за Полярный круг, крот доходит на восток до Якутска и озера Байкал. В засушливых степях юго-вос-^точной Украины и в Крыму, где мало дождевых червей, крота нет, но от низовьев Дона к Кавказу и на Кавказе крот широко распространен. В Средней Азии крот не встречается совершенно. На обширной территории нашей страны сроки размножения у крота различны: на юге детеныши появляются в мае, но в средней полосе беременные самки встречаются не только в мае, но и в июне. 4 и 5 июня 1939 года, например, нами пойманы под Москвой две беременные самки, в которых оказалось по шести зародышей по полтора сантиметра длиной каждый. Продолжительность беременности кротов не установлена, но полагают, что она равна приблизительно сорока дням. Кроты приносят от трех до девяти, но чаще шесть голых и слепых детенышей, у которых сквозь тонкие, срос- шиеся веки просвечивают глаза. Свыше месяца питаются но- ворожденные молоком матери, которая далеко в это время от гнезда, помещенного чаще под пнем, не отходит. Через месяц детеныши достигают веса свыше пятидесяти граммов и начиняют самостоятельно добывать корм. А в двухмесячном возрасте молодые отл ичаются от взрослых только темными ладонями. Самки кротов приносят детенышей один раз в году. Но, возможно, что некоторые рожают в лето д важды, так как иногда попадаются беременные самки с отсосанными сосками. Линька кротов—дело сложное. Они линяют три раза в году: весной—смена волос полная, летом — неполная, а осенью отрастает густая и длинная шерсть. Самки и самцы Линяют в разные сроки. Столь необычайная для других зве-.рей троекратная линька оказалась выгодной кроту потому, что, двигаясь все время по норам, он быстрее снашивает шерстный покров, трущийся о Ьтенки, чем звери, живущие на поверхности земли. Крот в спячку зимой не впадает и подвижен круглый год. Много силы тратит крот, копая землю. Временами он отдыхает, тяжело дыша, но никогда не потеет, так как потовых желез у него нет и не может быть, иначе крот погиб бы от пота, который в сырой норе не может испаряться. В теплые зимы, когда оттепели чередуются с морозами, дождевые черви, как заметили мы в последние годы, поднимаются навстречу влаге и продолжают движение по мокрому снегу. Выходя на поверхность, они замерзают при ночных заморозках. Кроты питаются и мертвыми червями, прокладывая в снегу ходы, в тех горизонтах, где погребены черви. Не все кроты имеют черную окраску—попадаются пегие, седые. Есть и рыжеватые, как, например, в Черниговской области, Шосткинском районе, где они чаще встречается в песчаных почвах и именуются там «кротами-песчаниками». Самые крупные кроты встречаются на Алтае, где они достигают свыше двадцати сантиметров длины. Кроты иногда массами вымирают от болезней, но болезни &ти мало изучены. Часто массовые падежи кротов совпадают с длительными засухами. Так, например, в Жмеринском районе Винницкой области на один квадратный километр легко находили пять—шесть павших на поверхности земли кротов в засуху 1937 года. Но гибли ли кроты от недостатка корма или от глистов спирура — осталось невыясненным. Погибая, кроты выходят на поверхность, почему начинают встречаться в гнездах хищных птиц. Страдают кроты и в морозные бесснежные зимы, когда ходы их промерзают, а добыча исчезает. Чтобы успешно содержать кротов в неволе, их следует кормить червями, которых крот должен искать и откапывать. Только при усиленной работе хорошо действует желудок этого неугомонного зверька. Мы содержали крота в земле, насыпанной между Двух больших стекол. Интересно было наблюдать, как крот копал землю, искал пущенных туда червей и поедал их. Любители животных могли бы выяснить многие вопросы из мало изученной жизни крота и добиться размножения этого замечательного зверя в неволе. Раньше шкурки кротов не заготовлялись. Только с 1926— 1927 годов начали отлавливать этого зверька, шкурка которого отличается бархатистым, мягким волосом и достаточной прочностью. Помня, что кроты в основном размножаются только один раз в году, что они не способны к быстрым дальним переселениям, страдают от глистных заболеваний, засух и морозов в малоснежные зимы, не следует допускать чрезмерного отлова крота. В сельском хозяйстве крот полезен тем, что уничтожает на шашнях, в лугах и лесных посадках вредных личинок и жуков. Не любят крота за то, что. он покрывает луга кочками, которые мешают косить траву косилками. Но луга вообще требуют ухода. Имеются специальные кочкорезы, которые разбрасывают кочки, удобряя и освежая этим луга. Сердятся на крота и огородники, когда, вылавливая червей и личинок, пройдется этот землекоп вдоль грядки и оборвет корни пбсадо к. Но мы должны все же признать крота полезным животным и не допускать - его массового уничтожения. За небольшие указанные неприятности он щедро расплачивается своей шкуркой и поеданием вредных насекомых 2 . Многие вопросы биологии кротов до -сих пор остаются неизученными, и ученым еще нужно немало потрудиться, чтобы до конца выяснить жизнь этих подземных обитателей. На Дальнем Востоке живет крупный крот—могера, который не роет кочек, а в рыхлых лесных почвах прокладывает незаметные поверхностные ходы, в которых временами страдает и гибнет от сильных ливней.
Ондатра За последние двадцать лет в нашей стране появились новые ценные пушные звери: нутрия, енот, скунс, северо-амер и-канская норка, серебристо-черная лисица; их привезли из Америки и выпустили во многих м.естах СССР. Но быстрее всех размножилась у нас ондатра. Шкурка ондатры превышает тысячу квадратных сантиметров. Зверь этот родствен нашей водяной крысе (грызун), похож на нее, но много крупнее. Ондатра достигает полутора килограммов веса и тридцати четырех сантиметров дли ны от кончика /носа до корня хвоста, а с хвостом—до пятидесяти пяти сантиметров. Хвост ондатры сжат с боков; в воде зверек действует им и как рулем и как веслом. Задние лапы ондатры хорошо гребут в воде, так как по бокам пальцев у нее щетинки. Четырьмя острыми резцами ондатра срезает болотные растения, а двенадцатью плоскими коренными зубами очень мелко перетирает их. Хорошо ныряя, этот зверь может срезать растения, не захлебываясь, так как втянутыми в рот губами закрывает дыхательное горло. В берегах тихих водоемов ондатра роет широкие (до двадцати сантиметров) норы, входы в которые скрыты под водой. В низких берегах норы эти имеют длину иногда больше двадцати метров, а в крутых они короче. Кончаются эти норы (иногда сильно разветвленные) просторной камерой—гнездом. Гнезда бывают так близко от поверхности земли, что сквозь тонкий слой земли, пробуравленной червями и корнями, просачивается в камеру воздух. Если берега очень низменны, то ондатры строят «хатки». На затонувшую корягу, торфянистую кочку, едва возвышающуюся из-под воды, или же на заломы тростника, на сплавины зверьки натаскивают кучу болотных растений, веток, растительных объедков. Внутри этих куч-хаток зверьки устраивают гнезда (одно или несколько), выходы из которых ведут в воду. Гнездо находится обычно близ той стороны хатки, которая круче. Под пологой стороной, по которой ондатры таскали строительный материал, скрыта кормовая камера. Сюда из-под воды зверьки вытаскивают корм и здесь его поедают. Зимой в таких хатках, занесенных снегом, тепло. На озерах Венгеровского района Новосибирской области была измерена температура в гнездах хаток ондатр и в их кормовых камерах. Оказалось, что при двадцатидвухградусном морозе наружного воздуха градусник показал ВО многих гнездах от двух до пятнадцати градусов тепла по Цельсию. От воды или поверхности льда гнезда в хатках строятся на высоте десять—двадцать сантиметров. Внутри они выстланы сухой травой. Хатки достигают двух метров в высоту и трех метров в ширину. Семья ондатры занимает обычно несколько хаток, построенных близко одна к другой. Кормовые камеры ондатры строят и отдельно от хаток. Охотнее всего ондатры поедают молодые ростки и корневища тростника, нижние части стеблей осоки, основания рогоза, богатые крахмалом корневища кувшинок, трилистник и многие другие болотные растения. Там, где кормилась ондатра, по воде плавают узкие листья осоки, кусочки стеблей тростника, листья рогоза. На сырой почве отмелей можно видеть летом своеобразные следы этих зверьков. Зимой же, ондатра ведет подледный образ жизни. Ныряя из нор и хаток, ондатра может долго (до трех—четырех минут) оставаться под водой. Если растительных кормов мало, зверьки начинают голодать, и тогда в кормовых камерах /появляются разгрызенные рако’вины, остатки рыбы и червей. Беда ондатре, если водоемы промерзают до дна! Хорошо размножаются и перезимовывают эти грызуны в тихих заводях рек, в озерах, в глубоких болотах—в водоемах, не промерзающих до дна и богатых водными растениями. Но и в них может страдать ондатра от несвоевременных и частых колебаний уровня воды, обильных снегопадов, при которых хатки тонут, опускаясь под тяжестью снега, а выступающая вода заливает его поверхность. При понижении Уровня воды обнажаются входы в норы и хатки, и тогда в Норы устремляются мелкие хищники. Кроме того, к корму (к водным растениям) приходится ондатре тогда перебегать по открытому, обнажившемуся дну, где подкарауливают ее пернатые и четвероногие хищники. Когда вскрываются реки, а у закрайков озер появляются полыньи, ондатры и начинают кочевать, проходя многие десятки километров. Зверьки движутся по ночам (ондатра вообще зверь ночной), идут одиночками и не только вдоль водоемов, но и по суше, переходя через длинные водоразделы, степи и попадая в другие реки, озера и болота. В это время начинается размножение (гон). Зверьки разбиваются парами и скрываются в густых зарослях водных растений, осваивая новые, необжитые еще места. Через двадцать четыре—двадцать шесть дней после спаривания самка приносит в норе или в хате от четырех до десяти (чаще семь—восемь) слепых голых детенышей, которые прозревают приблизительно через одиннадцать—двенадцать дней. В трехнедельном возрасте детеныши едят растения, которые таскает им в гнездо самка. В месячном возрасте ондатрята сами уже выходят на кормежку. В это время они в большом количестве гибнут от нападения хищников. За лето самка приносит два, редко три выводка. Как показала проверка хаток в различных частях СССР, к зиме остается в семье десять—двенадцать (редко больше) зверьков различного возраста. В СССР ондатру начали расселять в 1927 году. До 1934 года было выпущено в наших северных областях около двух тысяч пятисот ввезенных из-за границы зверьков. В дальнейшем начали отлавливать ондатру для расселения из даших водоемов, где она- сильно размножилась. К 1945 году в тридцати девяти областях, краях и республиках Союза выпущено более сорока семи тысяч ондатр. Этот зверек занял большую часть водоемов от’наших западных границ до Тихого океана на востоке и от тундр до среднеазиатских республик (включительно) на юге. Через два—три года после выпуска (в зависимости от условий) уже необходим отлов ее, иначе этот зверек начинает усиленно кочевать: ему нехватяет кормов и удобных для поселения мест. Мясо ондатр употребляется в пищу. ( 1 Ондатра, вероятно, живет не более четЫрех—пяти лет, погибая к этому сроку от полной дряхлости. В природе редкая ондатра доживает до старости. В водоемы, расположенные вдали от занятых серой ондатрой, намечается выпуск более ценной темной ондатры. Во многих местах страны сейчас организованы ондатро- вые промхозы. Детальным изучением ее жизни, подысканием и устройством для нее подходящих водоемов заняты многие ученые, специалисты и охотнйки.
Бобр Ообр — один из самых интересных грызунов. Его жизнь, его способность валить деревья, сооружать плотины, каналы, хатки издавна поражали воображение людей. В старину многие непросвещенные охотники считали бобров очень умными и ча сто обожествляли их. Из-за очень денных красивых шкурок и мускусных желез 3 , содержимое которых употреблялось в медицине и в парфюмерии, бобры были почти совершенно уничтожены в царской России. Только после ВеЛикой Октябрьской социалистической революции немногие уцелевшие семьи этих зверей были взяты под строгую государственную охрану. На реках Усманке, Воронеже, Березине, Конде, Сосьве были организованы заповедники для размножения и изучения этих ценных пушных зверей. Под надежной охраной бобры стали усиленно размножаться, а ученые получНли возможность детально изучить их жизнь. Много нового узнали мы о бобрах за последние годы. Бобры—это крупные лрызуны, жизнь которых тесно связана с водой. Звери отличаются коренастым туловищем, короткими ногами, широкими, как у уток, перепонками, соединяющими все пять пальцев задних лап. На передних лапах перепонки меньше, а пальцы вооружены пятью длинными и крепкими копательными когтями. Голова у бобра массивная, с сильной мускулатурой, приводящей в движение нижнюю челюсть, вооруженную двумя большими желтобурыми резцами и восемью длос кими коренными зубами. Столько же зу-бов размещено и на верхней челюсти. Кто видел хоть раз бобра, того, несомненно, удивил его хвост, похожий на лопату. Только корень хвоста у него опушен волосами, а вся расширенная часть его покрыта поперечными рядами роговых пластинок. Хвост бобра—его руль. При плавании бобр гребет задними лапами, а его плоский, сплющенный сверху вниз хвост, действует, как руль глубины. Ныряя, бобры долго (до пяти и более минут) могут оставаться под водой, i i Бобры достигают двадцати пяти—тридцати и более килограммов веса, причем самки значительно крупнее самцов. Это крайне редкое явление среди зверей. Тело взрослого бобра от ко&Ч Ика носа до корня хвоста достигает „семидесяти сантиметров. Хвост имеет около тридцати сантиметров дли- ны и пятнадцать сантиметров ширины. Глаза, короткие уши и ноздри расположены в одной плоскости, и достаточно бобру слегка выс унуть ш воды голову, как он уже может все видеть, слышать ,и чуять. Бобры плавают сравнительно медленно, так как за добы-“чей, подобно выдре, -им го.няться не приходился,—питаются они водной и прибрежной растительностью, в том числе ветками и корой деревьев. Интересно наблюдать, как приводит бобр в порядок свой мех. У вылезшего из воды зверя вода быстро стекает с грубых остевых волос, сквозь же мягкий и густой подшерсток она ие проникает. Передними лапами бобр надавливает на две шары больших желез, рыделяющих жир и мускус, выжимая из них пахучую маслянистую жидкость в складку кожи. Ею он смазывает голову и всю шкурку, растирая смазку ладонями, а затем расчесывает шерсть задними лапами. Живут бобры в длинных норах, выходы из которых скрыты глубоко род водой. ЖиЛая просторная камера помещается близ поверхности земли. По ходам, оставшимся после сгнивших корней растений, и по норкам дождевых червей в *жилую камеру бобров поступает свеж-ий воздух. Зимой подъемную камеру бобров можно обнаружить по протаявшему на поверхности земли над норой снегу. Если берега водоемов низменны и заболочены, то бобры строят вместо нор хатки, натаскивая для этого пажи, ветви, камни, ил на кочки, ивовые и ольховые коряги, на поверхностные корневые сплетения деревьев, сплавины. Внутри хаток бобры устраивают просторные помещения, где на подстилке спят днем. Вход в хатку всегда скрыт под водой. Жилая камера, свыше полуметра высотой >и более (полутора метров шириной, содержится в большом порядке и чистоте. Снаружи хатка похожа на большую конусообразную кучу высотой до двух метров. Толщина стенок хаток достигает часто пятидесяти сантиметров. Строительный материал сцементирован илом, м хатка настолько прочна, что ее с большим трудом удается разрушить лишь при помощи лома, топора и лопаты. В сильные засухи, когда уровень воды в реках резко понижается и начинают обнажаться подводные входы в норьг бобров, колонии зверьков преграждают течение рек искусно-’сооруженными плотинами, благодаря которым уровень воды у нор и хатйк не ^меняется и выходы из нор остаются скрытыми. 1 Если корма близ нор иссякли й бобрам приходится Далеко отходить от воды на кормежку, то звери прорывают длинные каналы. По «каналам» бобры могут незаметно плыть, а при нужде и нырять, скрываясь от врагов. По каналам они доставляют к своим жилищам ветки, обрубки деревьев, траву и другие корма. Эти каналы, впрочем, чаще образуются из троп, которые звери протаптывают на торфянистых берегах. В густеющих сумерках из зас,ады можно наблюдать, как осторожно вылезают из воды бобры и по протоптанной ими тропе отправляются кормиться. Летом они с охотой поедают корни и побеги таволги вязолистной, ирис, конский щавель, одуванчики, рогоз, тростник, Крапиву, веточки ивняка и другие растения, в том числе и водные, например, кувшинки. Осенью, когда в коре осины, ивы, тополей и других мягких древесных пород скапливаются большие запасы питательных веществ (крахмал, белок), бобры посещают лесные опушки, вблизи водоемов, подгрызают и валят деревья, Толстые деревья им приходится подгрызать не одну ночь, прежде чем. они упадут. Грызя дерево, зверь поднимается на задние лапки, а передними придерживается за £твол. Из-под широких резцов во все стороны летят толстые стружКи, а бобр, углубляясь зубами в древесину, постепенно движется вокруг ствола. Подгрызённые деревья валятся чаще всего днем, когда-начинает дуть ветер, а бобры спят; поэтому и не бывает случаев, чтобы упавшее дерево придавило зверька. Если поблизости от водоема нет ивовых и •осиновых деревьев, то бобры грызут и другие породы, даже очень твердые, например, дубы. У поваленных деревьев звери обгрызают ветки, по частям утаскивают их в воду и сплавляют к жилищам. У бобровых йор и хаток часто можно (видеть большие запасы веток, запрятанных под берега или под нависшие коряги. ,Семья бобров запасает с осени до двадцати и более кубометров веток, и толстых обрубков. Ими питаются бобры зимой, затаскивая под льдом в свои помещения. Тонкие ветки съедаются ими целиком, а с толстых обгрызается кора. Стружки древесины; Служат бобрам подстилкой. В запас на зиму также идут толстые корневища кувшинок и тростника. Там, где близ ,бобровых поселений водятся лоси, косули,, зайцы-беляки, они кормятся зимой ветками \и корой поваленных бобрами дере’вьев, протаптывая в снегу к ним тропы. По этим тропам, если нет сильных морозов, подходят к своим Корм ам и бобры, когда кончаются их запасы в воде. Вообще же зимой аппетит и жизнедеятельность бобров понижены. Их голые лапы и хвост очень чувствительны к морозам, а в; рыхлом снегу бобры сильно вязнут. Если дет звериных троп, а запасы кормов истощились, то бобры роют в снегу траншеи, добираясь до Шустов ив!няка *или до деревьев, кору с которых обгрызают под снегом. Линяют бобры постепенно, в два приема, пер вый раз в. апреле—мае и второй —с конца августа по конец сентября. Спариваются бобры в середине зимы, непременно в воде, а через сто пять—сто семь дней самка приносит от одного до трех (реже четыре—пять) детенышей, покрытых густой темнобурой мягкой ,шёрсткой. Полузакрытые гла за у бобрят открываются Спустя несколько часов после рождения, а зубы прорезаются через несколько дней. Новорожденные весят от трехсот восьмидесяти до шестисот дв’адцати граммов. Мать кормит детенышей молоком от полутора до двух месяцев. Молоко бобров содержит свыше шестнадцати процентов жира, более ^восьми процентов белка, почему бобрята растут быстро, прибавляя в сутки по тридцать—.сорок граммов. Бобрята живут с родителями около двух лет; семья бобров состоит, следовательно, из двух старых бобров (отца ш м-атери), выводка текущего года и прошлогодних бобрят, то-есть шести—восьми—десяти (штук. На третьему году бобрята покидают родителей, расселяются парами и строят новые или занимают старые, покинутые нары и хатки. Вероятнее всего,, что молодые способны размножаться в возрасте двух с половиной лет. Живут бобры до тринадцати—пятнадцати лет. В Воронежском заповеднике Ьеред Отечественной войной насчитывалось свыше трех тысяч бобров. С 1934 года началось плановое расселение бобров по СССР, по тем местам, где они раньше водились, но были истреблены. Из Воронежского заповедника отправлено для этой цели свыше пятисот бобров. Бобры в новых местах быстро размножаются. Семья бобров не переносит появления на ее кормовом участке чужих бобров. И вообще они живут не колониями, а семьями. При расселении молодых, которым приходится проплывать или проходит мимо нор других бобров, постоянно приходится обороняться ;ОТ нападающих старожилов. Иногда переселенцы погибают от жестоких ран. Посторон-,ние, рядом живущие члены колонии, избегают нарушать границы участков своих соседей, узнавая их по резкому запаху мускуса, (который выделяют бо бры из желез на разные предметы -и на землю в районе своего жилища. У бобров в природе немного врагов: были случаи, что их норы раскапывали медведи и росомахи (в Лапландии), пытались ловить бобров волки, а молодых хватали иногда выдры и крупные щуки. Но это очень редкие случаи. У нас сейча с (к 1947 г.) накопилось в заповедниках достаточно бобров, чтобы быстро заселить пригодные для этого территории СССР и обогатить нашу природу еще одним очень ценным видом спасенного пушного зверя. Редактор В. Д. Елагин Техредактор В. Л, Рыбальченко Адрес издательства: Москва, Китайский пр., 3/4, подъезд За. А 09С09 Сдано в пр. 10.8.1948 г. Подп. к печ. 25.9.1948 г. Печ. л. 6. В 1 п. л. 42.000 зн. Форматбум. 60x90i/i6- Тираж 50000. Заказ 1370 Изд. инд. НП-1-87. Типография. Москва, улица Чехова, 6 1 Только в таежных лесах, как сообщают из Печорского заповедника, лисица зимой кормится преимущественно зайцами беляками. Мышевидных грызунов она ловит зимой редко, так как в тайге (по реке Печоре) полёвки живут под метровым слоем снега.— П. М. 2 Иногда кротов обвиняют в поедании и порче картофеля, свеклы, моркови и других овощей. Но обвинения эти совершенно иеобоснованы. Портят и поедают клубни и корнеплоды не кроты, а водяные и обыкновенные крысы, поселяющиеся на огородах и в полях, в ходах кротов, а на юге—грызуны-слепыши, своми большими кочками напоминающие кротов. 3 Мускусные железы имеются у самцов и самок в коже задней части живота близ корня хвсстя.
|