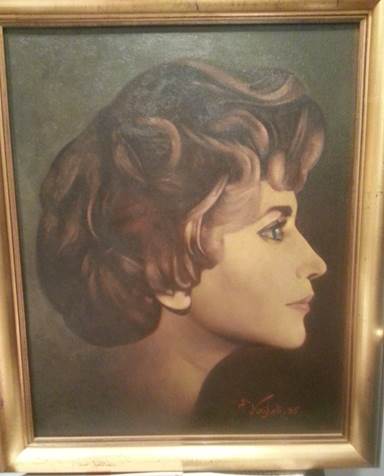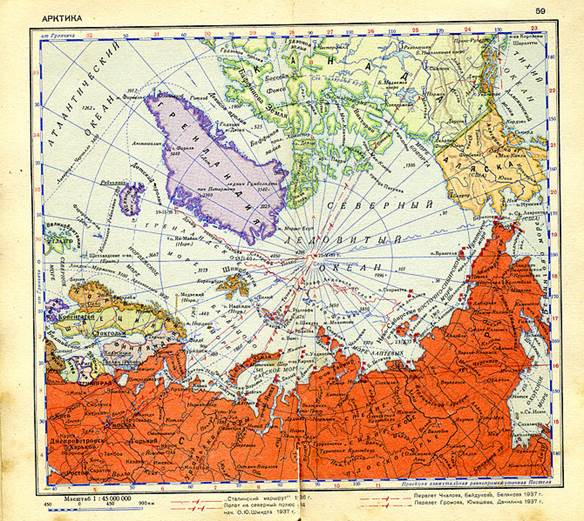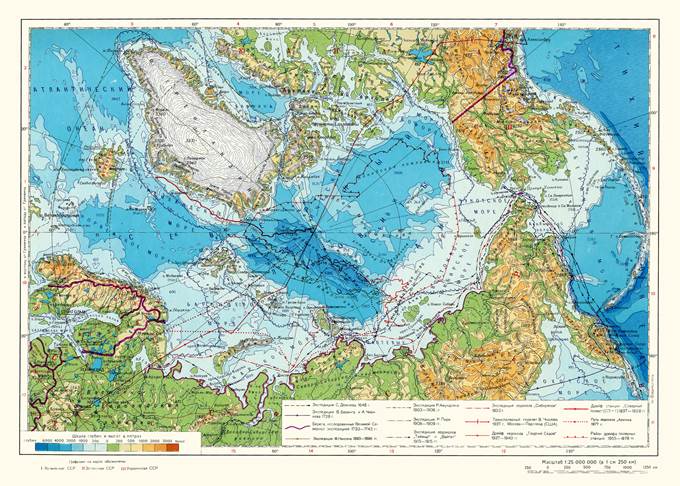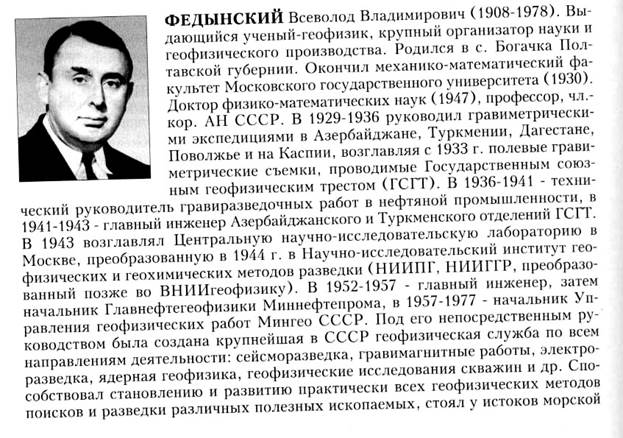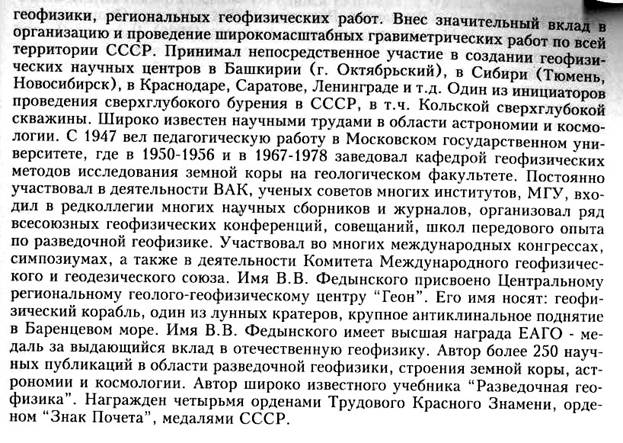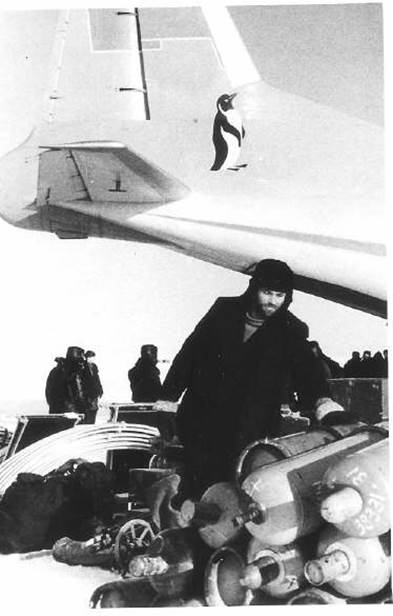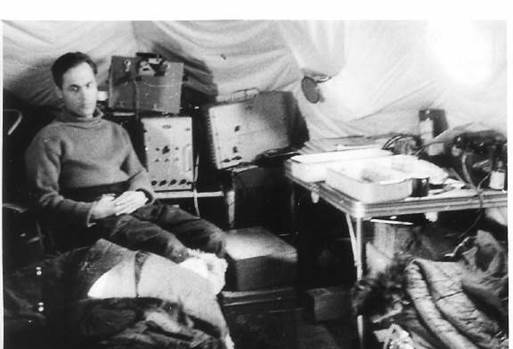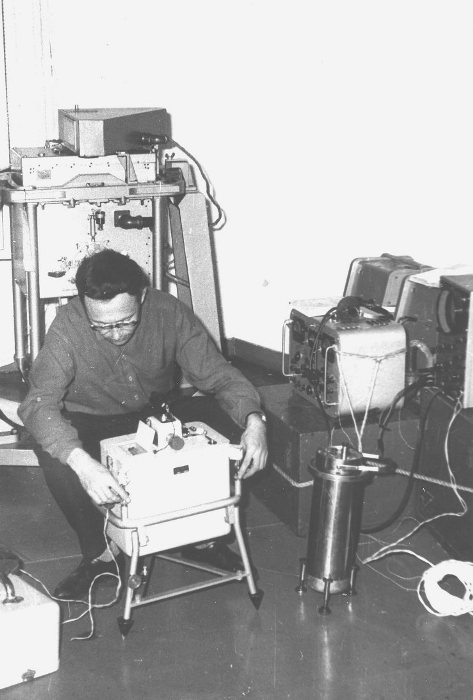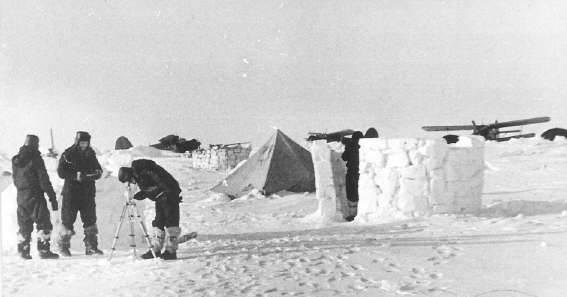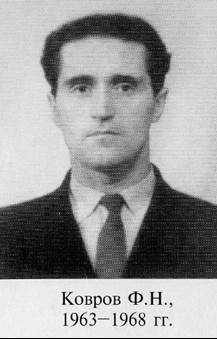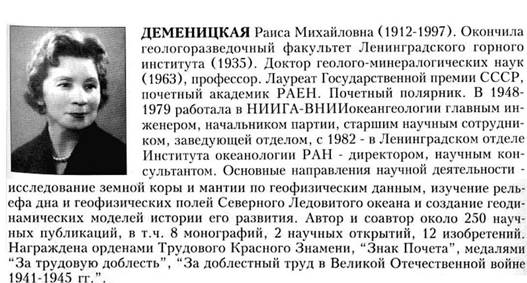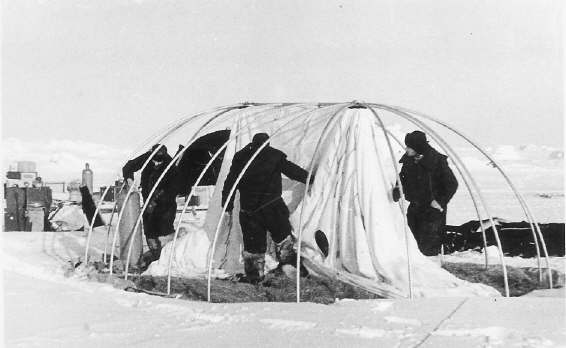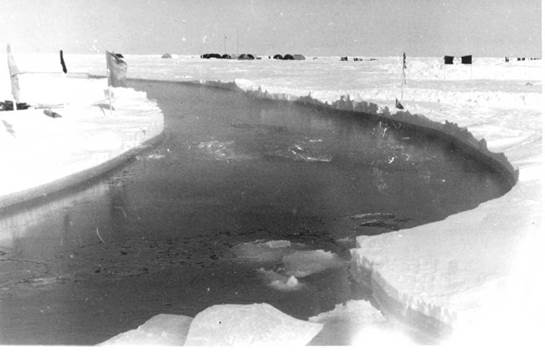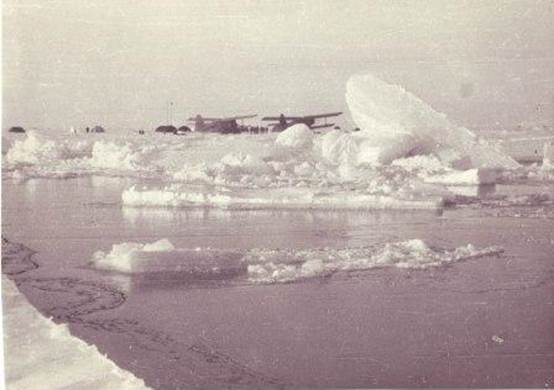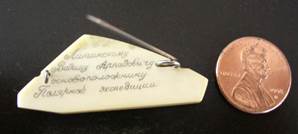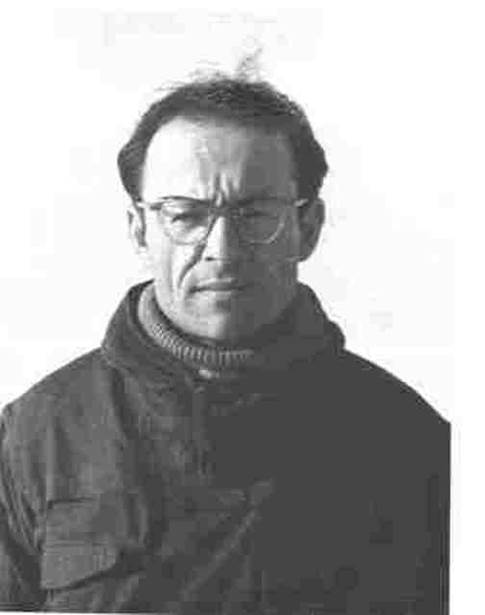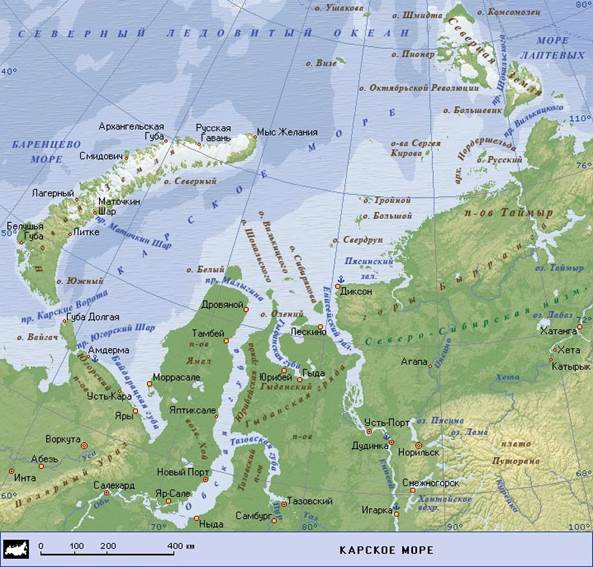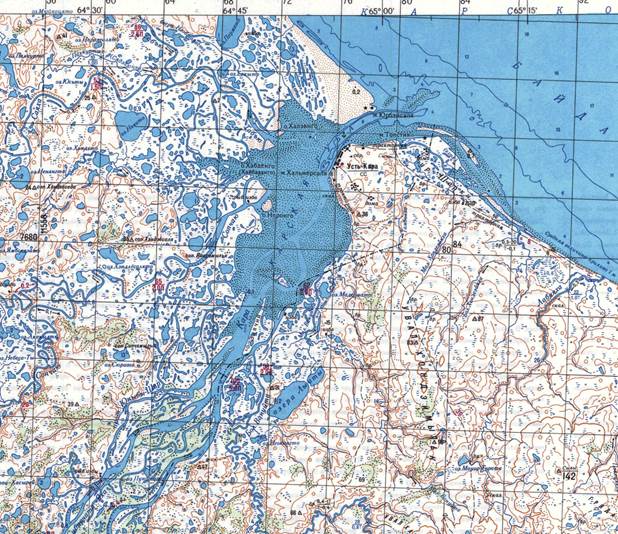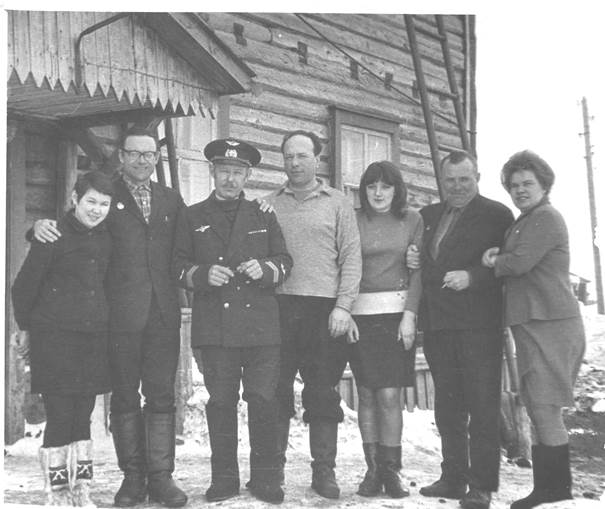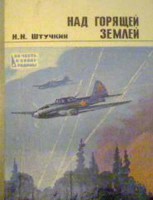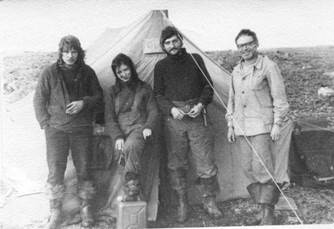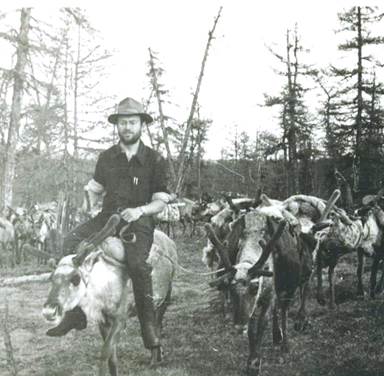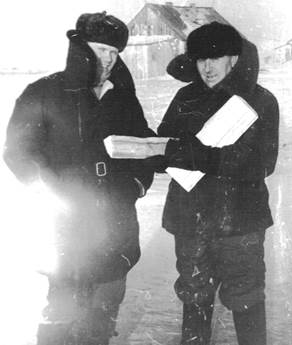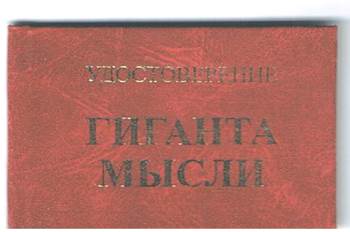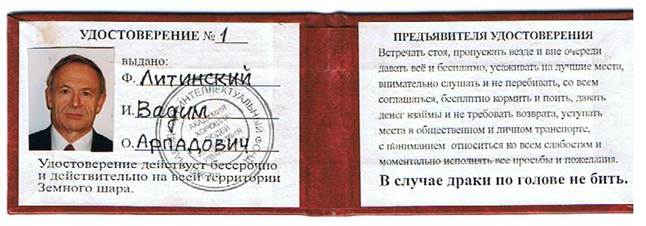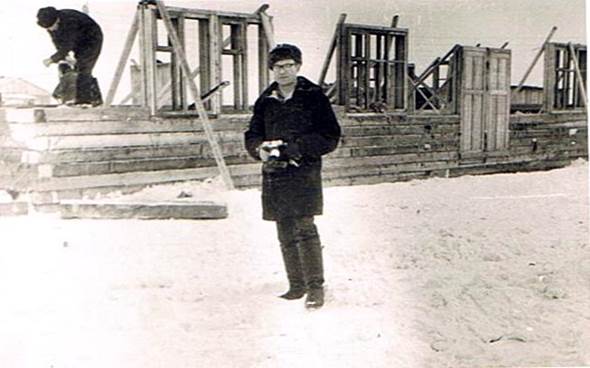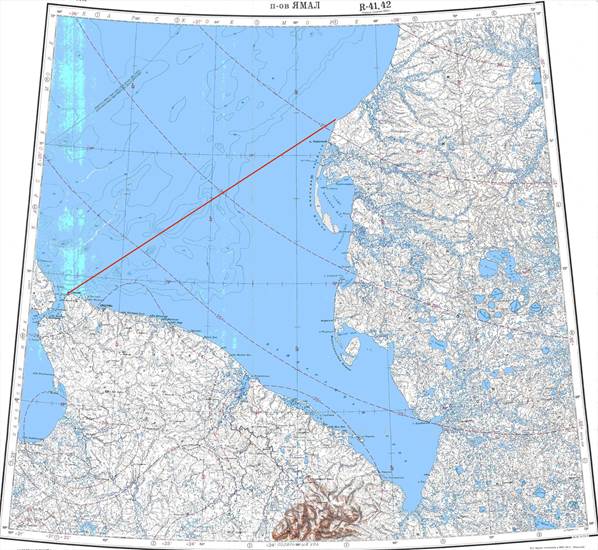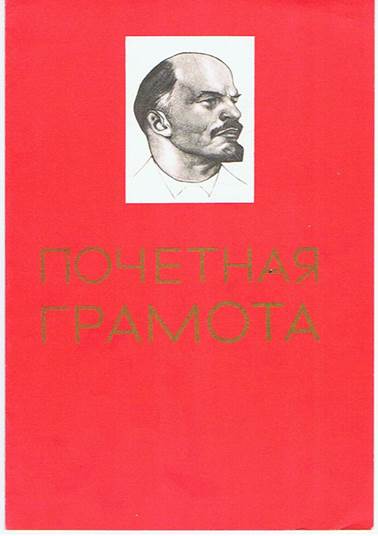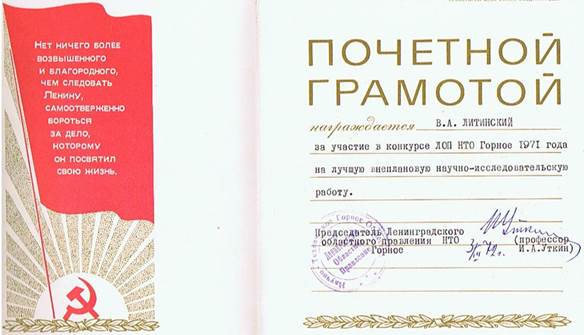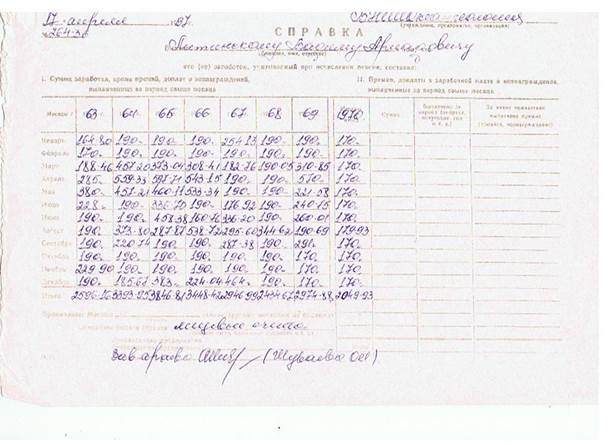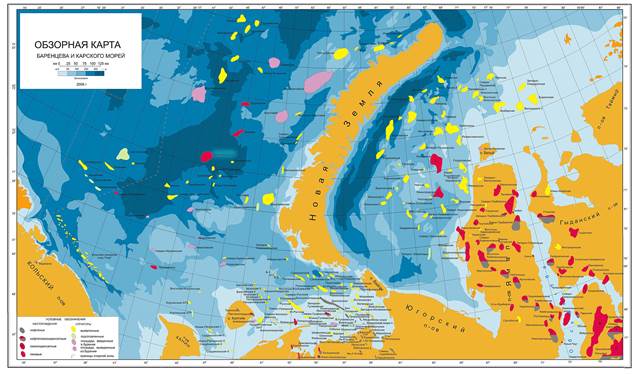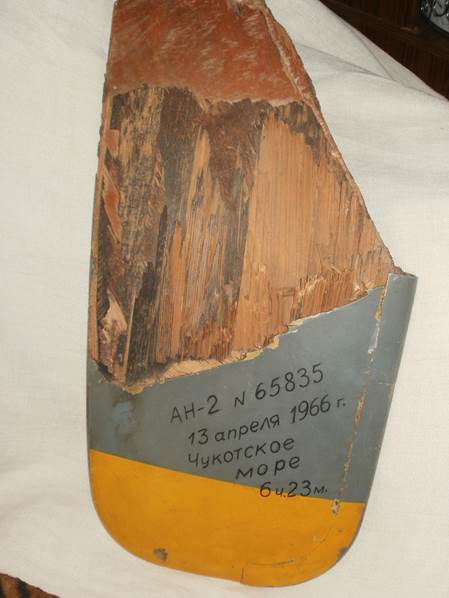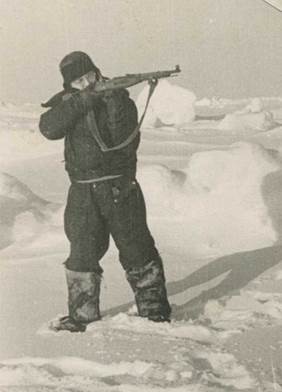| |||
 | |||
Вадим Литинский Денвер, Колорадо Бой роковой с тёмными силами На льду Байдарацкой губы (ледовое побоище) Квадрология с прологом и эпилогом (К 45-летию завершения авиадесантной гравиметрической съёмки советских арктических морей) Докуист (документальная история) с лёгким налётом стёба, чтобы было не так скучно читать. Присной памяти В.В. Федынского и Р.М. Деменицкой, поставившими меня командовать этой битвой Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас злобно гнетут, В бой роковой мы вступили с врагами, Нас еще судьбы безвестные ждут. «Варшавянка» Русский текст Г. Кржижановского, 1897 г. Площадь континентального шельфа Арктической зоны России составляет около 70% всего континентального шельфа РФ более 4,0 млн. кв. км. В Арктической зоне сосредоточены основные запасы валютных полезных ископаемых: 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентально шельфа Российской Федерации (из них 70% - на шельфе Баренцева и Карского морей); в Арктической зоне сконцентрирована добыча 91% природного газа и 80% общероссийских разведанных запасов газа промышленных категорий; прогнозируемые запасы углеводородов в глубоководной части Северного Ледовитого океана составляют 15-20 млрд. т. усл. топлива; общая стоимость разведанных запасов минерального сырья недр Арктики достигает 1,5-2 триллионов долларов. () В прибрежных районах Карского и Печорского морей обнаружены многочисленные проявления месторождений углеводородов, которые могут дать России миллиарды кубометров газа. Наиболее перспективными специалисты считают районы Печорской и Байдарацкой губы <…> Перспективы разработки новых месторождений вполне реальны: они расположены на малой глубине и очень близко к берегу. Так, газоносная структура «Яраяхское» в Байдарацкой губе находится на расстоянии до двух километров от берега при глубине моря до пяти метров, «Юмбъяхское» – в пределах пяти километров от берега при глубине до восьми метров. ( ). “Настало время дать обозрение деятельности Полярной экспедиции в её историческом развитии, дать обзор её работ крупным планом, как бы сверху, из космоса. Но вместе с тем настало время подвести итоги замечательных работ экспедиции и с несколько иных позиций, а именно, отразить в них Человека, показать роль человеческого фактора. Именно человек, нередко в самых сложных организационно-технических ситуациях и тяжелейших природных условиях обеспечивал успех этих работ.” [Выделено мной. — В. Л.] Р. М. Деменицкая. Январь 1993 г. (В книге «Полярники пишут сами», СПб –Ломоносов, 2002) Не все, оказываются, хорошо знают современный русский язык (СРЯ) и, в частности, что значит слово стёб. Для малограмотных привожу ссылку из электронной энциклопедии: Стёб - обобщ, разг., арго. Публичное выражение иронического отношения к каким-либо людям, взглядам или понятиям, часто в виде пародии, ставящее целью их высмеивание. Синонимы: , , , , , , , . (ВИКИСЛОВАРЬ на Интернете) Моё существенное добавление к ВИКИ: Стёб - В. Лит.: самоирония . На память моей второй из бывших многочисленных любимых жён – Мине Ратнер-Литинской, утверждавшей, что я никогда не был офицером, что в аттестате зрелости у меня была тройка (а как же это я при этом медаль исхитрился получить, хоша и серебряную?!), что я ей изменял с другой женщиной (ами), и что половина событий в моих документальных историях придумана из пальца. И всё это потому, что все мои жёны, живые и мертвые, не читают мои истории из-за того, что они написаны мерзким стилем стёб. Я думаю, что и у других мужей – те же проблемы, сочувствую вам, мужики!
Мина Ратнер много веков тому назад, когда она подлым обманом загнала в тёмный лес меня, сына Женю, собаку Тёпу, и сиамского кота Бежика (см. «Побег от КГБ в лес за грибами с сиамским котом и собакой» ). Портрет написан художником по моей чёрно-белой фотографии. Пролог Предисловие к Прологу Я категорически отказываюсь от предыдущего названия стиля моих документальных историй, как докубайки (документальные байки). Меня сбило название сборников воспоминаний сотрудников моего родного института «Байки и были НИИГА-ВНИИОкеангеология» (их уже издано 3 выпуска ). И только недавно я удосужился заглянуть в Интернет по этому поводу, и вот что я обнаружил: Байка — поучительный или . Достоверность байки несколько выше, чем ). Нафиг, нафиг! Никаких литературных анекдотов! Я пишу только сугубо документальные истории, подтверждаемые многочисленными имеющимися у меня фотографиями и документами! Поэтому я всегда стараюсь приводить истинные имена и фамилии своих героев (в большинстве случаев они и являются не только персонажами моих документальных рассказов, но и настоящими героями в тех обстоятельствах, в которых они работали на дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана). В очень редких случаях я использую вымышленные фамилии, если не помню настоящие. Я, к сожалению, отнюдь не писатель, и поэтому ничего не могу, при всём желании, сколько бы не тужился в туалете, выдумать из пальца. Сорри. Поэтому теперь у меня никаких докубаек, только докуисты, а меня вы можете теперь называть докуистописцем, я не обижусь, а наоборот буду гордиться. Так. А теперь – ПРОЛОГ: Ёкарный бабай! Кто из замшелых эмигрантов не знает этого красочного общерусского восклицания («Писец тебе, дедушка!»), читайте и . Итак – ёкарный бабай!! Или даже ещё лучше: «Едрит твою в Мадрид!» (Это восклицание главной медсестры в теле-сериале «Интерны», посмотрите, хороший сериал). “ A при чём тут дедушка?” – авторитетно спросите вы. А вот при чём: это мой клич восторга, когда я на российских каналах смотрел раньше телевизионную рекламу Газпрома (? или Роснефти? Не помню точно… Склероз, батеньки!.. Нет, конечно, Газпрома!). Сначала возникает крутящийся прозрачный белый шарик – это пустотелая Земля, а на нём вращается единственная страна – родная голубая Россия! Через секунду она уже без шарика, вся из себя такая голубая, распластывается на экране… Но это было год тому назад… А теперь тебе никакого бабая! Вместо Голубой России у Газпрома – медведь – «Сила тайги», река – «Сила реки», гора – «Сила гор», «Сила Воли», «Сила Света», «Сила Духа», и другие шаманские силы-заклинания! И-эх, мельчает народ!… А раньше-то я, глядя на экран ТВ, сразу же представлял себе к северу от нашей Голубой Страны белый Северный Ледовитый океан, а вот тут примерно северный полюс… А где-то к югу от северного полюса в сторону Новосибирских островов протягивается подводный хребет Ломоносова… И вот здесь, недалеко от полюса, на льду над этим самым хребтом мы впервые в 1962 году в совершенно секретной Высокоширотной Воздушной Экспедиции «Север-14» Краснознамённого Северного Военно-морского флота СССР опробовали предложенную мной методику авиадесантной гравиметрической съёмки с опорой на морской маятниковый прибор для подводных лодок… А затем перевожу глаза вниз, и справа от полуострова Таймыр и островов Северной Земли вижу советские восточные арктические моря – Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское, ограниченные сверху примерно 80-й параллелью… А ещё дальше, к югу от Чукотки – северная часть Берингова моря… А на западе от Таймыра, в Карском море, я вижу один из самых больших заливов наших арктических морей – Байдарацкую Губу!... И на всех этих акваториях я командовал авиадесантной гравиметрической съёмкой, летал на самолётах и вертолётах, делал посадки на лёд, а в районе северного полюса и на всех восточных морях – пять сезонов дрейфовал на ледовых дрейфующих базах, a в Чукотском море – даже провалился в трещину, чуть не утоп! А потом в Карском море – на ледоколе «Киев» разрабатывал методику вертолётной гравики на ледоколе с опорой тоже на морской маятниковый прибор… И в том же Карском чуть не поплыл на э/с (экспедиционном судне) «Владимир Обручев», но в день отплытия высшие тёмные злые силы сняли меня с судна – вот дальше всё расскажу, если потерпите… В Беринговом море командовал гравиметрической съёмкой на гидрографическом судне «Дмитрий Лаптев»… А на островах Котельный и Новая Сибирь (это Новосибирский архипелаг промежду морей Лаптевых и Восточно-Сибирским, если кто не знает) мы на списанных из армии раздолбанных дырявых вездеходах три полевых сезона гравитационную съёмку делали и замороженных песцов собирали, а сколько раз утоплялись! Эх, житуха была при родной советской власти!... Вот! А вы всё говорите – ВСЁ плохо было при коммунистах! И девушек не любили, и в Советском Союзе секса не было! …Да, кстати уж о сексе. Но не в Союзе, и не о простом, а о специфическом, нетрадиционном сексе. Через пару месяцев после прибытия в Америчку, я участвовал в морской гравиметрической съёмке на Аляске в заливе Кука. Ну, эта съёмка, конечно, семечки по сравнению с нашим Ледовитым океаном или с Беринговым морем, когда я двое суток сидел на полу в своей персональной каюте начальника экспедиции на гидрографическом судне «Дмитрий Лаптев» в обнимку с унитазом во время 9-балльного шторма при переходе из Владивостока в район работ. Но зато на Аляске я тогда сразу понял, что рождён был лесбияном! Чуть тогда впопыхах пол не поменял, прости, Господи, хорошо, что Мина отговорила (см. «Откуда берутся геи» ). ...Вот вы сразу же ехидно заприметили – ну, хвастун Литинский! Чего ни коснись – тут командовал, там командовал! Ишь, командир какой уродился! Не, ребята, всё правда! Началось это командирство у меня с 14 лет, когда я вернулся из эвакуации из Курганской области в послеблокадный Ленинград 4 июля 1944 года, для чего завербовался в ремесленное училище при заводе им. Сталина. Я тут же организовал группу из 5-7 пацанов нашей ремеслухи для поездок в Райволу (переименованную позже в Рощино) на Карельском перешейке с целью трофейнич a нья (сбора и применения брошенного Красной Армией оружия и боеприпасов при бегстве под натиском белофиннов в 1941 г.). Как-то сразу пацаны пронюхали во мне природного командира и без моей просьбы признали моё старшинство. Я заранее тщательно проштудировал 600-страничную «Артиллерию» и другие материалы по обращению с оружием, ВВ, и боеприпасами, поэтому никто из моей бригады не пострадал при многочасовых стрельбах из винтовки, разряжании 76-мм «выстрелов», поджигании тротиловых шашек, поджигании разнообразных артиллерийских порохов, и т.п. Поэтому также никто не пострадал, когда неудачно брошенная Борей Ольшевским граната РГД-33 взорвалась в 5 метрах от нашего окопа. Вот где пригодился мой командирский голос! А сколько пацанов из других подобных бригад нашей ремеслухи, не обременённых знаниями правил техники безопасности, погибли или потеряли глаза или руки-ноги! Ужас! Ленинградские мальчишки в 1944-45 годах гибли или получали тяжёлые увечья на местах боевой славы за внешним кольцом блокады, как мухи! Обо всём этом и о том, как я с мамочкой прихоронили череп нашего павшего бойца (из какового черепа я по детской наивности собирался сделать чашу для вина, как у Святослава «Иду на вы!») к трупу другого погибшего три года тому назад красноармейца (потому что мы с мамочкой не смогли найти труп гнусно обезглавленного мной накануне первого бойца), заинтересовавшиеся пожилые мужчины могут прочесть в «О положительном влиянии алкоголя на кучность стрельбы» (). Кстати, там же рассказано, как меня, круглого отличника, выперли в том же 1944 году из 7-го класса 157 школы Смольнинского района за то, что я взорвал в печке 5 патронов на уроке математики. А вот как я при этом героически спас нашего старенького преподавателя, Бориса Васильевича Журавлёва, оттолкнув его в последний момент от печной дверцы, при моём выпирании из школы во внимание не приняли! Не справедливо! После этого изгнания из школы я решил идти по стопам моего любимого дяди Коли, бывшего гардемарина Императорского Морского Кадетского Корпуса (), и поступить в Ленинградское Военно-морское Подготовительное Училище.
Николай Литинский, гардемарин Императорского Морского Кадетского Корпуса, 1916 г. Но командующий училищем капитан первого ранга Авраамов отсоветовал это делать, так как курсантам очки были не положены, и меня, слепошарого, патрули замордовали бы на Невском проспекте за не отдание чести. Так я и не стал моряком, а то сейчас был бы полным адмиралом флота. Пришлось поступать в другую, 155 школу, расположенную совсем далеко от моего дома. А дядя Коля, кстати, тоже не стал адмиралом, а захотел быть генералом, и перешёл из Морского корпуса в Павловское военное училище, стал «павлоном». Выпущенный 1 февраля 1917 года прапорщиком, он слегка поучаствовал в Мировой Войне подпоручиком, был контужен на всю голову, и поэтому 1 июня 1918 г. вступил сдуру в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (дальнейшие события показали, что надо было в Белую). Но красным генералом он не стал, а дослужился за двадцать лет в РККА (кстати, соответствующей медали ему не дали) из-за дворянского происхождения только до капитана, хотя его батальон был лучшим в БОВО (Белорусском Особом Военном Округе). A закончил он свои дни позорно на нарах СевУралЛага в 1942 году вместо того, чтобы героически погибнуть в атаке под Берлином (см. и ).
Студенты-геофизики 1-го курса Ленинградского Горного института. Дима Литинский сидит крайний слева. Все одеты нормально, люди как люди, один я в генеральской шинели и фуражке, в генеральском кителе тоже. Правда, без погон, и красные генеральские лампасы спороты с брюк мамочкой. Но это моё юное генеральство проистекало не из прирождённого пижонства, а от нищеты (другой никакой одежды у меня в ту пору просто не было, а мамочкина пенсия по инвалидности составляла всего 41 рубль, где уж тут). Форма была генерал-майора С.Е. Прохорова, зенитчика, командовавшего защитой Ладожской Дороги Жизни, очень много сделавшего для меня в юности. Сергею Евгеньевичу Прохорову я посвятил документальную историю «А вы выпили в День Победы 8 мая?» (). Да, так по поводу причины моего раннего командирства. Тут, ребята, куда ни кинь – гены виноваты. У меня есть документы на предков только до моего пра-пра-деда, полковника Гаврилы Иваныча Литинского. Он погиб во время Бородинской битвы. Я абсолютно уверен, что от осколка той же гранаты, осколком которой был также смертельно ранен и князь Андрей Болконский. Просто в момент разрыва гранаты струсивший Лев Николаич нырнул в окоп, и моего предка поэтому и не заметил. ...Ну, вот, пара человек из вас, хорошо помнящих те события, тут же поднимут крик: “Вадимушка, ну что ты несёшь?! Бородино было в 1812, а Лёвушка Толстой родился только в 1828 году!” Да я лучше вас знаю, когда он родился, потому что, в отличие от всех вас, я помню число е до шестнадцатого знака ( e = 2.718281828459045), а вы, склеротики, помните только, что е = 2.7. Вот пока я жив, протатуируйте себе хоть на детородном органе, если у вас поместится: после 2.7 дальше идёт два раза год рождения Толстого, потом 45, потом удвойте 45, и опять 45. А число π до какого знака вы знаете? 3.14? Ой, дикий народ! Вы что, все только на тройки в школе учились? Вот вам π = 3.1415926536 (“Кто и шутя и скоро пожелаетъ пи узнать число ужъ знаетъ” – не упустите только твёрдые знаки, когда на пальцах будете буквы считать). Слава Богу, что лапти скидывать вам для этого не понадобится, на руках пальцев хватит. Это моя любимая Баба Маря научила меня этим простым мнемоническим правилам. (Не плохо преподавали математику благородным девицам в Смольном институте, который кончала Баба Маря, и на выпускном балу вальс с царём танцевала, да? А может – котильон – врать не буду. А с каким из царей – Николаем Вторым или Александром Третьим – запамятовал, извините). Ну, так убедил я вас, что мой пра-пра-дедушка погиб от той же гранаты, что и князь Андрей? Да, кстати о птичках – о пра-пра-дедушке Гавриле, а точнее – о его вдове Авдотье Григорьевне, дайте сказать. Так вот ей Мария Фёдоровна Первая (их же две было, как вы помните, так Вторая, мама Коли Второго, избежала расстрела из-за того, что была на ПМЖ в загранке и таким способом ващще пережила всех Романовых)... Так вот, Первая Мария Фёдоровна, которая была мама Саши Первого, Коли Первого и Кости (который так Первым и не стал, уступив место Коле), в предсмертном завещании своё любимое брильянтовое кольцо с её вензелем завещала моей бабушке Авдотье. Ну, а уж сколько драгоценных бриллиантовых фермуаров, бриллиантовых серёг, и годовых окладов жалованья 3000 рублей моя пра-пра-бабушка Авдотья от Марь Фёдоровны и от её золовки Александры Фёдоровны... Нет, снохи... Невестки? Свекровки? Мать-тиас Ракоши! Сдохнуть можно от этих русских семейных взаимоотношений! От дочери в законе, если сказать по простому на понятном ангельском языке, досталось! Да, и от Коли Первого был там фермуарчик и оклад жалованья 3000... На руках пальцев не хватит, чтобы всё сосчитать, хоть лапти скидывай! И НИЧЕГО! МНЕ! НЕ ОСТАЛОСЬ! Обидно, Зин! Сейчас бы я, может быть, как Новый Русский, на новом 600-м Мерседесе бы разъезжал, а так у меня побитая Субаруха 90-го года, вот! А вы говорите – фермуары! Серьги! Где они, я вас спрашиваю?! (Документ бабушки Авдотьи с фермуарами смотрите здесь: «Как писали характеристики в 1838 году» ). Так, ладно, идём дальше. Его и бабушки Авдотьи сын, Александр Гаврилыч, пока был полковником, командовал Е.И. Высочества Наследника Цесаревича Драгунским полком, а потом стал генерал-майором. Орден Святого Георгия IV класса имел, однако, 26 ноября 1855 года получил, Крымская война тогда была, если кто помнит. К сожалению, его сын, а мой дед, Николай Александрович, дослужился только до поручика, а потом вышел в отставку (См. «Как писали завещания в 1820 году» , и «Эволюция от дятла к человеку, или как я чуть не стал отважным разведчиком» ). Баба Маря, кстати, была дочкой Алексан Гаврилыча. Её жениха-народовольца повесили, и она в пику царизму осталась в девушках. Она до Войны учила меня немецкому языку (от французского я категорически отказался – с французами мы воевать не собираемся), географии и истории – о, какой великолепный исторический атлас был у нас! (Во время блокады живший в нашей квартире домоуправ спалил в печурке-буржуйке этот атлас и ¾ роскошной библиотеки Бабы Мари и двух сестёр Гиппиус, которые жили с Бабой Марей коммуной в её квартире). А умерла Баба Мяря в Ленинграде в декабре 41 года от голода во время блокады, и моя мамочка везла её на моих саночках через весь город на Пискарёвское кладбище, сама падая в обморок от голода. Вот всё это описано то ли в «Характеристике», то ли в «Завещании», посмотрите сами. Вот чего я, идиот, своевременно мамочку не спросил – как она, без сил, с шестого этажа мёртвую Бабу Марю спустила – вот в чём вопрос...
Отец и сын – генерал-майор Александр Гаврилович и поручик Николай Александрович. Вот он Святого Георгия не заслужил, однако. Мой отец, обер-лейтенант Австро-Венгерской армии Арпад Сабадош, был награждён за храбрость высшими австрийскими и венгерскими орденами и германским Железным Крестом за сражения на русском и итальянском фронтах, а затем во время венгерской заварушки в 1918 году был произведён в революционные генералы и командовал Румынским фронтом, пока антантская Румыния его не разбила, и его приговорили к повешенью. Чем с ним дело кончилось, и как он легко отделался только пятью годами Соловков, в то время как 90% венгерских коммунистов в СССР расстреляли – см. Арпад Сабадош «25 лет в Советском Союзе» (). Его первую жену, красавицу Фреду Гардош, тоже в Москве расстреляли – очень в неё влюбился Максим Груснов, важный НКВДешный начальник, а она, вишь, не захотела ему отдаться. Поэтому и расстрелял. И правильно сделала, что не отдалась, пожертвовав своей жизнью ради меня. Боженька, он-то не фраер – руками Максима он, Боженька, Арпада за Фреду хотел тоже расстрелять, но не смог, поэтому на пятилетку в Соловки запихнул, а в это время начали венгерских коммунистов отстреливать! А Арпад после Соловков на дно залёг – сначала в Петрозаводск, где меня зародил, а в 41 году ващще в Казахстане спрятался. НКВД смотрит – кого ещё из коммунистов расстрелять, где-то тут венгерский товарищ Сабадош ошивался – ан нетути его! Так и не расстреляли своевременно, упустили момент, вот так я и образовался!
Обер-лейтенант Арпад Сабадош. Вена, 1915. Ну, это всё только про моих предков, на которых у меня есть документы с их именами. А вот что пишут о моём отдалённом предке, имени которого я не знаю: «Фамилии Литинских присвоен герб Гржимала, с тою однакож разницею, что в стене о шести кирпичных рядах <...> [дальше пропускаю – В.Л.]. Таковым описал герб Литинских отец Рутко в манускрипте своём; он же предполагает, что означенный герб надан одному из их предков от Русских князей за храбрость при взятии крепости, который вероятно первый сделал к оной приступ и вороты вырубил или выломал.» (). Видите, тот отдалённый безымянный герой, ставший моим гербоносным предком, тоже был командиром. А вы кричите: “Чего ты, Литинский, всю дорогу в командиры пробиваешься?!” – А вот чего – генная инженерия виновата! Так таки да, что несмотря на то, что природа категорически противилась, чтобы я стал офицером, создав меня слепошарым (очень сильно близоруким), так что после школы мне выдали «белый билет» – полное освобождение от воинской службы, я вопреки всему стал офицером. Для этого я при поступлении в Горный институт сразу же отправился на военную кафедру и убедил генерал-майора – заведующего кафедрой – что раз все мои предки до пятнадцатого колена были военными, то я не имею права нарушать эту семейную традицию. И он плюнул, устав убеждать меня, что я делаю ошибку, прорываясь локтями в армейскую службу, и допустил меня к занятиям по военному делу. Так я стал сапёром. Как я был батальонным запевалой в двух военных лагерях (не из-за красивого, но очень громкого голоса) и как я спас своё подразделение от того, чтобы наши молодые тестикулы не повисли на соседних елях при случайном взрыве при минировании моста, заинтригованные старички смогут прочесть в уже цитированной документальной истории «О положительном влиянии алкоголя...».
Военный сбор после 4-го курса ЛГИ, лагерь Усть-Луга, июнь 1952 г. Отличник боевой и политической подготовки, единственный очкарик среди всех 400 курсантов лагеря, Дима Литинский занимает почётное место одесную от полковника Старкова (или Старовойтова?), которого он со всей этой группой курсантов спас от неминучей смерти при минировании моста. При окончании Горного института мне, как и всем нашим мужским выпускникам, было присвоено звание младшего лейтенанта запаса. Через несколько лет меня произвели в лейтенанты. А перед самым отъездом в эмиграцию родные партия-правительство, зная про мою военную косточку и командирские замашки, присвоили мне звание старшего лейтенанта, в расчёте, что из-за этого я откажусь от эмиграции! И ещё, искусители, поставили мне дома телефон после многолетнего ожидания, хотя за установку мне телефона ходатайствовал сам Федынский! Я чуть не дрогнул и не остался – через пару десятков лет я бы стал генералом! Но моя любимая жена Мина (сейчас уже бывшая, но ставшая в Америке владелицей теперь уже старейшей русской картинной галереи в США, которая отмечена во всех путеводителях Денвера как культурный центр Колорадо https://www.facebook.com/sloanegalleryofart и ), тогда сказала мне – “Или – или“. И я дрогнул. Плюнул на телефон и на маячивший совсем близко генеральский чин и уехал в Америчку. И не жалею. Телефон нам установили на второй или третий день по приезде. Но, правда, генералом я тут так и не стал (вы же знаете, что пиндосы-америкосы все насквозь тупые, как установил наш специалист Михаил Задорнов, и не поняли, что я рождён быть генералом), а в России бы мог... Обидно, Зин!... Вот если бы пиндосы-америкосы были поумнее и поняли это, сейчас я был бы четырёх-звёздным генералом в отставке, как Эйзенхауэр, например. И кто знает – мог бы и президентом стать! Первым делом, что я бы сделал – нашёл бы в Ираке какого-нибудь родственничка Саддама Хуссейна-Великомученика, сделал бы его президентом Ирака, наделил бы его диктаторскими полномочиями, помог бы оружием – тогда бы в Ираке все исламисты-хамасисты-алькаедчики сидели бы тихо, как мышь под веником, а чуть высунулся – смертная казнь через продольный распил! И Ирак, как при Саддаме Великомученике, снова стал бы светским государством, иракские девочки-студентки в кратчайших мини-юбочка разъезжали бы в открытых мерседесах, и при всенародном голосовании Саддам Второй честно получал бы на всех выборах 99.78% голосов, как это было у нас при товарище Сталине и в Ираке при Саддаме Первом-Великомученике... Мечты, мечты, где ваша сладость... Вот такие вот дела, ребята! Было дело! Есть чего вспомнить! Ну, ладно, пойдём дальше про Северный Ледовитый океан… Тьфу ты, склеротик! А про сушу-то совсем забыл! А то, что на гигантском Гулинском месторождении флогопита и всяких прочих других редких земель километрах в ста к югу от Хатанги я стал лучшим каюром-оленеводом Ямало-Ненецкого национального округа – забыл, что ли? (Ну, если честно – то лучшим самопровозглашенным). Я, вероятно, тогда впервые в мире (надо проверить по книге рекордов Гиннеса) применил свой оригинальный способ сбора стада оленей, демонстрируя им своё мужское достоинство, вот здесь опубликовал: (). Это незабываемое оленье достижение куда спишем? [Я же, ребята, такой – половину всех своих заморочек делал впервые в мире. А началось всё с тех самых оленей. Мне этот первородный эксгибиционизм так понравился, что я с тех пор стал первооткрывателем всего, к чему прикасался, ну типа Магеллана – если решитесь читать дальше, увидите]. А шесть лет поисков алмазов в северной Якутии в бассейне реки Оленёк в Биректинской экспедиции НИИГА – этто чё, волку под хвост?! Я же там впервые в мире (вот вам – пожалуйста! Второй пример! Дальше ещё куча примеров моего первомирства будет!) для поисков кимберлитовых трубок применил высокоточную магниторазведку в год разъярённого солнца, каппаметрию и разные прочие металлометрические-геохимические съёмки! Кучу статей написал! В Америке несколько из них сразу перевели и перепечатали! Многие десятки больших и средних “трубок мы навалом наоткрыли, но алмазы слабо в них блестят”, как пел народ с моей подачи, см. ), не считая многочисленной кимберлитовой мелочёвки! (). Но это всё семечки! А вот чего действительно впервые в мире – так это то, что я отведал тогда суп из мамонта! Вот крест на пузе! При проходке канавы (для подтверждения границы найденной и оконтуренной нами трубки) мы наткнулись в вечной мерзлоте на огромную берцовую кость. Распилили её – свежак! Сытый народ (мы много тогда больших тайменей ловили) жрать залежалый (10 тысяч лет) продукт отказался, а я отпилил небольшой кусок кости, чтобы в кастрюлю поместился, и сварил бульон – и, как видите, до сих пор живой! Может, наоборот – именно от отведанной мамонтятины таким жизнерадостным стал и на 127 лет жизни намылился!... И-эх! Опять ведь чуть не забыл про это… Извините, ребята, старею, память отказывает… …Но и в молодости однажды она мне, память-то эта, туды её в качель, крупно изменила, из-за чего вся жизнь пошла кувырком, даже пришлось в Америчку податься… Вот об этом я и расскажу ниже. А пока – “Мамочка, спасибо, Боженька, спасибо за такую интересную прожитую жизнь, спасибо за хорошую настоящую жизнь, пусть и дальше будет ещё лучше! Даёшь 127 лет жизни, и ни копейкой меньше, аминь!”. Это последние фразы моей ежевечерней атеистической молитвы перед засыпанием. (В первых фразах я желаю здоровья всем детям-внукам и бывшим домочадкам, а мёртвым говорю, что их помню и чту, а также желаю здоровья кошке Бежику и всем хорошим людям, а плохим – ни дна, ни покрышки). Я же ведь, если вы не в курсе, ко всем моим многочисленным достоинствам, ещё и Верховный Шаман Всея Великия, и Малыя, и Белыя Колорадо (правда, пока только самопровозглашённый, но вот ужо, ещё не вечер). Наберите в Гугле мои ФИО и слова «верховный шаман, эффект плацебо, самовнушение, кот Бежик шаман», и к вам выплывет пяток или десяток (кому как повезёт) моих шаманских докубаек. Можете использовать их бесплатно для самолечения. Но в свете сравнительно недавних печальных событий (см. «Моё предсмертное письмо» ), мне, вероятно, не следует так категорически настаивать на 127 годах, можно и поторговаться. Например, требовать у Боженьки дожить хотя бы до 500-летия дома Литинских, каковое будем отмечать в 2028 году. Тогда мне исполнится всего 99 лет. А, где наше не пропадало! Хрен с ним! Согласен и на это! Но ежевечернюю молитву менять не буду! Вдруг всё-таки сработает?! Дом Литинских весьма древний на Волыни; Метрика Волынская 1528 года, или собрание древних актов той провинции упоминает о Литинском, землянине Волынском. Издатель жизни Краковского Воеводы и Маршала Кмиты на листе 185 говорит: «что Литин не правильно отнят у них в Казну и в том за них яко за заслуженных в Республике всё польское дворянство сопротивлялось королю Сигизмунду Августу и Воеводе его Кмите, полагая в числе прочих статьями угнетений и обиду Литинских» (). Вот если бы не этот рейдерский захват братками Сигизмундом и Кмитой моего родового гнезда (я как сейчас вижу их в малиновых пиджаках, а у Сига – ещё и златая цепь на брюхе том), то был бы я сейчас председателем горсовета этого областного центра! (А сейчас это всего лишь пгт – посёлок городского типа). Для прославления города я бы построил 100-метровый памятник Незалежности нэньки Украьины, а то чем знаменит сейчас этот городишко? Литинским молокозаводом – и это всё! (). Часть первая Создание Полярной Высокоширотной Воздушной Геофизической Экспедиции и гравиметрическая съёмка Советских Арктических морей
Карта Северного ледовитого океана 1940 года.
Современная карта Северного Ледовитого океана (). Чтобы многократно увеличить карту и видеть интересующие вас участки (например, хребет Ломоносова) или маршруты всяких дрейфов в крупном масштабе, кликните по карте правой кнопкой мышки и выберите «Формат рисунка», и затем «Размер», и будет вам счастье! * * * Весной 1969 года, сорок пять лет тому назад, Полярная Высокоширотная Воздушная Геофизическая Экспедиция (ПВВГЭ) Ленинградского Научно-исследовательского института геологии Арктики (НИИГА) завершала авиадесантную гравиметрическую съёмку советских арктических морей, начатую под моим руководством в качестве главного инженера этой экспедиции в 1963 году… Приснопамятный Советский Союз (то есть живущий в памяти вечно – поясняю, ежели кто из вас малограмотный в старо-славянском) с самого своего начала стоял впереди планеты всей по освоению Арктики. 2 июля 1918 года, в разгар гражданской войны, В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров о снаряжении в Северный Ледовитый океан крупной гидрографической экспедиции, а дальше – и ващще пошло-поехало! Я вам тут не буду ликбез навязывать, сами на интернете всё найдёте – было бы желание. Скажу только, что с научной точки зрения вначале были, в основном, океанографические исследования Северного Ледовитого океана с редкими точечными примитивными (с современной точки зрения) геофизическими измерениями во время плавания и дрейфа судов и дрейфующих станций, начиная от героической Папанинской СП-1 (1937 г.), героического 812-дневного дрейфа «Георгия Седова» (начало в тот же приснопамятный 37-й год – и до 1940 года, , ), и кончая многочисленными последующими дрейфующими станциями «Северный Полюс» и Высокоширотными Воздушными экспедициями «Север» (). Новый огромный этап подробного площадного изучения Центрального Арктического Бассейна (ЦАБ) Северного Ледовитого океана (СЛО) и его советских морей авиадесантными геофизическими методами (гравитационные, магнитные и сейсмические измерения) начался в 1962 году. Масштаб этой съёмки – 1:2,500,000, расстояние между точками посадок самолётов и вертолётов на лёд в среднем 25 км. Представляете, весь Северный Ледовитый океан с морями – 15 миллионов квадратных километров – мы, россияне, как мухи, через каждые 25 км засидели! Этот этап осуществлялся в соответствии с совершенно секретным Постановлением Совета Министров СССР 1961 год a о проведении МГС – мировой гравиметрической съёмки, и, прежде всего, съёмки СЛО (кто забыл – Северного Ледовитого океана) и его морей. СовМин и лично верный ленинец товарищ Никита Сергеич Хрущев тогда подсуетились с этим Постановлением, потому что гравитационные данные необходимы для введения поправок в траектории ракет с ядерными боеголовками, запускаемых с подводных ракетоносцев из акватории, ближайшей к Америке. Ну, из СЛО, конечно, кто хоть чуть-чуть помнит географию. А без этих поправок будешь целиться, например, в Денвер, а ненароком попадёшь вовсе даже в какой-то вшивый Роки Флатс, что в 16 милях к северу от Денвера. Там, правда, когда-то пиндосы-америкосы (они же зарубежная закулиса и жидо-масоны) втихаря плутониевые зажигалки для водородных бомб в те поры (1952-1992) клепали (). Сейчас уже нет, не клепают. Сейчас там открыли Национальный Курорт для Диких Зверюшек – олешков, бизонов, лосей, скунсов, бобров, луговых собачек (так переводит электронный словарь MultiTran название prairie dog , чушь, конечно, но я забыл, как эти суслики по-русски называются), и прочих наших малых сих (). Ничего подобного (такого масштабного изучения физических полей в океане) в мировой практике ещё не было. Ни американцы, ни, тем более, слабосильные канадцы или европейцы ничего подобного совершить не могли по естественной причине – бо от натуги задняя кишка прорвётся! Да и сейчас не могут. А Советский Союз – смог! Подготовкой этого постановления СовМина руководил Главный Геофизик СССР (начальник геофизического Главка Министерства геологии), он же Главный Гравиметрист СССР, он же завкафедрой геофизики МГУ профессор Всеволод Владимирович Федынский.
Страницы из книги «Геофизики России». Информационно-биографический сборник. ЕАГО, М., 2005. Федынский, ища организацию – исполнителя этих работ на шельфе арктических морей, естественно, прежде всего, обратил свой орлиный взор на ленинградский Научно-исследовательский институт геологии Арктики. “Они же, полярники, вся попа в инеи, геологи-геофизики, в Арктике на морозе постоянно ошиваются, им и карты в руки!” – подумал Всеволод Владимирович (за точность формулировки его мыслей не ручаюсь, но в целом – примерно так). Геолог-геофизик Федынский, лучше, чем кто-либо тогда в Советском Союзе понимал, что шельф наших арктических морей, самый обширный в мире – гигантская кладовая углеводородов. Правда, тогда, 50 с лишним лет тому назад, никто не мог представить (даже я, сертифицированный Гигант Мысли, смотрите мой официальный сертификат ниже), как можно добывать нефть и газ на море, почти полностью покрытым полутора-двухметровым льдом, да ещё и дрейфующим! (Вот представь себе: ты построил буровую вышку на льдине, начал бурить скважину на дне – а утром проснулся – глядь, а твою льдину с буровой вышкой дрейф на 15 километров чёрт-те куда унес! И вся твоя буровая колонна – моржу под хвост! Во дела!). Однако, Всеволод Владимирович обладал светлым и прозорливым умом, и поэтому поручил эту гигантскую работу именно нашему Институту геологии Арктики, а не какому-нибудь там Всесоюзному геофизическому институту, гораздо лучше, чем наш НИИГА, оснащённому геофизической аппаратурой и квалифицированными геофизиками-гравиметристами. Начальник отдела геофизики НИИГА Раиса Михайловна Деменицкая, ведомая главным геофизиком СССР, оказалась у колыбели рождения Полярной Высокоширотной Воздушной Геофизической Экспедиции (ПВВГЭ, в просторечии «Полярки»). Именно она тогда «осеменила» меня. В 1961 году Деменицкая сразу, как только Федынский растолковал ей, чего от нас, НИИГАпников, просит Родина, предложила мне, как одному из немногих (двух) гравиметристов в нашем институте, возглавить эту работу. Вторым гравиметристом был Боря (Борис Васильевич) Гусев, мой ученик в этой области, ныне давно покойный, которого я, как лучший каюр-оленевод, в древности на Гулях возил на разбивку опорной сети гравиметрической сети на оленьих нартах () . Но Боря в начале шестидесятых уже ушёл совсем в другую степь от гравиметрии. Деменицкая, следившая за моими организационными и научными способностями по поискам алмазов более пяти лет, открыла передо мной блестящие перспективы выполнения грандиозной съёмки арктических морей СССР. И я вынужден был прервать подготовку к защите почти законченной кандидатской диссертации о применении впервые в мире предложенных мной геофизических и геохимических методов для поисков и разведки кимберлитовых тел – алмазных месторождений (). Пять статей на эти темы были опубликованы в ведущих советских геологических журналах, ещё несколько были на подходе, статьи из «Советской Геологии» и «Геохимии» о моей алмазной геохимии были в Америке тогда же переведены и перепечатаны… А тут вдруг – руководить гравитационной и магнитной съёмкой всех арктических морей СССР! Какая там, в задницу, алмазная диссертация! Совсем забросил! Мне пришлось полностью переключился на подготовку гравиметрической съёмки в Северном Ледовитом океане. А зря! Урвал бы я тогда месячишко на защиту – и была бы у меня кандидатская по поискам алмазоносных кимберлитовых трубок, то, когда я вторую диссертацию по тектонике дна арктических морей защищал, мне бы без базара докторскую дали. А так, вишь, прошляпил, с носом остался, но об этом чуть позже. С Николаем Николаевичем Трубятчинским, подполковником-гидрографом и к тому же коммунистом, только что принятым Деменицкой в отдел геофизики, помчались мы в Керчь, в филиал ВНИИГеофизики, осваивать морскую гравику на Азовском море. Я-то коренной гравиметрист, даже, как вы слышали, оленьей упряжкой научился командовать, чтобы перевозить гравиметристов с приборами, но сухопутный, а не морской. Ну, а Ник Ник – тот ващще гидрограф, с гравикой был совсем незнаком. (Наберите в Гугле его ФИО со словом Городницкий, и к вам выплывет Сашина песня о нём). Из Керчи после плавания по Азовскому морю на небольшом буксире, переделанном в экспедиционное судно для проведения гравики, я по указу Раисы Михайловны – пулей в Москву, в Министерство Геологии, знакомиться с Федынским и его замом, Львом Владимировичем Петровым. С Федынским, а ещё больше с Петровым, мне в дальнейшем пришлось очень много и плодотворно работать над созданием нашей любимой Полярной экспедиции, которая была под личным контролем Всеволода Владимировича. Ну, и потом постоянно мы были в контакте, для чего я многократно приезжал в Главк геофизики Министерства геологии (Геологический комитет по другой версии) по разным научным поводам, но чаще бороться и бодаться. По данным КГБ, в 1972 году взявшим меня за одно место по поводу дела Якира-Красина, я был в Москве в командировках в Министерство геологии с 1968 по 1970 год 8 раз – см. «Обыск и допросы Самсонов. Якир. Буковский» (). (По моим подсчётам я бывал в квартире Якира на Автозаводской улице 12 раз). Ну, а до того, с 1961 по 1968 год – в командировки в Москву ездил очень-очень много раз. Со счёта сбился. Федынского я очень уважал за энциклопедические знания и неизменное правильное чутьё крупного руководителя. Я поражался великолепной способности Федынского мгновенно вникать в суть докладываемых ему проблем. Эти наблюдения связаны не только с моими личными докладами или пояснениями, связанными с нашей работой. Мне неоднократно приходилось присутствовать в кабинете Федынского на совещаниях и по совершенно другим поводам. Среди бла-бла-бла докладчиков Всеволод Владимирович, не стесняясь, перебивал говоруна и бил вопросом «в глаз». (Я лично, зная эту его особенность, стремился всегда излагать суть проблемы предельно кратко, не уклоняясь ни на сантиметр в сторону). Свои решения в конце совещания он выносил быстро и решительно (не прошу извинения за тавтологию). И несмотря на быстроту – почти всегда верно. Вероятно, я был среди очень немногих, кто осмеливался ему возражать, если я понимал, что принятое им скоропалительное решение окажется не оптимальным. Таких случаев в моей практике было не более трёх или четырёх. В двух или трёх из них Федынский с неохотой соглашался повторно выслушать меня, привыкнув к тому, что его решения всегда правильны и обжалованию не подлежат, и никто никогда не решался возразить властному главному геофизику СССР. И, с неохотой выслушав меня, он изменял своё первоначальное мнение и соглашался с моим предложением. Но однажды, в конце моей карьеры в Полярной экспедиции, мне пришлось рявкнуть на него и хрястнуть по столу кулаком, когда он отверг моё единственно правильное предложение. Тем не менее, в этот раз даже хряск не помог, Федынский всё оставил так, как предлагала Деменицкая. Присутствовавшая при этой сцене Раиса Михайловна мгновенно сжалась в комок и, как мне показалась по её остекленевшим глазам, писанула от страха в штанишки. Когда все вышли из кабинета во главе с разгневанным Федынским, Раиса Михайловна мелко засеменила в сторону туалета. “Мой прогноз оправдался. Пустячок, а приятно” – весело ухмыльнувшись, подумал я. Этот случай кратко задокументирован в приведённом ниже Приложении № 5 (правда, без упоминания хряска и без семенения в туалет – не мог же я в рапорте директору НИИГА описывать такие интимные подробности). Но этот крайний непочтительный случай с моей стороны никак не повлиял на мои последующие нормальные рабочие взаимоотношения с Всеволодом Владимировичем. Никакой какашки в душе он против меня не затаил. Как повёл себя Федынский по отношению ко мне в кабинете Петрова на следующий день после хряска (он всё-таки принял моё предложение, хряск подействовал!) – при желании прочтёте ниже в кратком вступлении к Приложениям 4 и 5. Петров, а потом заменивший его Игорь Французов, каждый год приезжали в Ленинград принимать полевые материалы нашей экспедиции всегда только с отличной оценкой. (У меня же и в аттестате об окончании Горного института ни одной хорошей оценки не было. “Если себя не похвалишь, когда случай подвернётся, три дня потом будешь ходить, как оплёванный” – гласит народная мудрость. Вот поэтому и упоминаю, раз подвернулось). В Москве тогда же в 1961 году по наводке Федынского я познакомился в ЦНИИГАиК – институте геодезии, аэрофотосъёмки и картографии – с создателем маятникового прибора ММП-П для измерения гравитационного поля на подводных лодках Михаилом Ефимовичем Хейфецом. Я тогда, ещё до этого знакомства, предложил использовать «абсолютный» (без смещения нуль-пункта) маятниковый прибор Хейфеца на будущих ледовых базах для создания дрейфующего опорного пункта, к которому могут быть привязаны показания съёмочных авиадесантных кварцевых гравиметров, у которых нуль-пункт всегда смещается со временем. Поэтому при наземных съёмках операторы наблюдают на гравиметрах на опорном пункте до вылета (выезда, выхода) в съёмочный рейс (маршрут) и после возвращения из него, чтобы при обработке показаний гравиметра разбросать обнаруженную на опорном пункте невязку между съёмочными точками по времени. А на льдине это невозможно – льдина за 8-12 часов съёмочного рейса сдрейфует чёрт-те куда, и на новом месте гравитационное поле будет совсем иное, чем на утреннем «опорном» пункте. А маятниковый прибор всегда измеряет правильное гравитационное поле, у него нет смещения нуля. Поэтому сопоставляя показания съёмочных гравиметров и «абсолютного» маятникового прибора, можно вводить поправки за смещение нуля в показания съёмочных гравиметров. Это и была моя главная фишка, на которой я обосновал возможность гравиметрических измерений на дрейфующих льдах сухопутными кварцевыми гравиметрами. Федынский и Хейфец полностью одобрили эту идею. И Хейфец выдал мне свой персональный большой ММП, не отходя от кассы. Как вы правильно догадались, эта затея с использованием маятникового прибора для создания опорного пункта на дрейфующей льдине была осуществлена опять же впервые в мире. После Москвы по команде Федынского, не заезжая в Ленинград, я сразу помчался в Архангельск, в Северную Гидрографическую экспедицию (СГЭ) Краснознамённого Северного флота, знакомиться и договариваться о последующем сотрудничестве с капитаном первого ранга Л.И. Сенчурой, начальником СГЭ и Высокоширотной Воздушной Экспедиции (ВВЭ) «Север-14». СовМин по наводке Федынского поручил выполнять гравиметрическую съёмку ЦАБ – центральной части Арктического Бассейна СЛО – Главному Управлению Навигации и Океанографии (ГУНиО) МВФ, которому и принадлежала эта экспедиция Краснознамённого Северного Флота. Они-то, моряки-гидрографы своё дело – измерение глубин моря эхолотом, что с судна, что со льда – туго знают, а в геофизике – пока не шибко. Учить их ещё, как детей малых, нам надо было. А нашему Институту геологии Арктики Совмином с подачи Федынского была поручена съёмка всех арктических морей. Для нас, геологов, как я уже сказал, это был колоссальный навар, да не от яиц, а по изучению геологии обширного нефтегазоносного шельфа Ледовитого океана. Посмотрите на его карте – континентальный склон, ограничивающий светло-светло-голубой шельфа от синего глубоководного океана – показан в пределах двух близко расположенных изобат – 200 и 1000 метров). На следующий год, в марте 1962 года, я, в качестве начальника только что созданной гравиметрической партии отдела геофизики, лечу вместе с Колей (Николаем Дмитриевичем) Третьяковым, Никитой (Борисовичем) Стожаровым, Сергеем (Прокофьевичем) Поповым, Витей Косаревым и другими сотрудниками этой партии на совершенно секретную дрейфующую ледовую базу ВВЭ «Север-14», руководимую моим новым знакомцем капитаном первого ранга Леонидом Ивановичем Сенчурой. База дрейфовала вблизи полюса над подводным хребтом Ломоносова. Летим с кучей наземных кварцевых (но «затушенных») грвиметров, разных магнитометров, и новоприобретённым от Хейфеца морским маятниковым прибором. Летевшая с нами высокоточная магнитная вариационная станция для учёта колебаний магнитного поля, особенно сильных вблизи полюса, была уникальная – она была сделана по моим чертежам. В 1956 году, работая на кимберлитовой трубке «Ленинград» в северной Якутии, я обнаружил, что без учёта магнитных вариаций в тот год свирепого солнца заметить эту слабомагнитную трубку абсолютно невозможно – вариации в несколько раз превышали амплитуду аномалии над трубкой. И я придумал тогда уникальный способ, как исключить эти страшные вариации (ну, не смейтесь, действительно впервые в мире!). В тот год опсихевшего солнца я добился точности магнитной съёмки в Арктике +/ – 2 гаммы – вам-то, простым труипенасм (трудящимся и пенсионерам), это ничего не говорит, а геофизики-магнитчики понимают, о чём я толкую, особенно, когда в Арктике, да в год озверевшего солнца. А на следующий год механик завода «Геологорзведка» изготовил по моим чертежам для нашей Биректинской экспедиции 10 автоматических высокоточных и с высоким разрешением по времени вариационных станций. Вариационные станции, использовавшиеся в магнитных обсерваториях СССР, и близко к моим не лежали. Как всегда в моей жизни – вариационные станции такой высокой точности были произведены впервые в мире. (Опять же по склерозности я забыл вставить это событие в книгу рекордов Гиннеса, алцгеймерист!). Обо всём этом см. «Биректинская экспедиция», .
Коля Третьяков – моя правая рука во всех арктических экспедициях, что на суше, что на море – разгружает Ан-12 на ледовой базе вблизи Северного полюса. Главной задачей ВВЭ «Север-14» в этом году была площадная авиадесантная батиметрия – измерение глубины дна эхолотами и картирование рельефа приполюсной части подводного хребта Ломоносова с помощью самолётов Ан-2 и вертолётов Ми-4. Это чтобы наши подводные ракетоносцы на подводную гору в темноте по пьянке не налетели. А задача нашей партии – опробовать и отработать в деталях предложенную мной методику авиадесантной гравиметрической съёмки в условиях дрейфующих льдов вблизи Северного полюса над подводным хребтом Ломоносова, над которым наблюдается огромная гравитационная аномалия. (Опять же повторюсь – если её не учтёшь, то непременно промахнёшься, стреляя ядерной ракетой по Денверу). Чтобы тут же внедрить эту методику в работы ВВЭ «Север» в центральной части Ледовотого океана, а на следующий год использовать её нам самим на съёмке шельфовых арктических морей. Поэтому на ледовой база «Север-14» к Никите Стожарову и Серёже Попову, нашим «маятниковистам», были приставлены офицеры-гидрографы ВВЭ для обучения, а Коля Третьяков и я обучали других офицеров на съёмочных вертолётах и самолётах работе с использованием сухопутных гравиметров ГАК. (Хо-хо! Высшие Офицерские Курсы на дрейфующей льдине! А мы – профессора-преподаватели!). Кварцевые системы этих гравиметров были специально «затушены» (задемпфированы) нашим умельцем С.П. Поповым, чтобы исключить пагубное влияние постоянных микроколебаний льда.
Празднование 1 мая 1962 года на дрейфующей ледовой базе вблизи северного полюса. На трибуне – руководители партии и пра… Тьфу ты, экспедиции и Полярной авиации! Начальник ВВЭ «Север-14» каперранг Л.И. Сенчура слева. Справа от него, если я правильно помню, стоит командир всей лётной группы Герой Советского Союза Василий Борисов, а кто третий – запамятовал, помогите, ребята-старички из ГУНиО, если кто из вас будет читать эту докуисту! (См. «Дрейфующая Россия», ).
Автор-рогоносец, второй слева, как всегда в очёчках (шибко интеллигентный, однако).
Никита Стожаров в палатке КАПШ-2 на фоне электронной аппаратуры маятникового прибора. Дрейфующая база экспедиции «Север-14», 1962 г. Сам прибор на снимке не поместился. Большой, однако! Поэтому мы и не могли использовать эти приборы на съёмочных самолётах и вертолётах. Ну, и конечно, процесс наблюдения на нём очень длительный, никакого сравнения со скорострельными кварцевыми гравиметрами.
Гравиметрическая лаборатория на ледоколе «Киев», Карское море, 1967 г. Автор наблюдает на гравиметре «Норгард», впереди справа ждёт своей очереди гравиметр ГАК, справа – электронная аппаратура морского маятникового прибора ММП-П, а сам прибор за моей спиной. Помещение лаборатории большое, поэтому прибор на снимке поместился.
Одновременные наблюдение на двух стационарных гравиметрах СН-3 (слева от палатки, Серёга Попов смотрит в очко), на семи съёмочных («летающих») гравиметрах (справа, не помню, кто наблюдает) и на маятниковом приборе (он в этой палатке КАПШ-2, там Никитушка Стожаров суетится). Ледовая база экспедиции «Север-14», 1962 г. Стационарные гравиметры трижды в день привязываются к показаниям маятникового прибора, а уж съёмочные гравиметры привязываются к показаниям стационарных гравиметров в любое время – когда вылетают в рейс и когда возвращаются из рейса – какому самолёту как заблагорассудится.
Наблюдение на магнитометре. Ледовая база экспедиции «Север-14», 1962 г. Записывает показания Коля Третьяков, а кто склонился над магнитометром – не узнаю. Снежное «иглу» справа – магнитная обсерватория. Точно такие же «иглы» мы строили на всех дрейфующих базах для использования в качестве туалетов (чтобы в попу снег не задувал). Мы учились сами гравитационным измерениям в совершенно необычных условиях дрейфующих льдов и одновременно обучали этому новому ремеслу офицеров-гидрографов экспедиции «Север-14». С тем, чтобы они в дальнейшем могли выполнять гравитационную съёмку в Центральном Арктическом бассейне самостоятельно, попутно с главной задачей гидрографов – картированием дна Северного Ледовитого океана. Вместе с гравитационными измерениями на всех точках посадок самолётов и вертолётов мы выполняли и магнитные измерения горизонтальной и вертикальной составляющих магнитного поля Земли. По результатам наших работ в ВВЭ «Север-14» ГУНиО Северного флота и затем в Полярной экспедиции НИИГА две мои статьи «Методика создания дрейфующего опорного гравиметрического пункта» и «Об оценке точности морской гравиметрической карты восточных арктических морей СССР» были опубликованы в трудах ГУНиО «Записки по гидрографии», выпуск 1а, 1970 г., и выпуск 2а, 1969 г. Эта работа в ВВЭ «Север-14» в 1962 году и в 1967 году в экспедиции «Север-67» описана в моей докубайке «Дрейфующая Россия» (), щедро иллюстрированной фотографиями. Там же рассказано, как на нашу совершенно секретную дрейфующую военно-морскую базу в 1967 году прилетели и нагло шлёпнулись наши американские коллеги – они же по совместительству империалисты-шпионы-жидо-масоны, подробно описавшие это посещение в специальной статье. Мой перевод их впечатлений приведён в этой же документальной истории.
Наши коллеги, пиндосы-америкосы, на совсекретной базе экспедиции «Север-67» Военно-морского флота. В длинных чёрных меховых куртках и ушанках – наши, а мерикосы пижонят в полуперденьчиках, невиданных шапоньках или ващще гологоловые. При таких-то ихних зарплатах красиво жить не запретишь! * * * Ту же самую методику, опробованную нами впервые в экспедиции «Север-14», через год использовали мы, НИИГАпники, на всех ледовитых арктических морях СССР. В соответствии с Постановлением Министерства геологии № 407 от 29 августа 1962 года в НИИГА была создана Полярная Высокоширотная Воздушная Геофизическая экспедиция (ПВВГЭ). Р.М. Деменицкая, убедившись в моих организационных способностях, хотела назначить меня начальником экспедиции, и для этого настойчиво убеждала меня вступить в КПСС. Ещё много раньше моя мамочка тоже убеждала меня вступить туда. “Если вы, молодые и честные, не войдёте в эту партию, то она полностью переродится и будет партией прохиндеев и жуликов” – говорила моя любимая мама (см. «Смерть мамочки» ). Но я, слава Богу, своевременно не послушался мамочку, и при жизни Сталина не вступил. (Сара: "Абрам, ты всегда во что-то вступаешь. Вчера в говно, а сегодня в партию!"). А после смерти ВВВВиН (Величайшего Вождя Всех Времён и Народов), наслушавшись мамочкиных рассказов и вражьих голосов из-за бугра, я быстро понял, что мне с партией не по пути. Помните старый советский лозунг: "Коммунисты – это ум, честь и совесть нашей эпохи!". Так вот, когда Боженька создавал «новую общность людей – советский народ», то он наделял трудящихся, вступающих в компартию, именно этими тремя качествами. Но, учитывая, что в Советском Союзе во всё время его существования был тотальный дефицит всего, то и Боженька, приноравливаясь к философской категории коммунистического «дифсита», наделял совлюдей, вступающих в ВКП/б/ - КПСС только двумя качествами из этой триады. То есть такой получался расклад: если человек становится коммунистом, то, если он умный, то тогда, значит, он бесчестный (бессовестный), и вступает в говно только из меркантильных соображений. Если человек вступил в партию, и при этом он честный и совестливый, то тогда он не умный (дурак). Если человек умный и честный, то тогда он не может стать коммунистом. Третьего не дано. (Таково было решение самого Боженьки). Так вот, в 1962 году передо мной реально замаячила необходимость вступления в эту преступную организацию. По причине беспартийности меня не могли назначить начальником Полярной экспедиции, в создании которой я принимал самое активное участие (см. «Зарождение Полярки» ). Деменицкая неоднократно пыталась меня убедить, что без вступления в нашу родную коммунистическую партию я не смогу достичь достойного материального положения в советском обществе. Но я к тому времени полностью разочаровался в идеалах коммунизма в отдельно взятой стране, в которые до смерти тов. Сталина я свято верил (см. «Эволюция от дятла к человеку...» ), а стать лицемером, как подавляющее большинство умных членов партии в Советском Союзе, я не мог (ибо “Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей”, как гласит первый Псалом царя Давида. Давид Исаич уже три тысячи лет тому назад предвидел эту ситуацию) . У меня в ту пору, конечно, не было материалов для написания статьи «ООО ПГ КП/б/ – Особо Опасная Организованная Преступная Группировка – Коммунистическая Партия /большевиков/» (), но соображения по этому поводу уже были. Я отговаривался тем, что я ещё недостаточно сознательный, не до конца созрел для высокого звания члена партии Ленина-Сталина и верного ленинца товарища Н.С. Хрущёва, и т.п. Я чувствовал, что Деменицкая с презрением выслушивает мои отговорки. Она пустила в ход тяжёлую артиллерию – любимого мной директора НИИГА Б.В. Ткаченко. Выслушав мои откровенные доводы, Борис Васильевич сказал, что он уважает моё мнение, "Но начальником экспедиции Вы быть не сможете. Это номенклатура райкома партии". И я с облегчением стал её главным инженером – мог заниматься производством, научными и техническими вопросами, не отвлекаясь на портянки, палатки, унты, добывание жратвы в условиях дефицита, и заброску ГСМ для самолётов и вертолётов. На должность начальника экспедиции Р.М. Деменицкая приняла отставного капитана первого ранга гидрографа А.П. Витязева, не знакомого с геофизикой, но зато высокого и представительного члена партии с очень подходящей фамилией. Вторая главная причина назначения офицера-гидрографа Витязева начальником экспедиции, помимо его партийности, заключалась в том, что, как объясняла мне Деменицкая, этот шаг поможет ей укрепить связи с ГУНиО – Главным Управлением Навигации и океанографии ВМФ. Раиса Михайловна была великолепная политесса. Эта связь впоследствии очень помогла ей в организации и проведении морских геофизических работ в океане на судах ГУНиО. Так как этот военно-морской волк совершенно не рубил не только в геофизике, но и в хозяйствовании в Арктике, то в качестве зама по хозчасти экспедиции я пригласил Федю (Фёдора Михайловича) Коврова, опытного зампохоза Биректинской экспедиции, вместе с которым я проработал 6 лет ().
Фёдор Николаевич Ковров, отличный заместитель начальника ПВВГЭ в 1963-68 годах. Коммунист Витязев впоследствии оказался жуликом, приписавшим себе свыше 400 рублей за невыполненную работу. Но об этом и о моральном облике коммунистки Деменицкой я расскажу ниже. Так что мои тесные взаимоотношения с двумя непосредственными начальниками-коммунистами подтвердили мои приведённые выше представления о божественном происхождении моральных принципов большевиков (). Ткаченко Борис Васильевич (1907-1990). Кандидат геолого-минералогических наук. Инженер-генерал-директор Северного Морского пути III ранга, почетный полярник, почетный разведчик недр, участник Великой Отечественной войны. Организатор и бессменный директор НИИГА с 1949 г. по 1974 г. Один из первых геологов-исследователей Центральной Арктики (Анабарский массив и Тунгусский бассейн). Фото из статьи Натальи Сивцевой в Чрезвычайно порядочный человек, хоть и коммунист. Наверное, вступил на фронте (“Коммунисты, вперёд!”).
(Из книги «Геофизики России» Информационно-биографический сборник. ЕАГО, М., 2005. * * * Итак – министерский приказ о создании в НИИГА Полярной экспедиции есть! “Наши цели ясны, задачи определены ! За работу , товарищи !” Ну, и пошло-поехало! Скачу, как белочка! Сочиняю многие десятки совсекретных писем командующему Краснознамённого Северного флота адмиралу Сергееву, командованию и начальникам аэропортов Полярной авиации, директорам ВНИИГеофизики, ВИРГ (институт разведочной геофизики), ЦНИИГАиК, ААНИИ (Арктического и Антарктического института),завода «Геологоразведка», и многим другим директорам. Ну, конечно, не от своего скромного имени, а от имени директора НИИГА Б.В. Ткаченко. У меня в НИИГА в первом отделе среди всех сотрудников института было самое большое количество чемоданов – три больших – для хранения секретных и совсекретных материалов. Как я их сдавал, не потеряв за 28 лет ни одной секретной бумажки – см. «Отъезд в эмиграцию» (). И снова – многочисленные командировки в Москву и в другие веси… Классного техника-гравиметриста Серёжу Попова, с которым я начинал свою работу в НИИГА, ещё будучи студентом в должности инженера на преддипломной практике в 1952 году (), и которого в 1961 году я командировал в Москву в ЦНИИГАиК осваивать маятниковый прибор, теперь послал вместе с «классиком- Левшой» Юрой Жировым, надолго во ВНИИГеофизики осваивать тонкую работу кварцедува для «затушивания» наших только что полученных с завода «Геологоразведка» многочисленных обычных сухопутных гравиметров… Ну, и так далее, не буду перечислять, вы сами лучше меня знаете, что надо делать, когда организуется новая большая арктическая экспедиция… Итак, в 1963 началась эта грандиозная работа. Как я уже сказал, центральную часть СЛО заснимала ВВЭ «Север» от военной Гидрографии, а советские арктические моря – наша Полярная экспедиция (опять же смотри «Зарождение Полярки» ). В том первом 1963 году мы засняли южную часть моря Лаптевых, на следующий год – его северную и восточную части. Западную часть Восточно-Сибирского моря и Новосибирские острова засняли в 1965 году (см. мой рассказ об этом «Отважные дрейфуньи» здесь: ). А В 1966 году мы засняли восточную половину Восточно-Сибирского моря и западную часть Чукотского (см. «Будни дрейфующей ледовой базы», , «Дрейфующая Америка» , и «Жировиана» (о «Классике» Жирове) ).
Геофизические наблюдения на точке в Чукотском море, 1966 г. Расстояния между точками посадок на лёд в среднем 25 км. Представляете, весь Северный Ледовитый океан и его Советские моря были засижены по такой сети! На переднем плане оператор-гравиметрист наблюдает на «затушенных» гравиметрах ГАК, справа на треноге магнитометр ждёт своей очереди, на заднем плане астроном ловит теодолитом звезду, а штурман самолёта записывает его показания.
Подготовка (расчистка, удаление торосов) ВПП – взлётно-посадочной полосы на ледовой базе для приёма грузовых самолётов Ли-2.
Строительство палатки КАПШ-2 (каркасная арктическая палатка Шапошникова) – натягивание внутреннего бязевого полога и установка газового баллона для печки.
Часть панорамы нашего дрейфующего лагеря с палатками КАПШ-1 и КАПШ-2. Как можете судить по грузовому Ли-2 – ВПП (взлётно-посадочная полоса) – рядом.
Вид нашего дрейфующего лагеря из кабины Ан-2.
Банный день на дрейфующей базе. Палатка КАПШ-2 поставлена на пол из досок, положенных на бочки из-под бензина. Тепло подаётся внутрь от бензиновой печки, служащей для подогрева самолётных двигателей
Почти каждый год наши дрейфующие базы многократно разламывали трещины (флажки по обеим сторонам речки отмечают границы ВПП), и нам приходилось перетаскивать лагерь вручную или перевозить (перелетать) на другое место и заново расчищать ВПП…
Опять в партии раскол, тудыть твою в качель!
Я три года подряд возил на ледовые базы две шлюпки к негодованию Витязева (“Баловство! Непозволительный расход средств!”). Как видите – перевозка их с разломанной льдины на другую представляла определённые трудности (лететь приходилось со снятой дверью)…
А в 1966 году перебазироваться пришлось аж 3 раза, причём один раз – на шлюпках. Группа РП – руководителя полётов – оказалась полностью отрезанной от основного лагеря – ни пешком до них не добраться, ни на самолёте сесть (маленький остров). И вот я оказался «архи-прав», что три года возил на льдины плавсредства! Иначе бы четыре человека группы РП могли спастись только вплавь на 100-метровой дистанции (в одних плавках в ледяной воде), а радиостанция, палатки и всё остальное отправились бы в многолетний дрейф… Мой личный опыт непреднамеренного купания в трещине в полярной спецодежде в этом же году показал, что плаванье в Ледовитом океане в унтах, меховых куртке и штанах – смертельный номер (см. «Будни дрейфующей ледовой базы», ).
Тикаем с разрушенной ледовой базы! Кусок трактора закатываем в самолёт вручную (двигатель –отдельно).
Что греха таить – бывали и такие случаи! Ждите докуист (Иншалла!) о героическом спасении экипажа этого самолёта и членов отряда Володи Шимараева (10 человек) в 1966 году – ну, как челюскинцев спасали, помните? У меня есть подробный дневник одного из спасателей – покойного Коли Третьякова. Ну, и в моей светлой памяти живы свежие рассказы участников этого утопления.
И ещё аналогичный случай был в нашей деревне. Эту фотографию прислал мне мой соратник по Полярной экспедиции, одно время бывший её начальником, а теперь еще и натуральный писатель Коля (Николай Николаевич) Ржевский ( ). Вот теперь пусть сам и выкручивается – как это произошло и чем сердце успокоилось. Про утопление шимараевцев он написал рассказ, а это другой случай, так что ему и ноутбук в руки, пусть напишет. * * *
Мои памятные значки: Участнику Высокоширотной Воздушной Экспедиции ВВЭ «Север» (1962 год), 25-летие НИИГА-СЕВМОРГЕО (1973 год), и 25 лет членства в SEG – международном Обществе Геофизиков-Разведчиков (2008 год, теперь-то уже 31 год в членах хожу, по 85 долларов ежегодно плачу. Вот если до 35 лет дотяну – дальше будет благодать – стану халявным членом). На значке НИИГА мне видится палатка КАПШ и красный флаг на фоне гряды торосов – чем не панорама дрейфующей ледовой базы?!
Орденов и почётных званий за работу в Арктике я не получал, даже не удостоился значка «Почётному Полярнику», которым награждались многие. А это – мой самый дорогой персональный значок «Литинскому Вадиму Арпадовичу, основоположнику Полярной экспедиции». Лицевая сторона – слева, оборотная – справа. Материал значка – мамонтовый бивень, рисунок и надпись – гравировка, заливка тушью. Размер одноцентовой монеты для масштаба – 19 мм. Автор – Юрий Александрович («Классик») Жиров, потрясающе талантливый человек. О его приключениях, зверском поединке с белым медведем, заслугах и талантах, включая неожиданно проснувшийся первородный талант дантиста и даже «медвежатника» по вскрытию большого сейфа директора НИИГА Б.В. Ткаченко, см. «Жировиана» ().
Моя жена Лена утверждала, что Жиров на значке сделал мой портрет, только без очков. Часть вторая Как и почему я на дрейфующих льдах один голый в байдарке оказался, склеротик! А вот теперь самое время рассказать поучительную историю о том, как я в 1969 году очутился голым-босым на льду Байдарацкой губы (ну, не один, конечно, а с ещё тремя сотрудниками, и не без штанов и тапочек, а без всякого прикрытия), в то время как вся Полярная экспедиция делала гравиметрическую съёмку на льду восточной части Чукотского моря (правда, уже без дрейфующей ледовой базы – на мне эпоха дрейфующих баз умерла в Бозе). Произошло это потому, что за четыре года до этого события, я оказался полным ишаком, как я тогда и теперь характеризую себя сам, склеротиком, как называла меня тогда Деменицкая, или графоманом и полным идиотом, как аттестует меня постоянно бывшая любимая третья жена Лена (“Далеко не дурак... А вблизи идиот!”). Дело было так (см. докубайку «Обыск и допросы. Самсонов, Якир. Буковский» ). Осенью 1965 года я написал первую статью о геологических результатах наших гравиметрической и аэромагнитной съёмок в 1963-65 годах «Геолого-тектоническое строение дна морей Лаптевых и западной части Восточно-Сибирского по геофизическим данным». Эта статья послужила причиной разрыва Деменицкой со мной. Как пел Володя Высоцкий про нас: “ У нас любовь была, но мы рассталися: она кричала и сопротивлялася” ().
Спуск с вершины – автор и Р.М Деменицкая. “У нас любовь была, но мы рассталися... ” (Школа по морской геофизике в Геленджике, сентябрь 1961 года). П о своей природной дурости я забыл вставить в соавторы этой статьи Раису Михайловну Деменицкую, «корифея всех наших побед». То есть совсем забыл, склеротик, главную заповедь советских учёных: “Если над тобой есть начальник, то его имя должно красоваться на первом месте всех твоих публикаций – не важно, принимал ли начальник участие в твоих исследованиях, или нет”. Вся эта статья от А до Я была написана мной, как и тектоническая карта в ней была составлена мной. В статье я детально изложил свою идею о платформенном строении шельфа этих морей, но при этом подробно описал точку зрения геолога Якова Ивановича Полькина, принимавшего участие в интерпретации наших материалов, о продолжении геосинклинальных структур суши на шельфе (на мой взгляд – чушь, конечно), и примкнувшего к нему начальника одного из лётных отрядов Жоры (Георгия Ивановича) Гапоненко (своих идей у него тогда не было). В качестве соавторов, помимо Полькина и Гапоненко, я включил ещё Д.В. Левина, чей отчёт об аэромагнитной съёмке я частично использовал, а также начальника ещё одного лётного отряда, Андрея Орлова, моего однокашника по Горному институту. Последние двое в обсуждении тектоники морей участия вовсе не принимали, я их вставил просто из уважения. С согласия «соавторов» я поставил себя в списке первым. Раиса Михайловна принимала самое активное участие в создании Полярной экспедиции на самом первом этапе, что выразилось в назначении меня в качестве её руководителя. Но потом, когда всё пошло у нас гладко и отлично, она со всей присущей ей энергией и большевистской боевитостью переключилась на организацию морской геофизики в своём отделе. А к нам в Полярку она не только на приёмку полевых материалов не заглядывала, но даже в обсуждении предварительных результатов работ в течение трёх лет совершенно не принимала участия (потому что была полностью занята организацией с помощью ГУНиО морских геофизических работ в океане). Вот именно поэтому я начисто забыл её вставить в соавторы этой статьи, склеротик! (“Вадим Арпадович, Вы больны? У Вас что – склероз?!” – говорила мне Раиса Михайловна, правда, по другому поводу, см. Приложение 2). Её правая и левая руки – начальники секторов отдела геофизики, коммунисты А.М. Карасик и Н.Н. Трубятчинский – знали, что я готовлю эту статью, но, как врачи-вредители, не подсказали мне, серому, что я обязан выполнить свой гражданский долг! Коммунист Гапоненко тоже промолчал (из корыстных соображений, как я теперь понимаю). И я, таким образом, превратился в главного врага Деменицкой! Я почувствовал, что после сдачи ей, как редактору геофизического сборника, этой злополучной статьи о первых геологических результатах наших грандиозных работ, она начинает относиться ко мне с каждым днём всё хуже и хуже. Дальше стало совсем плохо, она начала меня подъедать со всем содержанием моей прямой кишки. Замдиректора НИИГА по науке М.Г. Равич, наслушавшись от своих тайных агентов, что происходит в институте, вызвал меня к себе на ковёр, открыл мне, слепому ишаку, глаза, отчитал, и повелел немедленно бежать к Деменицкой, стучать по полу хвостом и умолять разрешить вставить её имя на первом месте. “Деменицкая маленькая, но злая собачка, и съест она Вас с потрохами при её колоссальной настойчивости, пробивных способностях и связях с Федынским!” – напутствовал меня Михаил Григорьевич. Слов «сучка-пташечка» он тогда не употребил, это позже Володя Черепанов ввёл в нашем институте в оборот этот яркий образ Деменицкой. Я тут же помчался к ней, как на стометровке. “Хоссподи, да мне жалко, что ли?! Конечно, вставлю! Я же Левина и Орлова задарма вставил! Она же меня возглавлять эту работу поставила, так что, конечно, заслуживает впереди всех! Да я только рад буду!”. Но Деменицкая, выслушав моё признание в полном к ней уважении и почтении, холодно сказала: “Поздно, Вадим Арпадович! Да Вы ведь не сами додумались, Вам кто, Равич, небось, подсказал? Спасибо за предложение, но я его не принимаю” (). Естественно, в списке авторов этой статьи Деменицкая, как редактор геофизического сборника, задвинула меня на второе место (спасибо, что не на последнее или совсем не выкинула), а первым поставила Г.И. Гапоненко. Хотя из текста ясно даже и ежу, кто писал эту статью, и чья иная точка зрения и примкнувшего к ней излагается, как второстепенная. (Статья была опубликована в сборнике НИИГА "Геофизические методы разведки в Арктике", том 179, выпуск 5, 1968). Ну, ладно, в наш маленький малоизвестный НИИГАвский геофизический сборник я, хоть и вторым в списке авторов написанной мной статьи, но попал. Но дальше Деменицкая пошла в серьёзную атаку на мою научную карьеру. В качестве иллюстрации эпизодов борьбы Деменицкой со мной, в конце этой документальной истории приведены четыре Приложения – мои рапорты директору НИИГА о зажимании меня Деменицкой и её клевретом Витязевым. (Это же не просто мои мемуары из пальца, а настоящий докуист – документальная история, поэтому и столько документов – Приложений!). В Приложении 2, в частности, описано, как Р.М. Деменицкая четыре месяца под разными предлогами задержива ла отправку в редакцию «Советской Геологии» моей персональной статьи « Геотектоническое районирование шельфа морей Лаптевых и западной части Восточно-Сибирского по геофизическим данным ». П оложительный отзыв на эту статью с рекомендацией опубликовать в журнале « Советская Г еология » дал доктор г.-м. наук Л.И. Красный , ведущий советский геотектонист, член-корр. АН СССР, лауреат Ленинской премии. Эта статья содерж ала обновлённую тектоническую схему и основные результаты моих исследований, выполненных в 1963-67 гг., и явля лась изложением главных выводов моей будущей диссертации. Последний отказ на её опубликование был сформулирован Р.М. Деменицкой в присутствии А.М. Карасика следующим образом: "Рассматривайте это как наказание за плохую подготовку работ на « Обручеве » . Если хорошо проведёте полевые работы – я разрешу Вам опубликовать эту статью". Подготовку к работе «Обручева» в труднейших условиях (помните «хряск» кулаком по столу на Федынского?) я провёл хорошо. Но к полевым работам умная Раиса Михайловна меня не допустила и в последний момент перед выходом в море заставила меня покинуть судно, чтобы доказать, что Литинский – полное дерьмо. Эта статья в «Советской Геологии» с новой картой тектоники шельфа так и не увидела свет. Далее, Деменицкая полностью отлучила меня от доступа к моим же собственным материалам . В Первом (секретном) отделе и в фондах, где хранились отчёты Полярной экспедиции, Деменицкая закрыла мне доступ к отчётам и картам, даже которые писал и составлял я. Поэтому у меня полностью отсутствуют публикации о геологическом строении дна арктических и Берингова морей, кроме той единственной злополучной статьи, где фамилия автора стоит на втором месте. А жаль. Может я чего-нибудь бы и хрюкнул новенькое впервые в мире – вы же знаете мою манеру быть впереди планеты всей! На мое место главного инженера экспедиции Деменицкая назначила начальника одного из шести съёмочных отрядов Жору (Георгия Ивановича) Гапоненко с партбилетом, рабоче-крестьянским лицом и происхождением, и сильно выраженным южно-русским или украинским акцентом. Жора, будучи рядовым начальником одного из шести лётных отрядов, на всех наших производственных совещаниях всегда просил слово после моего заключительного выступления, когда все уже начинали расходиться, и повторял слово в слово то, что я только что сказал! Народ удивлённо переглядывался и перешёптывался, потом некоторые подходили ко мне: “Арпадыч, что с Гапоном? Он чего?!” Я объяснял недогадливым трудящимся, что Жора озвучивает партийную точку зрения по данному вопросу. Хорошо, что она всегда полностью совпадает с моей. Естественно, во всех его последующих публикациях Деменицкая занимала почётное место. С п р а в к а: Гапоненко Георгий Иванович (1926-1994). Участник Великой Отечественной войны [в боевых действиях не участвовал. – В. Л.]. Окончил геофизический факультет Ленинградского горного института (1957). Доктор геолого-минералогических наук (1972). Лауреат премии Совета Министров СССР. Работал в НИИГА-ВНИИОкеангеология с 1964. Прошёл путь от начальника отряда до директора [замдиректора по геофизике. – В. Л.]. Основные интересы научной деятельности: исследование геофизических полей шельфа России, гравитационного поля континентальной окраины, разработка принципов создания технической базы морской геофизики и научно-исследовательских судов нового типа. Автор около 80 научных публикаций, в т.ч. 2 монографий, 8 изобретений. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 7 медалями. (Книга «Геофизики России». Информационно-биографический сборник. ЕАГО, М., 2005).
Первые два главных инженера Полярной Экспедиции. Из книги «Полярники пишут сами (юбилейные воспоминания», СПб, Ломоносов, ПМГРЭ, 2002 г. * * * Интересно, что в 1998 году, через двадцать лет после моего смывания с просторов Родины чудесной, в моём родном НИИ геологии Арктики, в котором я 28 лет вкалывал, говоря словами ВВП, “как раб на галерах” , вышел сборник « НИИГА – ВНИИОКЕАНГЕОЛОГИЯ – 50 ЛЕТ НАУЧНОГО ПОИСКА. И сториографический очерк », СПб, 1998 . Я не удостоился в нём не только фотографии и краткой справки, как это было сделано для всех живых или мёртвых научных работников Института, но даже не попал в список кандидатов наук. Не было меня в НИИГА вовсе! Не стоял я у истоков применения геофизических и геохимических методов для поисков месторождений алмазов – кимберлитовых трубок! Не было меня и у истоков создания Полярной э кспедиции, и не руководил я гравиметрической и магнитной съёмкой этой экспедицией на дрейфующих льдах советских арктических морей , и не был заснят гравитационной съёмкой весь Северный Ледовитый океан по предложенной мной методике, потому как был я белоэмигрант за колбасу или даже хуже – за серебряники! То ли родовое проклятие Деменицкой действовало на меня даже после её увольнения из НИИГА новым директором И.С. Грамбергом в 1979 году, и даже после её смерти в 1997 году, то ли коммунист И.С. Грамберг, главный редактор книги, решил вычеркнуть меня из истории НИИГА, как белоэмигранта. Естественно, что четыре мои песни о поисках алмазов в Биректинской экспедиции (), не попали и в другую книжку НИИГА « Н а М ойке 120. С борник стихов , посвящённый 50-летию института », СПб, 1998. Хотя в первоначальном макете сборника (я сам принимал участие в его создании, и экземпляр этого макета есть у меня), эти песни были. Вот, поди ж ты!
Да, кстати, хотите, посмешу? Из книги бывшего НИИГАпника Лёвы Махлаева, «Полвека в геологии» ( ) я узнал, что он когда-то был членом жюри конкурса в НИИГА на лучшую песню года. Лёва написал, что тогда он до хрипоты отстаивал первенство песни Саши Городницкого «Снег». Но общим голосованием трудящихся Городницкий занял только третье место, а первое место заняла моя песня «Осень»! (). Естественно, по склерозности я начисто забыл этот эпизод, и если бы не книжка Лёвы, никогда бы об этом не вспомнил. Конечно, мою нетленку никто не знает, а «Снег» Городницкого переживёт века! Обидно, Зин! (Шучу, конечно). Александр Моисеевич Городницкий – великий российский бард, поэт, писатель, и создатель кинофильмов, не говоря уже о том, что отличный геофизик и академик. Если моё имя и всплывёт когда-нибудь на секунду в большой литературе, то только в связи с тем, что Саша, с которым мы когда-то вместе с художником Валерой Васильевым делали новогодний выпуск НИИГАвской стенгазеты "Полярный геолог", написал в ней лучшие стихи, какие я когда-либо слышал: Вадим Литинский прочно сложен, С него снята должна быть схема! Он безотказен и надёжен, Как электронная система. Я не знаю, как вам кажется, но я считаю, что Александр Сергеевич Пушкин может отдыхать после такой поэзии! Подробнее об этом и о том, как Саша Городницкий раскрывал глаза членам денверского бардовского клуба на то, что песня «Нас по самолётам распихали», ставшая народной, была написана мной, см. докубайку «Хватит! Я подался в народные акыны!» ( ). Там же есть Сашины фотографии у нас дома – если кто коллекционирует фотографии великого древнего барда – скопируйте. Ну, рассмешил я вас? Да, отвлёкся я, давайте продолжим наши игры. А ведь ко времени выхода в свет т ех двух умолчательн ых книж е к уже прошло 12 лет с тех пор, как Горбачёв – Михаил Великий ОРРК (Освободитель Рабов, Разрушитель Коммунизма) дал волю и гласность ( свободу слова ) советскому народу... Ну, правда потом, в 2002 году, вышла книжка к 40-летию Полярной экспедиции под названием "ПОЛЯРНИКИ ПИШУТ САМИ" ( ) , где мою красивую фотографию первого главного инженера, приведённую выше, поместили аж 3 раза, а мою докубайку "Дрейфующая Америка", сократив самые интересные места и переименовав её в "На дрейфующих льдах", поставили на первое место в этом сборнике. Так что электронные рукописи не горят! ( Ну, это очередное старческое брюзжание , извините) . Первые последствия начавшегося преследования меня Деменицкой проявились в следующем, после моей злополучной статьи, 1966 году. Дело было так. В 1965 году я впервые в мировой истории освоения Арктики взял на дрейфующую ледовую базу 5 женщин в качестве группы камеральной обработки (См. докубайку «Отважные дрейфуньи», ). При базировании лётных отрядов в аэропортах на побережье или на островах геофизики-съёмщики после тяжелейшего многочасового рейса могли спокойно поесть и идти спать. Их материалы обрабатывали камеральщицы, жившие в гостиницах аэропортов, пока операторы спали. А на ледовой базе операторы были вынуждены после изнурительного полёта ещё несколько часов обрабатывать результаты своих измерений, так что на сон оставалось совсем мало времени. Деменицкая тогда не возражала, хотя и не поддержала с восторгом мой первомирский почин. В числе отважных дрейфуний была и шестидесятилетняя Мария Исааковна Гуревич, начальник планово-экономического отдела НИИГА, которую я взял на льдину по просьбе директора НИИГА Бориса Васильевича Ткаченко, которого я очень уважал. (И среди коммунистов бывали порядочные люди, кто же спорит! Вот! А вы говорите, что все жулики!). Ткаченко хотел, чтобы она смогла подзаработать на добавку к своей припозднившейся пенсии за счёт оплаты «ледовых» надбавок. Женщины на льдине работали самоотверженно, не считаясь со временем, наравне со всеми ходили в «ночное» дежурство по лагерю с карабином и ракетницей для отпугивания назойливых белых мишек, причём ночным дежурным отгул на следующий день не полагался. (Представляете, как потом на пенсии МарьСаковна рассказывала внукам о своих подвигах на дрейфующей льдине?!). О них была даже напечатана статья в журнале "Советская Женщина" в марте 1967года. Автор – заместитель начальника по политработе ПУГА (Полярного управления гражданской авиации) Михаил Филипенин, побывавший с инспекцией на нашей ледовой базе. (Его статья полностью воспроизведена в «Отважных дрейфуньях»).
Отважные дрейфуньи, слева направо: М.И. Гуревич, автор (многократный дрейфун), И.П. Яковлева, М.А. Карапузова, Э.М. Кузьмина, и Л.В. Моисеева.
Люся (Эльвира Михайловна) Кузьмина. Да наши женщины не только коня – медведя на скаку остановят!
Любишь обогреваться – люби и саночки возить! Мария Исааковна бурлачит газовый баллон от грузового Ли-2 к женской палатке.
Директор НИИГА Б.В. Ткаченко и его правая рука – начальник планово-экономического отдела М.И. Гуревич проводят краткое совещание на дрейфующей ледовой базе ПВВГЭ на фоне пустых газовых баллонов. Восточно-Сибирское море, 1965 г. А после этого, осенью 1965 года, случился упомянутый выше конфуз с моей злополучной научной статьёй о геологических результатах. В начале 1966 года, когда я писал производственную часть проекта съёмки восточной части Восточно-Сибирского и западной части Чукотского морей, Деменицкая сходу зарубила участие женщин в качестве камеральной группы на ледовой базе. "Литинский развёл гарем на льдине!!" – кричала Раиса Михайловна. (“Ага, и 60-летняя Мария Исааковна – моя главная одалиска”, злобно подумал я). – "Говорят, в центральной прессе появилась статья об этом! Я не хочу, чтобы моё имя, как руководителя отдела, мешали с этой грязью!!" [Одна из моих многочисленных любимых жён, когда я рассказал ей о реакции Деменицкой, серьёзно поверила в то, что я тогда на льдине вступал в сношения с отважными дрейфуньями. Вот только она не задумалась, как я исхитрился сделать это в узком спальном мешке в палатке, рассчитанной на четыре койки-раскладушки, в которой стояли вплотную 5 коек, ведь все же койки при этом будут раскачиваться?! Так что с одной стороны, я был горд высокой оценкой моих потенциальных способностей со стороны хорошо знающего меня человека, а с другой стороны, мне было смешно слышать о переоценке потенциальных возможностей]. Александр Павлович при этом разговоре сделал суровое лицо ортодоксального большевика-ленинца и сказал, что он полностью согласен с Раисой Михайловной. Пользы от женщин на льдине никакой, только сплетни про Литинского идут по институту. Реальная опасность, в случае раскола льдины, существует, и первый спрос при этом будет с Раисы Михайловны. – Причём тут Раиса Михайловна?! – окрысился я. – За технику безопасности на льдине и во всей экспедиции отвечаю я, как главный инженер. И судить в случае чего будут меня, а не Раису Михайловну. Александр Павлович, Вы забыли, что правила техники безопасности для работы на льдах разработал я, занятия по ТБ каждую весну провожу я, и принимаю у всех экзамен, и у Вас в том числе? Витязев испуганно хрюкнул и взглянул на Деменицкую, но возразить ничего не сумел. Раиса Михайловна изобразила на лице страшное изумление и негодование моему хамству. Правая и левая руки Деменицкой – начальник сектора аэромагнитных исследований коммунист А.М. Карасик и начальник сектора морской геофизики коммунист Н.Н. Трубятчинский сурово насупили брови, но промолчали при этом разговоре.
Начальник дрейфующей ледовой базы в Восточно-Сибирском море, 1965 г. Старый полярный морской волк, вся корма в ракушках, а хвост в ледяных сосульках (но тонул я в Чукотском море только в следующем году). Когда я принёс этот проект на экспертизу и утверждение в планово-экономический отдел и рассказал причину исключения женской камеральной группы, упомянув теорию Деменицкой о гареме на ледовой базе, Мария Исааковна презрительно скривила губы и подписала проект, не читая. Так она теперь доверяла моим расчётам. К сожалению, это был мой последний проект для Полярной экспедиции... Раскрытая книга – работа женщин впервые в мире на дрейфующих льдах Ледовитого океана – была грубо захлопнута взбалмошной женщиной, которую, якобы, “справедливо и заслуженно ветераны-полярники величали «мамой» Полярной экспедиции”. (Из книги «Полярники пишут сами», СПб, Ломоносов, 2002, ). Я такой её кликухи раньше не слышал. Промеж себя в узком кругу мы чаще звали её просто Райка. В феврале 1967 года Деменицкая переместила меня с должности главного инженера на специально придуманную для меня должность главного геофизика экспедиции (директор НИИГА Б.В. Ткаченко упёрся рогом, не разрешая уволить меня из экспедиции совсем). В 1967 году я руководил работой нашей группы на ледоколе «Киев» в Карском море, в результате чего я опубликовал статью в геофизическом сборнике МГУ под редакцией Федынского о разработанном мной новом методе авиадесантной гравиметрической съёмки на вертолёте с опорой на морской маятниковый прибор, установленный на ледокол е ( сборник "Морские гравиметрические исследования", вып. 6, изд. МГУ, 1972 г .). В 1968 году на основе этого опыта я переключился на организацию морской гравиметрической съёмки в Арктике на судах. В сложнейших условиях (66 дней я провёл в общей сложности в многочисленных командировках – дневал и ночевал на судоремонтном заводе в Керчи, где затягивался ремонт нашего экспедиционного судна «Владимир Обручев», и был в командировках в Москве, Геленджике, Архангельске, Мурманске) мне удалось полностью подготовить съёмку в Карском море. (Вот тогда-то, во время этой подготовки, будучи в Москве в кабинете Федынского, я и хрястнул по столу кулаком, а Деменицкая засеменила в туалет).
Э/с «Владимир Обручев», Керчь, июль 1968 г. Слева – капитан Д.В. Сенчило. Автор в коротких штанишках – справа. Я тогда предложил и собирался опробовать несколько новых вариантов методики морской гравиметрической съёмки. 26 сентября я послал телеграмму из Мурманска в НИИГА, что, наконец, команду и капитана сменили, и судно полностью готово завтра к выходу в море. Но и Деменицкая не дремала… Воспользовавшись тем, что вся дирекция НИИГА в сентябре ушла в отпуск, а временно исполняющим обязанности директора был назначен начальник отдела снабжения института Р.П. Могендович, совершенно не разбирающийся ни в науке, ни в геофизике, ни в дворцовых интригах, Деменицкая заставила его подписать телеграмму о снятии меня с этого рейса. В качестве начальника рейса был назначен Женя (Евгений Николаевич) Зацепин, до этого совершенно незнакомый с морской гравикой. Я покинул судно 27 сентября, а 28-го «Обручев» вышел в рейс… Вот и тут я проявил себя полным ишаком (идиотом, как утверждает Лена). Надо было сделать вид, что никакой телеграммы я не получал, забить болт на всё, и выйти в море – сосите палец, Раиса Михайловна! Победителей не судят! Ну, конечно, она всё равно нашла бы другой повод для изгнания меня из Полярки, но позже… (См. Приложения 4 и 5). И, конечно, никаких новых вариантов методики морской гравиметрической съёмки, кроме обкорнанного варианта, предусмотренного написанным мной проектом, «обручевцы» не привезли… Осенью 1968 года Б.В. Ткаченко и его замы вернулись из отпуска, и поэтому Деменицкая не успела вовремя уволить меня из Полярной экспедиции. Могендович тогда категорически отказался самостоятельно принять такое серьёзное решение, несмотря на бешеное давление Деменицкой. Ей удалось только ещё раз в марте 1969 года понизить меня в должности – до рядового старшего геофизика. В каковой должности в качестве начальника отдельного отряда я и производил съёмку Байдарацкой Губы Карского моря в 1969 году, в то время, как вся Полярная экспедиция работала в восточной части Чукотского моря. Об этом и будет мой основной рассказ ниже. А в июле 1970 года Деменицкая окончательно выперла меня из моей родной Полярки. Энергично помогал ей в этом ф ормальный начальник экспедиции Александр Павлович Витязев, член партии, высокий, широкоплечий и представительный отставной капитан первого ранга, как я уже говорил – совершенно незнакомый с геофизикой. Пока у нас с Деменицкой «была любовь», мы с Витязевым работали душа в душу. Вся наука, методика и техника работ были на мне, Александр Павлович, также совершенно незнакомый с хозяйствованием, вынужден был заниматься палатками, спецодеждой, питанием, договорами с авиацией, завозом бензина и др. организационными работами. Естественно, он, не имея хозяйственного опыта в Арктике, ничего сам не смог бы сделать. Но ему, как я упоминал выше, помогали приведённые мной в Полярку из моей предыдущей алмазной Биректинской экспедиции проверенные опытные арктические хозяйственники – Федя (Фёдор Михайлович) Ковров, Боря (Борис Николаевич) Горбачёва, которые и выполняли всю эту важную работу. Они спокойно могли бы обойтись и без него. Но нужен был формальный глава экспедиции – член партии. А у Витязева не только бравый внешний вид, но и сама фамилия были очень представительными. Но оказалось, что бравый внешний вид совершенно не соответствовал его слабому внутреннему содержанию. Приведу отрывок из вышеупомянутой документальной истории «Отважные дрейфуньи», события 1965 года: Уже приближался конец рабочего сезона, когда радист нашей ледовой базы Коля Давыдов вручил мне РД – радиограмму «Восьмому от Девятого» – начальника экспедиции А.П. Витязева [в нашей «секретной» радио-переписке я имел кличку «Восьмой»], сухо предписывающего мне с первым бортом вылететь на базу экспедиции в аэропорт Чокурдах. Что я сразу же и сделал на ЛИ-2, увозящим с базы на Большую Землю пустые газовые баллоны и бочки из-под бензина. “Чего это Палычу приспичило? – размышлял я в полёте. Конец сезона, самая горячка, добиваем план, надо заполнить пропуски на карте, надо уже вывозить с базы ненужное оборудование, а тут вдруг он меня выдёргивает”. Вспомнилось, как ранее в этом сезоне Витязев с целью инспекции прилетал в аэропорт Темп на западном берегу острова Котельный, где базируются два наших лётных отряда – Володи Шимараева и Андрея Орлова, а командует ими в качестве начальника гравиметрической партии Коля Третьяков. Знаете, как изголодавшийся полярник, прилетев со льдины в Ленинград, от нерастраченного избытка любви напрыгивает на жену, не снимая рюкзака? Так и Витязев налетел на Колю Третьякова, начавшего докладывать начальнику, как успешно они работают, как хорошо все обустроились, вот сейчас, Александр Павлович, Вас в баньку сведём... “НЕ БЫТОМ ЗАНИМАТЬСЯ НАДО, НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ! А ТОЧКИ ДЕЛАТЬ!! И ПРИТОМ – ДАЛЬНИЕ!!!” – громовым басом распёк начальник экспедиции оторопевшего начальника партии перед собравшимся народом, хотя точки делались исправно, Орлов долетал до ледовой базы, делая самые дальние точки, всё было благополучно, никаких ЧП не произошло. Но чтоб боялись! Что умел хорошо делать начальник экспедиции, капитан первого ранга в отставке (ни уха, ни рыла в геофизике) – это публично распекать нерадивых (и в равной степени радивых) трудящихся. Эта фраза о дальних точках была потом написана в виде плаката и висела, как лозунг, в камералке в Темпе. Ещё по экспедиции ходила ядовито высмеивающая, часто повторяемая, распекабельная фраза Александра Павловича: “Ребёнку скажешь – возмутится! Домой напишешь – не поверят!”. “Чего он меня со льдины вырвал? – продолжал догадываться я. – Всё вроде бы в порядке. Работу благополучно заканчиваем. План точно перевыполним. Качество съёмки, вроде бы, отличное. Ткаченко на льдину прилетал – остался очень доволен. Замначальника всей Полярной авиации Филипенин прилетал – тоже отметил, что авиаторы работают отлично, взаимопонимание летунов и науки – полное. Наши бабоньки вообще его очаровали, обещал восторженную статью в «Правду» и в «Советскую Женщину» написать о первых в мире женщинах, по-настоящему работающих на дрейфующей льдине. Так что чего уж распекать?” Александр Павлович встретил меня в гостинице аэропорта в Чокурдахе хмуро, руки не подал. От него заметно пахло алкоголем. “Если будет распекать не по делу, оборву. И сам рявкну, окрысюсь”, подумал я. – Так что случилось, Александр Павлович, – приветливо спросил я. – Чего вызвали? Витязев вместо ответа протянул мне какую-то плоскую синеватую квадратную коробочку. – Что это? Шоколад? – Какой ещё шоколад? Это печать. – Печать? Что за печать? – Печать нашей экспедиции. – Вы заказали новую печать? – Открыл коробочку, в ней, действительно, на тёмно-фиолетовой подушечке лежала металлическая круглая печать. Я приподнял её за овальное ушко и посмотрел на замазанную чернилами лицевую сторону, ничего не понимая, при чём тут это. – Я передаю Вам печать экспедиции. – На что мне она, Александр Павлович? Белым медведям под хвост ставить в знак заключения с ними договора о ненападении? Я же на льдине никаких договоров не заключаю... – Я передаю Вам обязанности начальника Полярной экспедиции. – Вы заболели, Александр Павлович?! Что с Вами?? – Я совершенно здоров. Не прикидывайтесь, Вадим Арпадович. Вы являетесь фактическим начальником экспедиции. – Я-а?! С каких пор? Это что, Ткаченко решил?! Так почему он мне сам этого не сказал?! Если это он потом решил, после отлёта от нас, мог бы мне на базу объяснительную радиограмму прислать! А в чём дело? Почему? Всё же идёт на редкость хорошо в этом году! Льдина серьёзно не разламывалась, план перевыполним, девчата работают отлично, Ткаченко у нас был совершенно доволен! Что случилось, Александр Павлович? (“А-а! Он что, при Ткаченке в Чокурдахе нажрался до поросячьего визга?!” – мелькнула у меня шальная мысль). – Нет. Ткаченко здесь не причём. Это моё решение. – Ну, Александр Павлович, тогда я ничего не понимаю. Тогда объясните, пожалуйста. – Вадим Арпадович, давайте начистоту. Всё руководство экспедиции фактически исходит от Вас. Я – как зитц-председатель, только портянками и заброской бензина руковожу. Вся переписка отрядов идёт только на Вас – где чего снимать, где чего сгущать, где ставить сейсмику, а где всё еще дно доставать лотом, но сейсмику всё равно делать, в каком отряде сломался гравиметр и чем его заменить... Все же радиограммы идут через нас – Боря Дударев мне всё показывает, прежде, чем передать «Восьмому», Вам, на ледовую базу. Никто ничего никогда не спрашивает меня, «Девятого». Все решения принимаете Вы. “Йоп, ну, блядь, пиздец! Так вот оно что! Совсем у каперранга крыша сдвинулась. Допился! Ну, слава тебе, Господи, я уж думал, чего хуже”. – Александр Павлович, и это всё?! Так это же естественно! Я – технический руководитель, по всем производственным вопросам народ, естественно, обращается ко мне. Вы – начальник, член партии, лицо экспедиции. Благодарность за работу экспедиции Федынский будет слать Вам, ручку на общем собрании института Ткаченко будет пожимать Вам, в райкоме будете докладывать Вы, а не я, у Деменицкой Вы правая рука, чего же ещё? А то, что с техническими вопросами наши геофизики к Вам не обращаются – так это потому, что все знают, что Вы не специалист, просто не хотят ставить Вас в неловкое положение своими вопросами. Но Вы уже третий год среди нас трётесь, ну, трётесь, извините, не так сказал, тесно работаете с нами, стали понимать, что к чему, и вникать в суть дела. В какой-то мере тут есть моя вина, что я все технические вопросы взял на себя. Обещаю Вам, что в следующий полевой сезон все технические вопросы мы с Вами будем решать совместно. Александр Павлович широко протянул мне руку, крепко пожал и обнял меня (ну, совсем как генсек ЦК КПСС африканского вождя, только что в губы не расцеловал), обдав плотным выхлопом застарелого перегара и свежего алкоголя. Мы с ним хорошо выпили, Александр Павлович долго рассказывал мне о своей безупречной службе в военно-морской гидрографии, и мы расстались лучшими друзьями. Тем же самолётом с бочками бензина я вылетел на базу заканчивать съёмку. “Ну, бляха-муха, – хмельно улыбался я, – мы привыкли к командирскому рыку каперранга, как будто в шторм при вое ветра и разрывах японских шимоз он распекает наваливших в штаны молодых матросов, а тут он себя повёл, как юная пионерка, узнавшая, что она беременна! Вот, поди ж ты! Ну, слава Богу, что всё хорошо кончилось!” Конец цитаты. Но кончилось все совсем не хорошо – осенью этого года я написал ту самую злополучную статью о наших геологических результатах… На следующий, 1966-й год мы делали авиадесантную съёмку восточной части Восточно-Сибирского и западной части Чукотского морей. Я понимал, что это последний год моего главного инженерства и руководства дрейфующей ледовой базой. Этот 1966 год был самым тяжёлым в практике работ Полярной экспедиции на советских Арктических морях. Льдина многократно раскалывалась, пришлось несколько раз перевозить базу на новое место. Погода в основном была мерзкая. План трещал по всем трещинам. Один АН-2, базирующийся на острове Врангеля (отряд Володи Шимараева), провалился под лёд (его фотография была приведена выше), но все остались живы. Героическая работа всех участников дрейфа спасла положение. План, как всегда, был выполнен на 105% при отличном качестве. О работе этого года вы при желании можете прочесть в моей документальной истории «Будни дрейфующей ледовой базы» () и для иллюстрации посмотреть коротенький фильм «Под нами Чукотское море» участника дрейфа радио-инженера Вали Мошковича (). (Очень, очень рекомендую его посмотреть, не пожалейте 14 минут, ибо лучше один раз увидеть, чем 10 раз прочитать мою докубайку). С нами на льдине тогда пару недель дрейфовал корреспондент Магаданского радио Альберт Мифтахуддинов, ставший потом известным писателем. Он написал интересный очерк «Мы живём на дрейфующей льдине» (журнал «Дальний Восток», N о 5, 1969 г.). Отрывки из этого очерка воспроизведены в «Буднях». В этом 1966 году из-за всех передряг нам пришлось задержаться на льдине на полмесяца дольше, чем кому-либо из сезонных высокоширотных экспедиций в Арктике – до 18 мая. И мы сделали необходимую детализацию! Да ещё в самый последний день, когда я уже вызвал Ли-2 для эвакуации базы, мы ухитрились слетать на давно покинутую американскую дрейфующую станцию «Чарли», которую я с отличным пилотом Эдиком Каминским нашли в самые первые дни при поисках подходящей льдины для дрейфующей базы! И этим посещением «Чарли» поставили окончательную точку в спорном вопросе о существовании кругового дрейфа льдов в этом Канадском секторе Ледовитого океана (См. докубайку «Дрейфующая Америка» и мою официальную статью «Обнаружение остатков американской дрейфующей станции “Чарли” в районе к северу от о. Врангеля», «Проблемы Арктики и Антарктики», вып. 29, изд. ААНИИ, Л., 1968). В этих статьях приведена карта дрейфа льдов СЛО, составленная Залманом Гудковичем, автором идеи о циркумполярном дрейфе льдов в Канадском секторе СЛО.
Валя Волков с пластиковым кругом, на котором написано название американской дрейфующей стации «Чарли». 1966 г.
Американская палатка, в которой мы нашли жратвы и выпивку. 1966 г. И тем не менее несмотря на все необычные трудности, я уверен, что если бы женщины работали в этом году на ледовой базе, нашим съёмщикам было бы не так тяжело работать по известной вам причине: после утомительнейшего напряжённого многочасового полёта ребятам не нужно было бы, кровь из носу, обрабатывать полевые наблюдения, когда на сон оставалось всего несколько часов. А женщины перенесли бы все эти трудности ничуть не хуже мужиков. Ведь всем известно, что русские женщины и коня на скаку, и в горящую избу... А уж через трещину и далее на 400 метров свою палатку впятером перетащить во время пурги – это им «как два пальца описать». Извините за такое элегантное сравнение.
Переноска палатки на новое место. В том последнем для меня, как главного инженера, 1966 году я честно, как обещал, привлекал Александра Павловича к решению технических вопросов, начиная с проектирования. (В большинстве случаев принималось моё мнение. В тех редких случаях, когда Витязев решался командовать, приходилось привлекать начальников лётных отрядов, чтобы доказать, что его решение не оптимально. Восстановлению наших с ним прежних рабочих отношений это не способствовало). Все производственные радиограммы начальников съёмочных отрядов я просил их дублировать Девятому. У меня сохранилась копия письма, которое я писал тогда Витязеву с ледовой базы на базу экспедиции в аэропорту Шмидта, находящемся на одноимённом мысе на материке, к югу от острова Врангеля. Я привожу это письмо в Приложении №, чтобы показать, что я честно выполнял своё обещание привлекать его к решению технических вопросов. Кроме того, в письме есть интересные детали о работе ледовой базы.... Ой! Ахти мне! Былин! Маразм крепчал! Не могу найти это письмо в своём бардаке! Не могу пока поместить его в Приложениях! Ну, ладно, буду тужиться, чтобы вспомнить, ведь я же его пару месяцев тому назад перечитывал... Да, так датировано оно было 2 или 3 мая. Я описывал начальнику, как мы отметили день Международной солидарности с трудящимися всего мира. Я разрешил выдать полярный паёк из расчёта пол-литра спирта на троих, то есть по 330 грамм водки на рыло. Дежурному по базе в этот день Алику Когану, сейсмику, приказал обойти все палатки и собрать карабины – в каждой палатке имелось по 1-2 карабина, которые всегда стояли у входа, для защиты от бродяг (“Ходють тут всякие, а потом Кадиллаки пропадают!”). Штук 20 карабинов Алик на волокуше привёз к моей палатке и сложил их под моей раскладушкой. Первыми открывать огонь сотрудникам базы по бродягам я категорически не разрешал, сначала нужно было отпугивать их ракетами. Стрелять разрешалось только в случае неподчинения, а не так, как “Шаг влево, шаг вправо – считается побегом, и вологодский конвой стреляет без предупреждения!” Кстати, в том 1966 году пришлось одного бродячего медведя пристрелить. Он, голодненький, шастал «ночью» около столовой (кухонные остатки, повара, естественно, не выбрасывали на улицу, а складировали в закрывающийся металлический контейнер). Дежурный по базе (кажется, это был Витя Косарев) пугнул бродягу ракетой. Тот, огорчённый таким гостеприимством, почапал к видневшейся вдалеке (метров 400-500) палатке сейсмиков. Витя позвонил им по проводному телефону, чтобы предупредить ребят, если бродяга вдруг начнёт ломиться в их палатку, как подобный же отморозок ломился в том же году в палатку Юры Жирова на льдине около северного берега острова Врангеля (см. упоминавшуюся «Жировиану»). Проснувшиеся сейсмики выскочили из палатки, а большущий Миша – вот он тут, почти у входа! Сейсмики с перепугу забыли про мои наставления пользоваться ракетами, и открыли беглый огонь из пары стволов на поражение. Этот эпизод отражён в опоминавшимся фильме Вали Мошковича «Под нами Чукотское море». Бродягино мясо оказалось жёстким и невкусным, сильно отдавало рыбой. А может, наши повара просто не имели опыта вкусного приготовления медвежатины. Я описал Витязеву, как в целом без эксцессов прошло ледовое первомайское празднование, вот только Олег Зябликов (глава нашей астрономической и радиогеодезической привязки) повздорил с Борей Горбачёвым (завхозом ледовой базы) по поводу недостаточного количества спирта, но по причине отсутствия оружия до дуэли у них дело не дошло, ограничились рукоприкладством. Да эрпешники – группа РП – руководителя полётов Жени Тымчука, когда у них закончились ракеты, неожиданно стали салютовать из двух карабинов. Расследование показало, что Алик Коган подумал, что команда РП не входит в мою юрисдикцию, и поэтому не покусился на их оружие. Пришлось Алику объяснять, что на льдине поддерживается строгое единоначалие, как в воинской части, и всем командует только один начальник базы. В этом письме я подробно разъяснил бравому отставному капитану первого ранга, как удачно складываются обстоятельства, что мы можем без дополнительных расходов провести «архи-важные» сейсмические наблюдения методом ГСЗ – глубинного сейсмического зондирования от дрейфующей базы до северного побережья о. Врангеля для детального изучения разреза земной коры на этом громадном, несколько сотен километров, профиле. Ведь у нас же было несколько сейсмиков и сейсмостанций, и оставалось много взрывчатки. Ну, ладно, чего жалеть пропавшую грамоту, надеюсь это письмо найдётся. Вам всё равно было бы не интересно читать мои технические подробности. Так что в конце сезона взрывчатку бабахнули просто так. К сожалению, я тогда быстро понял, что совершенно напрасно метал бисер перед полным дундуком. И этим допустил неисправимую тяжёлую ошибку. Витязев, как неспециалист, ничего, разумеется, в моём письме не понял. И мне просто ничего не ответил. Посоветоваться с Деменицкой он не мог. Изложить ей то, что я написал ему – невозможно, она тут же поймёт, что это всё происки Литинского, так как сам Витязев в этом «ни бум-бум». А для Деменицкой – если происки Литинского – то хорошо ли это для Родины, плохо ли – НЕТ! Сам Витязев принять решение не осмелился. Мне на письмо не ответил, и дорогое время было безнадежно упущено. В Советском Союзе к русскому коммунисту директору предприятия часто приставляли умного еврея в качестве главного инженера, чтобы дело от дундука не страдало. Вот и я, русский, но беспартийный, играл до поры до времени роль такого умного еврея при несведущем коммунисте-начальнике. Если бы я не допустил в 1965 году ужасной ошибки, а включил бы Деменицкую в список соавторов нашей первой статьи по геологическим результатам работ Полярной экспедиции в 1963-65 годах, я был бы и в 1966 году полноправным главным инженером. А так мне постоянно Деменицкая и, естественно, Витязев, давали понять, что я здесь только «халиф на час», что меня сейчас же после возвращения с полевых работ скинут и на эту должность назначат Г.И. Гапоненко. Не будь этого «Гапонова меча» надо мной, я бы просто проинформировал Витязева о необходимости провести «архи-важные» работы ГСЗ по определению строения земной коры, и, не ожидая его разрешения, дал бы команду начальнику сейсмической партии Вадиму Поздееву на выполнение ГСЗ. И вся любовь! Исключительно важная, архи-важная (я не стесняюсь повторить это ленинское выражение!) работа была бы проведена малыми средствами, не выходя за пределы нашей сметы! Был бы создан прекрасный геологический репер, облегчающий геологическую интерпретацию всех наших геофизических измерений! Я не уверен, что и к настоящему времени эти работы глубинного сейсмического зондирования земной коры проведены в районе шельфа к северу от острова Врангеля. Да, не вовремя я клятвенно пообещал дундуку-коммунисту Витязеву привлекать его к решению научно-производственных проблем!
Начальник Полярной экспедиции А.П. Витязев на базе экспедиции в аэропорту Чокурдах, 1965 г. Как только Витязев понял от Деменицкой, перед которой он жалко трепетал, что Литинский стал для неё персона не шибко грата – его отношение ко мне резко изменилось. Начал зверски придираться по совершенно смехотворным вопросам (как коммунист, он обязан был выполнять волю вышестоящего начальства). Коммунисты Карасик и Трубятчинский помалкивали, хотя ранее у них со мной были добрые приятельские отношения. Зная железный характер Раисы Михайловны, они не смели ей перечить. И тут уж под напором Деменицкой и Витязева Ткаченко дрогнул и согласился на моё увольнение. П осле ухода из Полярки в июле 1970 года я стал работать в отделе нефти и газа старшим геофизиком, а затем старшим научным сотрудником. В соавторстве с геологом Димой (Дмитрием Александровичем) Вольновым, на теме которого я начал работать, мы опубликовали статью «Структурно-тектоническое районирование акватории шельфовых морей Лаптевых и Восточно-Сибирского», а с инженером-геофизиком Серёжей Раевским (Сергеем Сергеевичем) – статью «Структуры фундамента Приморской низменности и прилегающей территории и акватории по геофизическим данным» (опубликованы в трудах НИИГА). Естественно, эту статью писал я, а Серёжа помогал мне в её оформлении. Следующий конёк, на котором я заскакал дальше, оказался новой гравитационной изостатической редукцией, которую я назвал Универсальной и которую использовал впервые в Союзе (везде я писал, что что-то применил впервые в мире, но в данном случае за весь мир не отвечаю, хотя для геологической интерпретации – ручаюсь). Я стал широко использовать её вместо общеупотребительной редукции Буге, непригодной в горах. В «Докладах АН СССР», т. 192, № 6, 1970, я опубликовал статью «Выбор Универсальной редукции силы тяжести для геологического истолкования мелкомасштабных гравиметрических съёмок», а в сборниках НИИГА «Геофизические методы разведки в Арктике», вып. 9 (1974) и 10 (1975) статьи «Зависимость силы тяжести от высоты рельефа и вывод Универсальной редукции, не зависящей от высоты» и «Универсальная редукция сил тяжести», и несколько статей в разных изданиях об этой новой изостатической редукции. Но я занимался не только арктическими морями, но и сушей. Помимо упомянутой выше статьи о Приморской низменности – опубликовал статью «Тектоническое строение Момо-Зырянской впадины по гравитационным данным (аномалиям в Универсальной редукции)». Я построил карту строения фундамента Момо-Зырянской впадины, на основе чего коллектив авторов НИИГА и ВНИГРИ (с моим участием) опубликовал две статьи о структурно-тектоническом анализе и перспективах нефтегазоносности Зырянского прогиба (Труды ВНИГРИ, вып. 309, Л., 1972 г.). Затем я сделал самое важное открытие (ессессно, впервые в мире, вы же меня знаете) – используя мою любимую Универсальную изостатическую редукцию, я установил, что Верхоянские горы надвинуты сверху на Предверхоянский прогиб до 80 километров только в северной его части. Это открытие значительно увеличивает нефтегазовый потенциал прогиба, продолжающегося под Верхоянским хребтом. Естественно, по общеупотребительной редукции Буге этот вывод сделать невозможно. Статья об этом «О сочленении северной части Предверхоянского прогиба и Верхоянского мегантиклинория по гравиметрическим данным» была опубликована в книге «Геология и нефтегазоносность прогибов севера Сибирской платформы», НИИГА, Л., 1977, с припиской «Публикуется в порядке обсуждения». Мои друзья-геологи при встрече со мной дружелюбно крутили пальцем у виска. Но потом появились нашумевшие публикации о подобных крупных надвигах Скалистых гор на прилегающие бассейны в США и Канаде, и друзья крутить пальцы перестали. В США расширенный реферат моего доклада об этом на международном съезде SEG (Общества Разведочных Геофизиков) был опубликован в журнале « Geophysics »: Litinsky, Vа dim (1989) Discovery of an overthrust belt in the V erkhoyansk range, East Siberia, by interpretation of isostatic anomalies. SEG Technical Program Expanded Abstracts 1989: pp. 108-111. В реферате была приведена гравитационная карта в Универсальной редукции и основанная на ней тектоническая схема Верхоянского прогиба, Верхоянского антиклинория, и примыкающей части Сибирской платформы. ...Несколько лет тому назад я с интересом смотрел по какому-то российскому каналу документальный фильм государственной российской телекомпании ОРТ "Искатели. В поисках Земли Санникова". И вдруг услышал свои ФИО! Оказалось, что в фильме рассказывалось о моих изысканиях по поводу существования и исчезновения Земли Санникова, которые я делал незадолго до эмиграции. Тогда я написал серьёзную статью об этом на основе новых материалов, которую перед отъездом передал кому-то из геологов (не помню) с просьбой переслать в какой-то научно-популярный журнал. Я эмигрировал, а статья затерялась (у меня сейчас есть вариант текста этой статьи, к сожалению – без рисунков и карты). А также я обсуждал эту проблему с Володей (Владимиром Леонидовичем) Ивановым, заместителем директора НИИГА, с которым я работал на Новосибирских островах. И вот Володя опубликовал мои идеи в своей книжке «Архипелаг двух морей» (): Эта книга была уже написана, когда я решил показать рукопись своему давнему товарищу по работе Вадиму Арпадовичу Литинскому, геофизику, знатоку глубинного строения полярной суши и акваторий Северного Ледовитого океана. Оказалось, что Литинский уже несколько лет занимается - отчасти как хобби, отчасти как вполне серьезной научной проблемой - «Землей Санникова». Это было неожиданно: буквально в соседнем служебном кабинете давно и серьезно размышляют над тем же, что и я, вопросом. Стоило ли возвращаться к предмету дискуссии, закономерно заглохшей более трех десятилетий назад? Очевидно, стоило, потому что за эти годы появились совершенно новые геофизические и геологические данные по акватории морей Восточной Сибири. Литинский тоже начал с анализа всех литературных и архивных материалов по «земле». При этом он обратил внимание на один факт: когда Толль брал азимут на увиденные им «четыре горы», то пользовался он данными по магнитному склонению 1822 года, а магнитное склонение заметно изменяется во времени. Литинский поехал в Институт земного магнетизма и распространения радиоволн, взял все данные по магнитному склонению за прошлое столетие и, сделав необходимые расчеты, установил, что истинный азимут на «Землю Санникова» с северной оконечности Котельного составлял не двадцать девять - тридцать три градуса на северо-восток, как было принято считать, а двадцать два - двадцать шесть градусов. Далее В. А. Литинский скрупулезно изучил карту донных осадков морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, составленную нашими морскими геологами Ю. П. Семеновым и Е. П. Шкатовым, и обратил внимание на участки размыва и перемыва донных отложений, иными словами, на зоны активного действия волновой абразии в условиях мелководья, сегодняшнего или совсем недавнего. Один из таких участков, оказалось, располагается на месте бывших островов Семеновского и Васильевского, причем площадь его соизмерима с площадью Котельного и Земли Бунге, вместе взятых, а три других лежат к северу от островов Анжу, на расстоянии от них пятьдесят пять - семьдесят пять километров. При этом азимуты, взятые на два из этих участков, соответствуют направлениям, указанным когда-то Я. Санниковым. Третий располагается точно по азимуту, по которому Э. В. Толль сначала наблюдал «горы» (с учетом поправки В. А. Литинского), а в 1901 году с борта «Зари» обнаружил банку глубиной шестнадцать метров. Наконец, при анализе геофизических данных к северу от острова Котельный был выделен интенсивный максимум поля силы тяжести, далеко вытянутый в меридиональном направлении. Он отвечает блоку древнего фундамента шельфа, перекрытого лишь тонким чехлом молодых морских осадков. Это значит, что блок имел устойчивую тенденцию к поднятию, которое только в недавнем прошлом сменилось погружением. Участок отличается повышенной тектонической активностью, в последние годы здесь было зафиксировано несколько землетрясений. Правда, интенсивность их невелика, только высокочувствительные сейсмографы смогли почувствовать толчки. Теперь можно считать доказанным, что к северу от островов Анжу по азимутам, которые называли Я. Санников и Э, В. Толль, недавно - не в геологическом, а в данном случае в обыденном смысле слова - существовали острова, и путешественники могли видеть их. Конец цитаты. Так что, как видите, изгнание меня из моей родной Полярной экспедиции (даже полное название которой – ПВВГЭ – моё авторство) не остановило мою научную работу. Всего после изгнания меня из Полярки до отъезда в эмиграцию в 1979 году, я опубликовал 26 статей. Ну, и кроме этого, в Америке я тоже много чего понаписал и на четырёх Международных геофизических конгрессах наговорил. …Но потом меня ещё раз пригласили в Полярку при крайней необходимости – в 1974 году я руководил гравиметрической съёмкой на гидрографическом судне «Дмитрий Лаптев» в северо-западной части Берингова моря. Это тогда я двое суток провёл, сидя на полу в обнимку с унитазом в моей персональной каюте начальника экспедиции, во время 9-балльного шторма при переходе из Владивостока к месту работы в северной части моря. Дневник у меня есть, ждите докубайку… Тьфу ты, истдок! Но, естественно, к полученным в том году материалам Деменицкая меня не допустила. Хорошо ли проинтерпретировал кто-то (Гапоненко? Зацепин?) эти гравитационные данные – понятия не имею. Наверное, по серости своей использовали редукцию Фая или Буге – обе они в районе резкого изменения рельефа дня (континентальный склон) совершенно не работают, и их использование приведёт к грубейшим ошибкам. Я об этом в Америчке написал статью, в которой предложил специальную редукцию ( « Isostatic reduction at sea – a new version »). К сожалению, я тогда забросил заниматься наукой, окрысившись на «тупых америкосов», за то, что в главном геофизическом журнале мира « Geophysics » не появились отклики на мою гениалку « Concept of effective density …», и не опубликовал эту готовую статью. Ребята-геофизики, посмотрите соответствующий отчёт по Беринговому морю (он теперь рассекречен), и будьте ласка, напишите мне, какая редукция там использована. * * * Слишком много места я уделяю здесь Деменицкой, скажете вы. Но это потому, что с ней связан задуманный ею провал нашей работы на Байдарацкой Губе, или, вопреки ей, героическое завершение этого ледового побоища. Чему и посвящена эта докуиста. Поэтому потерпите ещё чуточку – мне не терпится всё-таки рассказать, как Деменицкая в 1972 году отобрала у меня докторскую степень. Об этом было давно написано в документальной истории «Обыск и допросы. Самсонов. Якир. Буковский» (), но, естественно, у вас не было, да и не будет, времени читать эту длинную докубайку. Коротко повторю. Там было рассказано, как моя совершенно секретная диссертация про восточные арктические моря пропала по дороге из Петербурга в Москву, хотя была отправлена со спецкурьером из НИИГА в МГУ на кафедру Федынского. В это самое время меня много раз таскали на допросы в Большой Дом в Ленинграде и дважды в Лефортовскую тюрьму в Москве по делу Якира-Красина. Я уж было думал, что спецкурьер продал мою совсекретную диссертацию пиндосам-америкосам за бутылку лондонского джина. В той же докубайке рассказано, как благодаря моей любимой жене Мине эта пропавшая грамота была обнаружена, и на следующий день благополучно доставлена в спецотдел МГУ, так что моя защита не сорвалась. Низкий поклон за это старшему следователю по особо важным делам подполковнику КГБ Геннадию Васильевичу Кислых, ведшему дело Якира-Красина, и многократно допрашивавшему меня в Ленинграде и в Москве. Он и нашёл эту пропавшую грамоту по Мининой просьбе. (Мина при её допросе Геннадием Васильевичем в Большом Доме произвела на него неизгладимое впечатление. Вместо того, чтобы отвечать на его дурацкие вопросы, кому Вадим Арпадович давал читать привезённый от Якира самиздат, Мина предложила ему свою краткую лекцию о поэзии Серебряного Века и о любовных взаимоотношениях Ахматовой и Модильяни). Продолжение этой истории, если кто заинтересуется, смотрите в докубайке «Побег от КГБ в лес за грибами с сиамским котом и собакой» (). Там тоже про Минулин ум рассказано. Куда тут денешься – хитрая еврейка, супротив моей воли перехитрила КГБ и меня, утащив в 5 часов утра в лес меня, сына, собаку, и кота, и таскала нас, умирающих от усталости, по лесу до ночи, и, таким образом, сорвала моё участие в суде над Якиром и Красиным в качестве главного свидетеля. Не захотела, вишь, чтобы я потом поведал Городу и Миру, как проходило это судилище, и стал бы после этого героем-правозащитником на нарах, а хотела, чтобы был у неё тёпленьким привычным муженьком под бочком… Ну, до чего же хитрый народ евреи!
Моя любимая жена Мина и по совместительству хитроумная еврейка, инициировавшая находку моей пропавшей совсекретной диссертаций, но, с другой стороны, загнавшая меня, сына Женю, собаку Тёпу и сиамского кота Бежика до поздней ночи в тёмный лес. У меня в это время голова совершенно шла кругом. Из-за допросов в Ленинграде в «Большом Доме» и Москве в СИЗО «Лефортово», и из-за того, что мне надо было готовиться к полевым работам в июне – на острове Котельном я должен был руководить гравиметрической съёмкой масштаба 1:200 000 на вездеходах в Восточно-Сибирской комплексной партии, куда меня взяли на время полевых работ. Защита моей диссертации состоялась в мае. Заключение головной организации ВНИИГеофизики писал и зачитывал доктор А.А. Борисов. Он очень хвалил мою работу и в заключение зачитал, что диссертация тов. В.А. Литинского должна быть квалифицирована как докторская. При этих словах я увидел, что Деменицкая вскочила со своего места, подбежала к председательствующему Федынскому и что-то стала ему шептать. Всеволод Владимирович, хмурясь, выслушал её, встал, и объявил десятиминутный перерыв. Он удалился вместе с Деменицкой. После перерыва Федынский сказал, что он детально ознакомился с диссертацией Вадима Арпадовича, что он давно хорошо знает соискателя, как отличного научного и технического руководителя Полярной экспедиции, и много плодотворно работал с ним во время организации этой экспедиции и потом все годы во время съёмки арктических морей. Он полностью согласен с выводами ведущей организации, что работа Литинского, безусловно, заслуживает докторской степени. Но! “Институт геологии Арктики в ближайшее время предоставит на нашу кафедру к защите кандидатскую диссертацию Георгия Ивановича Гапоненко, члена партии, теперешнего главного инженера Полярной экспедиции. Дирекция института выдвигает товарища Гапоненко на должность заместителя директора НИИГА по геофизике. Эта должность требует докторской степени. Я смотрел работу Гапоненко и считаю, что её тоже можно рассматривать в качестве докторской диссертации. Но, безусловно, ВАК не пропустит две кандидатские диссертации от одного и того же института в качестве докторских с разрывом всего в несколько месяцев. [“Что это за институт такой могучий, который подряд плодит докторов без кандидатских степеней, а сразу, не отходя от кассы!” – но этой фразы Всеволод Владимирович вслух не сказал, это я за него подумал]. Поэтому я рекомендую диссертацию Вадима Арпадовича принять как очень хорошую кандидатскую диссертацию и пожелать ему в течение ближайших нескольких лет защитить докторскую диссертацию”. Вот так Деменицкая и тут в очередной раз подставила мне ножку! Я не знаю, как проявил себя Георгий Иванович Гапоненко на поприще замдиректора НИИГА по геофизике – мне с ним в этой должности не приходилось контактировать. Бо надоели мне Деменицкая, КГБ, вся наша Советская власть во главе с передовым авангардом трудящихся – родной коммунистической партией, и я, несмотря на очень интересную работу, плюнул на всё и слинял за бугор. Хотя мне, наверное, в бОльшей мере светила поездка не на Запад, а на Восток по статье 70 УК РСФСР (семь лет лагерей и 5 «по рогам»), и не на Ту-104, а в «Столыпинском» вагоне (см. «Отъезд в эмиграцию, 1979 год», ). Там я высказал предположение, что это генсек Леонид Ильич лично с подполковником КГБ Геннадием Васильевичем подсуетились, чтобы я поставил мировой рекорд по скорости оформления выезда за рубеж (3.5 месяца по сравнению со среднестатистическим сроком оформления выезда в Израиль 12 месяцев в том году), в аккурат накануне вторжения СССР в Афганистан, после какового эмиграция упала фактически до нуля. Так что, как видите, высшие люди в государстве знали, что я обязан быть по всем статьям впереди планеты всей! Геннадию Васильевичу, если он ещё живой, низкий поклон за это от всей нашей семьи. Целеустремлённости и силе воли Раисы Михайловны (“Carthago Arpadovich delenda est!! Pollice verso !” – с опущенным вниз большим пальцем) может позавидовать сам Марк Порций Катон Старший и любой советский руководитель! И это только из-за того, что я по склерозности позабыл вставить её в соавторы статьи! Ну, хоть бы пару раз пришла к нам в экспедицию на обсуждение результатов полевых работ – я бы тогда не склерозничал и вставил! Зная о разгуле написания липовых диссертаций в современной России, я уверен, что система вписания начальничков в главные соавторы статей и сейчас цветёт там пышным цветом. На своём опыте я могу утверждать, что в Америке этого нет. По результатам шестилетней работы в денверской геофизической компании EDCON , я, после двух лет освоения английского языка, четыре раза выступал с докладами на ежегодных Международных съездах интернационального Общества Геофизиков-Разведчиков ( SEG ) и опубликовал в журнале SEG « G е ophysics » важную концептуальную статью «Концепция эффективной плотности: ключ для определения глубины осадочных бассейнов по гравитационным данным" ( Vadim A . Litinsky , "Concept of effective density: key to gravity depth determinations for sedimentary basins", "Geophysics", vol. 54, no. 11 (November 1989). Плюс четыре развёрнутых на 4-10 страниц Extended Abstract (расширенный автореферат) к каждому докладу. И никто из директората ЭДКОНа не требовал, чтобы я включил их в соавторы и не чинили мне никаких препятствий в моей карьере. В докубайке «Отчёт однокурсникам о прожитой жизни по случаю 60-летия окончания Горного института» () описано, как я несколько лет ждал, когда же в « Geophysics » появятся восторженные отклики на мою гениальную статью. К моему глубокому разочарованию, таковых не последовало и через пять лет. Жаль, подумал я, я ведь так старался, придумал гиперболическую зависимость увеличения плотности осадков от глубины осадочного бассейна. Эта функция легко преобразуется в функцию зависимости гравитационной аномалии от глубины бассейна. Я показал, как можно просто и легко определять глубину фундамента и мощность осадков в бассейне по гравитационным данным. Для нескольких осадочных бассейнов в Провинции Бассейнов и Хребтов в южной Аризоне и юго-западной части штата Нью-Мексико я построил по гравитационным данным карты глубин их фундамента. Хорошая была статья, а никто на неё не обратил внимания! Канула в Лету! “Народ меня не понимает, не ценит и не любит. Или, скорее всего, тупые американцы (как характеризует их Задорнов), и другие чурки нерусские не доросли до моих умных мыслей”, решил я, и, сдуру, начисто прекратил заниматься не только этой проблемой, но и всякой наукой вообще! Хотя в это время у меня были полностью готовы к публикации в « Geophysics » две статьи с положительными рецензиями – « Isostatic reduction at sea – a new version » («Изостатическая редукция на море – новая версия») и « Depth of basin determination from gravity data in the Basin and Range province , Arizona and New Mexico », доложенные на международных конгрессах SEG в 1987 и 1990 годах. И зря прекратил! Мог бы ещё много чего нахрюкать на этих конгрессах – очень много мыслей было в голове! У меня и сейчас в моём подвальном кабинете есть большой картонный ящик, доверху забитый материалами для статей и гравитационными и магнитными картами по всей Америке! (Я же, кстати, придумал новый способ вычисления глубины намагниченных тел, вроде метода Пятницкого, только лучше). Не надо было тогда обижаться на дураков-американцев! А в марте 2010 г. случайно по ошибке набрал я в Гугле свою фамилию латиницей (кириллицей-то вы найдёте массу ссылок в любой поисковой системе на мои полярные и другие фотодокументальные повествования – докубайки, как я их раньше называл), и с радостью обнаружил, что моя статья вынырнула из Леты ещё в 1995 году (но сначала не в «Geophysics», а в «Applied Geophysics», поэтому я и не видел откликов на мою нетленку). И с той поры ссылки на неё широко пошли гулять по свету в публикациях на многих языках, даже на финском и турецком. К моему сожалению, советско-российские геофизики, если судить по интернету (к российским бумажным публикациям я не имею доступа), не заметили её. То ли наши геофизики по-английски читать не умеют, то ли зарплата у них маленькая (скачать электронную копию одной статьи из "Джеофизикс" стоит $29 (около тысячи рублей). Поэтому я собираюсь (Иншалла!) закончить и опубликовать перевод этой статьи, который, я надеюсь, вызовет интерес у российских геофизиков к предложенному мной простому методу вычисления глубины осадочных бассейнов по гравитационным данным. Вот только не знаю, что мне делать с теми двумя готовыми статьями – заняться их переводом и попробовать опубликовать в России, или плюнуть и заниматься только докуистами – ведь до рассчитанных 127 лет для написания все задуманных докуистов и научных статей мне явно не дотянуть?!... Хотя статья «Изостатическая редукция на море – новый вариант» – ох как пригодилась бы российским геофизикам, которые для геологической интерпретации гравики на море редукцию Фая используют – ой, стыд-то какой! Ну, что поделаешь – дикий народ, дети гор! * * * Касаясь соблюдения Р.М. Деменицкой элементарных норм научной этики, следует напомнить, на основе чего коммунист ка Деменицкая с лепила свою докторскую диссертацию о зависимости гравитационного поля и рельефа Земли от мощности земной коры. Будучи в экспедиции Люси Самуиловны Вейцман (жены академика Г.А. Гамбурцева, директора Института Физики Земли), Деменицкая скоммуниздила у неё данные 200 измерений толщины земной коры методом глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ), собранных Л.С. Вейцман. Говорили, что Гамбурцева трясло, когда при нём упоминали имя коммуниздилки. Мне довелось присутствовать при рождении « формулы Деменицкой» о связи гравитационного поля и высоты рельефа с толщиной земной коры . Сама Деменицкая в математике, кроме таблицы умножения, "ни в зуб ногой", равно как и в гравиметрии. Она по специальности сейсмик. (Но в сейсмике она тоже ни в зуб ногой, как рассказывали мне двое её студентов, когда она на короткое время устроилась в ЛГУ читать лекции по сейсмике, чтобы заполучить звание профессора. Студенты подыхали на её лекциях, когда она, запинаясь и путаясь, читала что-то по конспекту или по книжке, не отрываясь, и списывала с них на доску замысловатые формулы). П оэтому она при мне попросила Николая Николаевича Михайлова (мы тогда сидели с ним в одном кабинете) , прекрасного математика и гравиметриста , бывшего беспартийного начальника отдела геофизики (которого она вытеснила, и место которого она заняла, как член партии), найти математическую зависимость между гравтационными данными и толщиной земной коры . Деменицкая передала Николаю Николаевичу данные Вейцман и данные гравитационного поля и высоты рельефа в тех же точках, снятые её техником с соответствующих карт, в виде трёх таблиц . На следующий день Н.Н. принёс построенны е график и , которы е он аппроксимировал довольно простой формулой. Он передал лист бумаги Деменицкой, робко сказав в своей манере, растягивая слова: "Ра-иса Ми-хайловна, мне кажется, что Вам тут мо-жно на-пи-сать инте-рес-ную ста-тью...". "Что-о?!" – взвизгнула Раиса Михайловна, видимо, не расслышав слово "Вам" . "Вас это совершенно не касается!" – и с этими словами она в клочки разорвала бумагу Михайлова. "Да я не про себя, Ра-и-са Ми-хай-ло-вна...", ещё более заикаясь, залепетал перепуганный учёный , носивший китель с шеврон a ми капитана первого ранга Главсевморпути и значком «Почётный Полярник» . – "Слушать ничего не хочу! ! " – гневно крикнула начальница, швырнув клочки на его стол и удаляясь. В отделе геофизики работала молодая симпатичная сотрудница , брат которой, окончивший математический факультет ЛГУ, стал оперным певцом в Кировском театре. Вот ему, как лицу совершенно незаинтересованному, и передала Деменицкая через его сестру таблицы данных, естественно, ради предосторожности не говоря, что это за точки. Хотя эт а предост орожность был а излишн ей – певцу -математику было совершенно "по барабану" – земная кора эта или апельсины, как сказала мне эта симпатичная сотрудница . Так появились предельно неуклюжие формулы с гиперболическим тангенсом (! ! Вы слыхали про такой?! Я – нет! ), связывающие толщину земной коры с гравитационным полем и рельефом. Формулы легли в основу докторской диссертации Деменицкой и её главной книги "Кора и мантия Земли" ( ). Геофизики и геологи, читающие эту мою докуисту , посмотрите в книге Деменицкой на страницах 30 и 32 графики зависимости толщины земной коры и гравитационного поля и рельефа Земли. Ссылк у на источник, откуда взяты эти важнейшие данные о толщине земной коры, вы не найдёте. Потому что они были украдены у Л.С. Вейцман. Для любых выводов о связи чего угодно с толщиной коры важны именно эти данные и координаты точек, в которых эта толщина измерена сложным и страшно трудоёмким методом ГСЗ (глубинного сейсмического зондирования), которым руководила Л.С. Вейцман . Снять с карт высоту рельефа и величину гравитационной аномалии в этих точках – несложная операция для любого техника. Вот! А вы говорите: "научная этика, коммунистическая этика!" Подробнее об этом интересующиеся могут прочесть всё в той же моей доку байке "Обыск и допросы" (). Там же вы сможете прочесть, как коммунистка до мозга костей Деменицкая отправила в 1950 году на десятилетку на лесоповал по 58-й статье, пункт 10, топографа-геодезиста НИИГА Николая Васильевича Ларичева. Воевавший в окопах Сталинграда, он на семинаре по изучению 4-й главы истории ВКП/б/ поправил докладчика, утверждавшего, что Иосиф Виссарионович руководил Сталинградской битвой непосредственно на месте (чуть ли не из окопов Сталинграда), а Ларичев сказал, что из Кремля. За принижение роли тов. Сталина в нашей победе Деменицкая написала на Ларичева «телегу» в партком. Делу дали ход. Слава Богу, в 1955 году он освободился ( ), хотя и потерял в лагере все зубы.
Я знал, что большинство сотрудников боялись и не любили её. (Были, конечно, и подхалимы-воспевалы у неё – помните про «маму Полярной экспедиции»?). Все, выезжающие на морские работы за границу, обязаны были везти ей из-за бугра дань в виде чайных сервизов, одежды, обуви, коньяков, джинсов, и другого дефицитного заграничного барахла. Все понимали, что иначе выезды в загранкомандировки будут зарублены навсегда. В 1979 новый директор НИИГА-ВНИИОкеангеология И.С. Грамберг уволил Р.М. Деменицкую из Института. Никто, кроме добряка Ткаченко, не мог терпеть рядом эту гремучую змею. (Талантливый геолог НИИГА Владимир Черепанов, как я уже говорил, окрестил её «Сучка-пташечка», заимствовав это прозвище из песни Александра Галича ). И она вынуждена была уйти из родного Института. Через три года она устроилась в Ленинградское отделение Института Океанологии. К концу жизни Раиса Михайловна почти ослепла. Умерла она всеми покинутая – сотрудники и близкие знакомые на любили её за коварство и злобность характера.
Р.М. Деменицкая. * * * Теперь, после всего сказанного, вам станет ясно, что привело к тому, что вся Полярная экспедиция весной 1969 года работала в восточной части Чукотского моря (уже без дрейфующей ледовой базы – эпоха дрейфующих баз, с которых я руководил работой экспедиции в течение четырёх лет – закончилась), а меня в должности начальника одинокого отряда направили на другой конец земного шара – в Карское море. О зловещей роли Деменицкой, стремившейся ради меня завалить эту работу с помощью тёмных волшебных сил, и пойдёт речь ниже. Часть третья Съёмка байдарацкой губы Проектом Полярной экспедиции в 1969 году предусматривалось завершить съёмку наших арктических морей – в восточной части Чукотского моря. Туда направлялась вся экспедиция – четыре лётно-съёмочных отряда, радиогеодезическая система «Поиск» (четыре радиостанции), камеральные группы, хозяйственная группа, авиаторы и их обеспечение, администрация, бухгалтерия, представитель Первого (секретного) отдела, и руководство экспедиции… А дополнением к проекту предусматривалось одновременно выполнить гравиметрическую съёмку одним самостоятельным отрядом на льду Байдарацкой Губы (залива) в юго-западной части Карского моря. Без радио-геодезии и хозяйственного обеспечения. “Наймёте там на месте рабочего 3-го разряда в качестве повара, наймёте самолёт или вертолёт – и вперёд с песнями!” – вдохновлял меня на подвиг начальник экспедиции Витязев. Я предполагаю, что с этим проектом подсуетилась Раиса Михайловна, чтобы добить меня окончательно: “Не справится Литинский с этой работой! Я всегда говорила, что он предельно слабый исполнитель и никудышный организатор!”. В состав этого отдельного отряда входили четыре человека: Начальник отряда – старший геофизик В.А. Литинский. Оператор - гравиметрист – Роман (ставший в Америке Рувимом) Саулович Хаимов. Астроном–геодезист Анатолий Сергеевич Калачёв. Камеральная обработка – инженер-геодезист Алексей Александрович Кураев. В Полярной экспедиции лётно-съёмочный отряд всегда состоял из 5 операторов, а не из трёх, как в нашем байдарочном случае, и камеральная группа, придаваемая отряду, состояла как минимум из 2-х человек. Примите во внимание, что координаты пунктов наблюдения нам предстояло определять астрономическими измерениями, как было раньше с отрядами, базировавшимися на всех наших дрейфующих ледовых базах, до которых радиогеодезическая система «Поиск», расставляемая у берега, не доставала. А астрономия требует 30 – 40 минут наблюдения в лучшем случае, если при перелёте между точками посадок удаётся заранее вычислить эфемериды звёзд или планет. Это нужно для того, чтобы астроном на точке смог навести трубу теодолита точно в то место, где в этот момент ожидается появление какого-нибудь Альдебарана или Венеры. И тогда эта маленькая беленькая точечка на ярко голубом фоне неба вплывёт в окуляр – и вуаля! Можно производить измерения! А если не успел вычислить эфемериды или второпях допустил ошибку – гуляй Вася-пилот, по буфету, время астрономического наблюдения может возрасти до часа-полутора, а то и более. А в Чукотском море координаты пунктов определялись с помощью радиогеодезической системы «Поиск» мгновенно. Ну, ладно. Где наше не пропадало! Моя отрядная троица состояла из давно знакомых мне людей. С Кураевым я был знаком с 1952 года, когда я, будучи ещё студентом-пятикурсником Горного института, на преддипломной практике работал в качестве инженера-геофизика в НИИГА в экспедиции Н-52, руководимой лауреатом Сталинской прении Н.Н. Самсоновым (см. многократно цитированную докуисту «Обыск и допросы. Самсонов. Якир. Буковский»). Тогда мы начали впервые делать авиадесантную гравиметрическую съёмку Предтаймырской низменности, а я потом писал совсекретный дипломный проект по этим материалам, по поводу какового Государственная Экзаменационная Комиссия (ГЭК) в протоколе No . 66 записала следующее: ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать, что студент Литинский В.А. выполнил и защитил дипломный проект с оценкой ОТЛИЧНО и выдать ему диплом с ОТЛИЧИЕМ. 2. Присвоить тов. Литинскому В.А. квалификацию горного инженера-геофизика 3. Отметить, что дипломный проект Литинского В.А. имеет производственное значение, ГЭК рекомендует его в аспирантуру. Алексей Александрович тогда впервые рассказал мне подробно, как Деменицкая отправила в 1950 году на десятилетку на лесоповал по 58-й статье, пункт 10, топографа-геодезиста НИИГА Николая Васильевича Ларичева, приятеля Кураева. С Романом Хаимовым мы вместе делали магнитную и гравиметрическую съёмку в 100 км к югу от Хатанги на Гулинском массиве в 1954 году (см. «Гулинская экспедиция», ). Ну, и потом он работал в Полярке. С Толей Калачёвым я тоже работал в Полярной экспедиции. Из Ленинграда наша отважная четвёртка вылетела 6 марта. По дороге залетели на тройку-пятёрку дней в Воркуту, где я на основе доверенности директора Института Б.В. Ткаченко заключил с Воркутинской отдельной авиа-эскадрильей (ВОАЭ) договор на аренду вертолёта. (В Чукотском море, как и во всех предыдущих морях, начальники съёмочных отрядов договоры на аренду авиасредств не заключали – для этого есть заместитель начальника экспедиции по лётной части).
Воркута, «Всесоюзная кочегарка», 1969 г.
Воркута. Справа – Толя Калачёв, слева – ваш покорный слуга, а в центре Светлана Костенко, как написано на обороте этой фотокарточки. Застрелите меня из поганого ружья – я не могу вспомнить, кто эта милая красавица! Внуки, если вы узнали бабушку Свету – сообщите мне! В маленький аэропорт Усть-Кара в одноименном ненецком посёлке на левом (западном) берегу Байдарацкой губы мы прилетели 11 марта и разместились в двухэтажной гостиничке аэропорта.
Карское море и его Байдарацкая Губа.
Карская Губа и посёлок Усть-Кара. Сведения об Усть-Каре заинтересованные могут почерпнуть здесь: (почти половина сведений даны со ссылкой на меня) и здесь: . Вот что там сказано о Карской Губе и об этом посёлке: Карская губа шириной от 2 до 6 км вдается в материк на 20 км и через неширокое горло соединяется с Байдарацкой губой Карского моря. Западный берег Карской губы песчаный, затопляемый на значительное расстояние во время сильных штормов. Восточный берег губы местами возвышенный и обрывистый, местами низменный и болотистый. В Карскую губу впадает ряд рек, из которых наиболее значительными являются Кара и Сибирга. <...> Самая дальняя северо-восточная точка на карте Ненецкого округа – поселок Усть – Кара, расположенный на берегу Карской губы. Из 70-80 домов в последние годы он разросся более чем на 100 домов с числом жителей около 1,5 тыс. человек. Возникла Кара как колонизационный поселок заключенных в далеком 1934 году. Тогда же там появилась база оседлости первенцев коллективизации – колхозов «Тет яха мал» и имени Смидовича. В 50 – 80-е годы XX века Усть-Кара жила хорошо. Процветал колхоз «Красный Октябрь» – «миллионер», имевший 13 000 голов только взрослых оленей, не считая молодняка. Ловили знаменитого карского омуля, хариуса, чира. Работал рыбный завод, также приносивший немалую прибыль. С председателями везло: были они, как на подбор, хозяйственные и работящие – Иван Попов, Дорофей Сметанин, Василий Тропников. На косе у моря воздушные суда принимал отличный аэродром, на который приземлялись самолеты до АН-10 включительно. Гостей привечали в двухэтажной гостинице – с диванами, зеркалами и коврами. [Это рассказ про старую Кару, в которую прилетели мы в 1969 году. – В.Л.]. С тех пор минуло двадцать лет и ныне Усть-Кара уже не та, по-другому здесь устроена жизнь. Сейчас здания аэропорта нет – в ожидании самолета жители Усть-Кары укрываются от непогоды в небольшом балке. Дорога от аэродрома идет через развалы многолетнего хлама – старые станки, машины, огромное количество пустых бочек. Остов старого самолета смотрится там инородным телом: гофрированная обшивка широких крыльев, мощные сплетения стрингеров и нервюр, темно-зеленая армейская окраска. Эти обломки хранят тайну – никто в поселке не знает, когда это и как туполевский «реликт» здесь оказался. Проходим мимо фундамента давно сгоревшей гостиницы – говорят, что в ней, было дело, ночевали знаменитые полярные летчики Водопьянов, Козлов и Фарих. Конец цитаты. Но вот ещё ( ): Шторма в Усть-Каре бывают страшные - место там ровное, голое. Три дня порывистый ветер силой до 20 - 25 метров в секунду рвет российский триколор на здании администрации и, кажется, вот-вот символ власти унесет в тундру. Летит с крыш шифер и толь, а море поседело от белых бурунов. Жить здесь человеку трудно, а их в Каре более шести сотен - тех, кто накрепко связал с ней свою судьбу. Стонут под ветром насквозь гнилые столбы электропередачи - списали их еще в 1990 году, а менять собираются только сейчас. Сама электростанция находится в старом дырявом здании, совершенно непригодном к использованию. Бродят по поселку неприкаянные мужики: работы в поселке не хватает. Отсутствие жизненных перспектив порождает страшный бич - пьянство. Уже давно, в 1997 году, колхоз «Красный Октябрь» передали под управление воркутинскому коммерсанту Георгию Пасынкову. С тех пор карские жители не видят свежего мяса, а дети в столовой давятся тушенкой и привозной курятиной. Лишь изредка частники подвозят по нескольку туш оленины, но за ними сразу выстраивается очередь. От прежних 13 тысяч основного поголовья оленей осталось, по сведениям родственников оленеводов, около 4 тысяч голов. О колхозе напоминает только база, на которой принимают рыбу. Мысли невеселые – ведь за мясо колхозу «Красный Октябрь» выплачивается, вероятно, ежегодно немалая дотация из окружного бюджета. Продуктами и промтоварами Усть-Кара снабжается из Воркуты. Население сетует на высокие цены, которые выше городских в два-три раза. Пекарня, как и многие здания в поселке, давно отслужила свой век. Женский коллектив хлебопеков исправно снабжает поселок, выдавая на старом оборудовании ежедневно 140 пышных и румяных буханок. Хлам и срам . Окраины поселка представляют собой сплошную свалку - обломки техники, старые катера, автокраны, машины, ржавые бочки. Рядом руины гаража, сгоревшего три года назад. Воинская часть, выведенная отсюда лет десять назад, оставила после себя огромное свайное поле, горы железобетонных плит, поломанное оборудование ПВО, крылья поверженных локаторов. В центре поселка расположено озерцо, из которого черпают воду все жители. Вокруг тоже горы мусора – банки, бутылки, пакеты и иные следы жизнедеятельности человека. Взяв пробу жидкости из водоема, получаем из ЦГСЭН следующий ответ: «Проба воды не соответствует требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по мутности, цветности, окисляемости». Немудрено, что в поселке бывают вспышки кишечных заболеваний и гепатита – от такой «водички» можно и козленочком стать. Года два назад, когда посреди зимы в Каре кончился уголь, и в поселок прибыли все тогдашние окружные начальники, было дано твердое обещание – построим, мол, водовод с фильтрами, а пока воду в поселок будет возить мощный «Урал». Где тот «Урал», жители поселка гадают до сих пор... Карские перспективы . Семь десятков лет назад люди поселились на берегу Карской губы. Три поколения выросли на этой суровой земле. Проблем в поселке много, но они решаются. Может быть, не так быстро, как нам хочется, но дело движется. Есть планы строительства новой школы-интерната и пекарни. Капитально ремонтируется клуб. Завезены в навигацию четыре комплекта жилых домов, а в следующем году планируется построить еще столько же. Успешно завершен завоз всего жизненно необходимого для поселка: дров, дизельного топлива, угля, машинного масла, опор линий электропередачи. Заработала, наконец, телефонная связь с окружным центром. Уходя на аэродром, обратил внимание на огромную цистерну недалеко от школы, которую украшала наивная надпись: «Мы любим тебя, Кара!». А если Кару кто-то любит, значит, она будет жить. Конец цитаты. * * * По прибытии, прежде всего мы познакомились, а дальше – подружились с отличным человеком – начальником аэропорта Сергеем Кузьмичом Сорокиным. Он по занимаемой должности был членом партии, но при этом оставался прекрасным и честным человеком. Как он из-за этого качества схлопотал партийный выговор с занесением (не без моей помощи) – расскажу ниже. По наводке Кузьмича я нанял в качестве рабочего 3-го разряда туземную школьницу Аню (фамилию не помню) – она была нашим шеф-поваром.
Апрель 1969 года. Лётная геофизическая группа и персонал эропорта Усть-Кара: слева – наша повариха Аня, второй слева – жизнерадостный автор, третий – нальник аэропорта Сергей Кузьмич Сорокин , четвёртый – Роман Хаимов, рядом радистка аэропорта Катя (?), А.А. Кураев , и ещё одна радистка Тамара. Снимал Толя Калачёв, поэтому в кадр он не попал. За нами – единственное двухэтажное здание в посёлке – аэропорт. Без нас, как было сказано выше, это здание сгорело. Стоило нам улететь – как тут же… А может – и через пару лет, не ручаюсь. Я пытался найти на интернете сведения о замечательно человеке, сыгравшем огромную роль в спасении нас от происков Деменицкой. И вот что я только нашёл на сайте «Полярная Почта Сегодня» (две цитаты): На сайте есть информация о награждении за выслугу лет (Указ ПрВС СССР №108 от 23.10.1944 г.) медалью «За боевые заслуги» лейтенанта Сорокина Сергея Кузьмича, 29.06.1908 г.р., в РККА с 26.06.1934 г., командира звена 2 АЭ 17 ИАП 7 ИАД ВВС ТОФ: . Но, не факт, что это про него. Вторая цитата:
В книге Штучкин Н. Н. «Над горящей землей». — М.: ДОСААФ, 1980, встретилось: Уволившись в запас, Сергей Сорокин работал в гражданской авиации, был штурманом отряда, летал до 1970 года на Ли-2, Ил-12, Ил-14... Опять же не факт, что о нем... Конец цитат. Через неделю к нам прибыл арендованный воркутинский вертолёт Ми-4. Фамилию пилота я не помню. Фотографии его у меня тоже нет. Ну, и ладушки. Не стоит он того, чтобы его имя осталось в героической эпопее гравиметрической съёмки арктических морей. 19 марта состоялся наш первый вылет на рекогносцировку ледовой обстановки Губы… Так таки да, что таки плохо наше дело – стало ясно в первый день! Такой говённой ледовой обстановки я не видел никогда за шесть лет работы на наших арктических морях и в приполюсной части СЛО! Ясно даже и ежу, что это были волшебные вражеские происки «сучки-пташечки» Р.М. Деменицкой, как утверждал наш НИИГАвский умница-геолог Володя Черепанов. Я, конечно, видел до этого зверски всторошенный лёд в Чукотском море, когда мы, девять человек, шли километра четыре от места посадки нашей «Аннушки» до разрушенной американской научной дрейфующей станции «Чарли», см. «Дрейфующая Америка» ( ). Вот там и был сплошной всторошенный лёд, но без разводий.
Чукотское море, 1966 год. Вот так мы и пёрлись 4 километра, чтобы: 1). Прежде всего, собрать данные, что это за америкосская станция такая. 2). С голодухи пожрать на заброшенной дрейфующей станции. 3). Ну, и выпить, конечно, если повезёт! Мерикосы-крохоборы, говорили в народе, всегда всё бросают, чего недоели и недопили, экономят на перевозках, в отличие от нас, широких русских натур, когда мы обязаны были всё подчистую вывозить с ледовых баз, чтобы пиндосы-америкосы по объедкам не догадались, что мы делали гравиметрическую съёмку на этих ледовых базах. Вот мы и выяснили, что эта была станция «Чарли», закусили и выпили, и благополучно вернулись на Родину. Евреев среди нас не было, никто не попросил политического убежища в Америке, у врагов не остался, слава тебе, Христе! (См. мою официальную статью «Обнаружение остатков американской дрейфующей станции “Чарли” в районе к северу от о. Врангеля», «Проблемы Арктики и Антарктики», вып. 29, изд. ААНИИ, Л., 1968). А здесь, в Губе, было чёрт те что! Ну, припайный (неподвижный, прикреплённый к берегу) лёд, ещё куда ни шло, жить можно припеваючи. Толщиной 160-180 см, он протягивался узкой полосой вдоль побережий полуостровов Югорский слева (на западе) и Ямал справа (на северо-востоке). Ширина этой припайной полосы на западе составляла всего 1-2 км на севере в районе Амдермы, до 5-6 км в районе Усть-Кары и до 10-12 км на юге в районе устья реки Байдараты. Ширина припайной полосы вдоль северо-восточного Югорского побережья была больше – до 15-25 км. Но учтите, что сеть наших точек измерений (посадок на лёд) была 20х20 км, как что на узкой полосе припая, где сядешь, там и слезешь. А вот дрейфующие льды з анимали основное пространство Байдарацкой Губы. Ширина площади, занятой дрейфующими льдами, составляла 60-70 км в средней части Губы, достигая 210-230 км на северной границе участка съёмки по линии Амдерма – Харасв е й. Торосистость дрейфующих льдов по 5-балльной шкале – значительная, до нескольких баллов. Да нам, вертолётцам, торосистость «по барабану». Вот вы, начитавшись моих полярных докубаек, где вся наша экзотика происходила на дрейфующих льдах, радостно воскликните: “Димуля, об што речь?! Ты же многократный дрейфун, как ты себя презентовал на приведённой выше фотокарточке с отважными девушками-дрейфуньями. А тем более на вертолёте! Вперёд и выше!” Да-а, ребята… Кабы так… Но вы вспомните про Деменицкую… С амое поганое , что смогла для нас сделать своим прокляти ем Р.М. – так таки да, что она эт о сделала! П лощадь разводий и трещин составля ла 20-30% от площади зоны дрейфующих льдов! Вот вы, ребята, прочтя эти два параграфа, подумали вслух: Ну, Литинский, гигант мысли и отец русской демократии – какая память! Все цифры помнит! Светлая головушка! А ещё в склеротики и альцгеймеристы записался!... Э-эх! ПризнАюсь, так и быть! Так ведь эти все данные из отчёта Полярной экспедиции за 1969 год для меня, убогого склеротика, моя любимая бывшая сотрудница Любочка Харитонова переписала, спасибо, Любочка! Я с ней на острове Котельном в 1976 году на дырявом вездеходе вкалывал, см. её интересный и смешной рассказ об этом «Письмо в прошлое », которое приведено здесь в самом последнем Приложении ( No . 8).
Любочка на острове Котельном, 1976 г. На правом снимке – наш вездеходчик-водитель Витя Фетисенков, Любочка, инженер-геофизик Серёжа Раевский и автор Вот! А вы говорите о моём гигантизме!
Вот примерно так выглядел лёд в центральной и северной частях Байдарацкой губы (хотя эта картинка не моя, она была снята в Баренцевом море с «Гринписом» ). Ну, ладно, вернёмся к нашим мутонам. Это значит, что плавают льдины и льдиночки среди рек Вавилонских… Ребята, а садиться-то как на них на вертолёте для про изводства гравиметрических измерений?! Неужели нам только и остаётся, что “ На реках вавилонских тамо седохом и плакахом, внегда помянута нам Сиона ”… Кто не врубился в старо-славянский, разъясняю, что дело наше совсем плохо: “ При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе… Дочь Вавилона, опустошительница! Б лажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!” ... ( Псалом 136) . [Насчёт дщери вавилонянки-опустошительницы Р.М. Деменицкой жидо-масонский царь Давид Исаич тогда всё точно подметил и в своём псалме правильно её отобразил!]. То есть об использовании самолётов Ан-2, как это было на всех наших восточных арктических морях, не могло быть и речи. Да и на вертолётке – как на эти вшивые льдинки сядешь? Ведь он же, вертолёт-то, тяжёлый, льдинка наклонится, и мы со своими гравиметрами в воду канем?! Во, блин, Деменицкая! Ну, сучка-пташечка, подсуропила! Вернулись мы в свою гостиничку после рекогносцировочного облёта акватории с убитым настроением. Но то, что Деменицкая окунула нас в говно по самые уши, это мы поняли только в следующие пару дней. Разводья и трещины-реки – это объективная реальность, данная нам в ощущении. А субъективный фактор – это наш пилот, имени которого, я, слава Богу, не запомнил. А то стыдно было бы перед его потомками поливать его грязью. Но, конечно, я не премину помянуть здесь Раису Михайловну, которая, зуб даю, своим проклятием подсуропила нам не только невозможную ледовую обстановку, но и этого авиатора, труса и неумеху. Конечно, и раньше нам попадали не все такие классные лётчики, как Эдик Каменский, спасший меня от утопления из трещины в Чукотском море в приснопамятном 1966 году (см. описание этого эпизода и светлую фотографию Эдика в вышеупомянутых «Будни дрейфующей ледовой базы» и «Дрейфующая Америка»), были и середнячки, но чтобы так… А этот безымянный трус категорически отказался летать над полыньями, разводьями и широкими трещинами, и садиться на дрейфующий лёд ! Мы все оказались “в глубокой заднице”, как пел мой друг Тимур Шаов (см. «Тимур Шаов, как зеркало русской эволюции» ).
Тимур и я («Король и я» - смотрели такой фильм?) после концерта в Денвере 24 ноября 2013 г. С большим трудом мы с этим горе-пилотом частично засняли кусок Губы, занятой припайным льдом. Но эта же площадь – с гулькин член по сравнению со всей Губой! Примите во внимание, что Деменицкая наколдовала нам в дополнение к убийственной ледовой обстановке также и предельно неблагоприятные метеорологические условия! А если облачность была, по крайней мере, хоть немного больше, чем 50 процентов (то есть чуть больше половины неба было покрыто облаками), то наш отважный сталинский сокол на законном основании, ссылаясь на «НПП ГА» – Наставление по полетам Гражданской авиации – отказывался вылетать в этот день вообще. «НПП ГА» таким запретом обеспечивало безопасность посадок летательного аппарата – если нет теней от торосов, то их не видно, и можно влепиться в торос. Как садился асс Эдик Каминский при нашем полёте на покинутую американскую станцию «Чарли» при сплошной 100-процентной густой тёмной облачности в районе сильно всторошенного льда, когда всё было серо, что визу, что вверху, и никакие торосы абсолютно не были видны – читайте в «Дрейфующей Америке». Приледнившись, мы с Эдиком прошли вперёд и обнаружили, что остановились мы тогда в 10 метрах от огромной высокой гряды торосов, которую мы увидели, только подойдя к ней вплотную. Эдька тогда мне сказал (у меня на морозе, без шапки, волосы стояли дыбом), что он их (торосы) печёнкой чувствует. Раз мы живы остались – значит, не врал. А этот сокол – и-эх! И это при том, что управлял-то он не самолётом, а вертолётом, когда спустись пониже – зависни на двух метрах – опусти ногу и лаптём пощупай, есть тут торос или нет! …О, Господи! Что только не делает злобная баба, когда после любви впадает в ненависть! К концу полевого сезона весной 1969 г . у нас сложилась чрезвычайно сложная обстановка из-за отказа командира вертолёта летать над разводьями и трещинами и не в солнечную погоду. То есть, средняя и северная части Губы оказалась недоступными для съёмки. А тут ещё эта облачность! О коло 80% проектной площади Байдарацкой губы оказалось незаснятой ! А конец полевого сезона – 1 мая! Витязев, подгоняемый ясновидящей Деменицкой, шлёт мне телеграммы, что в случае задержки в поле хоть на один день после 1 мая, все дополнительные расходы будут за мой счёт! Более того (как я полагал – по заданию Деменицкой) командование ВОАЭ (Воркутинской Отдельной Авиа-эскадрильи) из-за выхода из строя всех их вертолётов (во что делает злобная баба ради достижения своей цели!) отозвало в Воркуту и наш вертолёт для использования его в качестве санитарного. Таким образом, Деменицкая руками командира ВОАЭ разорва ла мой договор об аренде этого вертолёта! Во даёт Раиса Михайловна! Всё! Литинский добит! Можно было бы с грехом пополам и с позором на всю плешь наш неуспех свалить на законных основаниях на объективные факторы. Но Деменицкую-то не проведёшь! “У всех на Чукотском море всё в порядке, а Литинскому, как дурному танцору, всегда яйца летать мешает!” Я излил своё горе Сергею Кузьмичу – начальнику нашего аэропорта. Мы с ним частенько задушевно беседовали за жизнь, сидя на кроватях в нашем номере гостинички с кружкой чая. – Да, Вадим. В дерьме вы по уши. Не знаю, верить ли твоему объяснению, что это всё волшебные происки твоей злобной начальницы, или это просто такое ужасное стечение обстоятельств. Ну, что ж с тобой делать. Надо спасать друга. Иду ва-банк! Могу тебе предложить один вариант. Есть у меня на примете один хорошо знакомый пилот-вертолётчик. На Мысе Каменном он базируется, это КОАЭ – Каменная Отдельная Авиа Эскадрилья, нашего же Полярного управления. Но – хрен его знает, может, он сейчас на какой-то другой срочной работе занят, он обычно с геологами и буровиками работает. Тогда хрен тебе кто его отдаст. Буровики за него, как за спасительную соломинку держатся. Правда, он еврей, если не боишься. Но с другой стороны – у вас нет никакого другого выхода, вы пропали, конец сезона, а у вас восемьдесят процентов площади не заснято. Говно твоё дело, Вадим-царевич! – Кузьмич, едрёна вошь, выручай! Да хрен с ним, что он пейсатый и в чёрной шляпе с большими полями летает, у меня у самого жена еврейка, я сам на четвертину с ней ожидовел! Лишь бы был он человек хороший! Да хрен с ним, с человеком, каким бы говном он не был, лишь бы над разводьем с перепугу не обосрался! – А вот это я тебе гарантирую! Да он ещё к тому же и не пейсатый, хотя за чёрную шляпу я не отвечаю. Пиши его имя – зовут его Игорь, а фамилия его Шайдеров. Я завтра ожидаю борт на Каменный, я тебя на него посажу, прилетишь – вались в ножки командиру КОАЭ, распиши, что без вашей гравитационной съёмки наши подводные ракеты все не в ту степь полетят! И ему, командиру, за срыв твоей работы, которая по специальному постановлению Совета Министров, перед генеральным секретарём персонально отвечать придётся! Пугни его! Ну, конечно, бутылку для контакта прихвати с собой. Можешь на меня сослаться, что мол, Кузьмич посоветовал.
Наша комната в ту пору в ещё не сгоревшей гостинице. Толя Калачев читает какую-то весёлую хренотень, а я серьёзен – вставляю обойму в свой Браунинг. Завтра лечу в Мыс Каменный на встречу с командиром КОАЭ. Пан или пропал! Мне терять нечего! Назавтра на попутном самолёте я прибыл в аэропорт Мыс Каменный. Расположен он на западном берегу Обской Губы, напротив Тазовской Губы. ( ). Я с воплем ворвался в кабинет начальника этой особой авиа-эскадрильи (обычно свой пистолет, выдаваемый мне всегда для охраны госсекретов я никогда не носил, а тут демонстративно повесил кобуру на пояс), и сходу, пользуясь наставлением Кузьмича, стал катить помойную бочку на этого невинного начальника. Приложив палец к губам, а затем указав на потолок (правда, второпях не потребовав подписать бумагу о неразглашении), я раскрыл оторопевшему пожилому авиатору страшную тайну, что произойдёт, если мы не измерим на всех наших арктических морях, и прежде всего, в Байдарацкой губе, гравитационное поле. Без гравитационных поправок наши ядерные ракеты все полетят к едрёной матери не в ту степь. А Воркутинская ОАЭ сорвала это совершенно секретное Постановление Совета Министров СССР и задание, данное мне лично дорогим Никитой Сергеевичем. Суровая кара советского народа не замедлит обрушиться на Воркуту. До конца полевого сезона остались считанные дни, а у нас не заснято 80 процентов площади Байдарацкой Губы. Вся надежда только на Вашу героическую Особую Каменную авиа-эскадрилью и персонально на вашего пилота Игоря Шапирова. Умный начальник сразу же врубился, от кого я почерпнул эту информацию об иудейском ассе, фамилия которого оказалась не Шапиров, а вовсе даже Шайдеров. – Так говоришь, до конца вашего полевого сезона осталось две недели, – сказал, закуривая, командир КОАЭ. – Договор-то на аренду вертолёта Ми-4 мы с тобой сейчас сварганим, дело не хитрое. А вот с пилотом… Игорь сейчас возит буровые трубы в… для… (я, естественно, от волнения не запомнил, куда и для кого Шайдеров возил трубы). Эта работа тоже, кровь из носу, ответственная и срочная, но, конечно, из-за двух недель буровые трубы не в ту степь, как ваши подводные ракеты, не полетят. Ладно. Дам я тебе Шайдерова. Он тебе всё быстро сделает, не боись. Очень ты хорошо умеешь уговаривать. Что у тебя там, в кармане-то, топорщится, доставай. (Щелкнув тумблером громкой трансляции): Валечка, принеси нам копчёной рыбки, рюмки, ну, сама знаешь. (Мне, когда Валечка принесла всё необходимое): Хороший ты парень, видно, что болеешь за дело. Ну, поехали, будем здоровы. Кузьмичу самый тёплый привет, а отставному генсеку Никит-свет Сергеечу Хрущёву – с комприветом по плечу и за руку. Скажешь, когда будешь с ним выпивать, что не только ты, но и полярные лётчики за Родину, когда приспичит, тоже болеют! Будем здоровы!... Ну, давай по второй! Через два часа будет борт на Воркуту, я дам команду, чтобы они тебя в Кару по пути подбросили. (По трансляции): Валечка, подбери там все бумаги для договора на аренду Ми-4. Начни всё печатать, как обычно, а существенное и об оплате с Вадим Арпадычем потом вставите, он к тебе сейчас подойдёт. Да, Шайдерова. Хрущёв тут настаивает, куда ж денешься, хоть и отставной, но всё же генсек. Да и Брежнев поддерживает, так, Вадим Арпадыч? Жду, Валечка! (Накалывая вилкой кусок вкусной рыбы – мне): Ну, давай, поехали! Валя обещает отдать тебе на время Шайдерова! Несколько дней мы, нервно грызя ногти, ждали явления обещанного Спасителя. * * * А сейчас я, чтобы разрядить нервную обстановку, расскажу вам об Усть-Каре свои впечатления и покажу мои её тогдашние фотографии.
Усть-Кара, апрель 1969. Вид улицы.
Я и наша питательница Аня (фамилию, к сожалению, не помню). Разносолами не кормила, но сыты были. Спасибо тебе, Анечка, если увидишь эту мою докуисту! А если внуки увидят – то и им спасибо за милую бабушку!
Общественный транспорт. У меня у самого оленское водительское удостоверение есть, ещё в 1954 году получил в Гулинской экспедиции как лучший национальный каюр, почитайте про эту экспедицию! А в Биректинской экспедиции я ващще был лучшим оленьим всадником, мог бы в Эпсомских Дерби участвовать! Посмотрите, там много фотографий меня на оленях.
Северная Якутия, 50-е годы. Я веду караван оленей.
Снова Усть-Кара. А вот на индивидуальный собачий транспорт (стыдно признаться) я так права и не получил, хотя уже в 16 лет я стал инструктором служебного собаководства!
Усть-Карские ясли и их заведующая Люда. Простите, Людочка, фамилию Вашу запамятовал, Альцгеймер на носу!
Для подготовки национальных кадров будущих полярных исследователей я организовал экскурсию к нашему вертолёту.
Те же экскурсанты крупным планом, полны энтузиазма.
Вот они, будущие исследователи Арктики! Я прочитал им вводную лекцию о гравитационном поле и о его влиянии на траектории трансконтинентальных ракет с ядерными боеголовками.
Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что не все исследователи полны энтузиазма: “Вертолёт хорошо, звездолёт хорошо, а оленя – лучше!”… (А может – просто на морозе пИсать захотели, у меня у самого это теперь часто бывает). Я шучу. Я надеюсь, что все участники этой экскурсии найдут себя на этих фотографиях и пришлют мне свои теперешние фотографии, демонстрирующие, какими замечательными людьми они стали, и даже не обязательно исследователями Арктики!
Усть-Карская начальная школа…
...и Усть-Карские школьники. А вот кто с фотоаппаратом – училка или фотокорр – склероз, батеньки, дико извиняюсь!
Я взгрустнул – у меня в Ленинграде такой же двухлетний сынишка Женя остался…
Толя Калачев и я позируем рядом с Алексеем Александровичем Кураевым, нашим астро-геодезистом и по совместительству – отопителем. Откуда дровишки? Из аэропорта, вестимо!
Труипенсы – трудящиеся и пенсионеры (это моё персональное новое слово в лингвистике) около местного магазина. Главная статья дохода магазина – продажа питьевого спирта… Отвлекусь маненечко (пока наш Спаситель не прилетел) и расскажу вам, как начальник аэропорта Усть-Кара Сергей Кузьмич Сорокин, бравый военный, а потом и полярный лётчик, схлопотал партийный выговор с занесением из-за этого магазина, в получение им какового выговора и я руку приложил. Дело было так. Вдруг неожиданно туземцы (жители Усть-Кары) начали болеть. Один за другим. « Начало болезни внезапное и характеризуется ознобом, лихорадкой, упорной головной болью, болью в спине. Через несколько дней на коже, сначала в области живота, появляется пятнистая розовая сыпь. Сознание больного заторможено (вплоть до комы), больные дезориентированы во времени и пространстве, речь их тороплива и бессвязна. Температура постоянно повышена до 40°C и резко снижается примерно через две недели. Во время тяжелых эпидемий до половины заболевших могут погибнуть » . Ребята, это не я – Гигант русской мысли, хотя соответствующее удостоверение у меня есть:
Я – самый обыкновенный склеротик-маразматик и графоман, как характеризует меня моя бывшая ближайшая родственница. То, что сказано выше о тифе – это всё вездесущий интернет ( ). А верный диагноз поставила единственная медперсоналица в этом посёлке… Едрит меня в Мадрид – ну, если я склеротик, то он и есть альцгеймерист! Не только имени не помню, но и кем она была – юной докторицей или медсестрой, застрелите меня из поганого ружья! Красотка – даже сейчас снится! Ведь она же и меня спасла от падучей болезни! Придётся маненечко отвлечься, вы уж извините склерозного старичка. Дело было так: прилетели мы из редкостного съёмочного рейса в родной аэропорт (это ещё с первым трусоватым пилотом было), я выскочил из родного вертолёта… Какого, в задницу, родного?! Это из того, который летать над разводьями боялся! Но не в том дело. Выскочил, протягивая руки, чтобы Роман мне гравиметр подал… И ёкарный бабай! Страшная боль резанула мне спину и попу! Глаза на лоб! Я с копылов долой, на все четыре лапы! Народ повыскакивал: Арпадыч, что с тобой? Я весёлую рожу корчу – идите быстро в гостиницу, ужинайте и спать, а я вот ужо оклемаюсь и чуть попозже приду! Ну, народ недоверчиво настаивает, что они меня под белы руки сопроводят, а я неумолимого начальника из-под себя изображаю. Голодный народ побежал в гостиничку, а я легонько за ними… Мать-тиас Ракоши, не могу идти! Встал на четвереньки – вроде маненечко полегше. Однако, метров через сто понял – до гостиницы доползу, да, и что там? Всё равно надо к врачу! Видел я мельком эту красотку, ну, а сейчас, надеюсь, будет законный повод познакомиться поближе. Закусил я удила, чтобы позорно не стонать, и на четырёх карачках поковылял к посёлку. Долго ли, коротко ли (два километра) – дополз я до медпункта. Скребусь в дверь внизу, подняться не могу. Подробности радостной встречи я упускаю, а юная красотка мне, выслушав мои стоны, вдруг сразу же и говорит: “Снимайте штаны и ложитесь!” Я удивился, что вот так сразу, но тут же врубился, что до любовной сцены ещё рановато, и жуть как застеснялся! А она мне, нацеживая в шприц что-то из маленькой стекляшки: “Никаких через штаны, тем более ватные и грязные! Живо снимайте и попой вверх!” Поскуливая от боли, я подчинился. Ребята, боль прошла через пять минут! Но не от укола, а от радости! Что такая прелестница к моей попе прикоснулась! Подпрыгивая козликом после благодарностей и признаний в вечной любви, я поскакал в гостиничку – завтра же рано вылетать! Короче – в Усть-Каре разразился настоящий сыпной тиф! Кто из вас, склеротиков, помнит – во время гражданской войны в России от него погибло около трёх миллионов человек, в том числе и который «Десять дней, которые потрясли мир». Что, забыли, что ли?! Ну, вы даёте, вы же склеротики ещё хуже меня! Да Джек Лондон, тьфу ты, Джон, как его, Рид! Ну, Кузьмич, как неофициальный глава посёлка, юная докторица-медсестра (ну, пусть будет Ольга, Олечка), ну и я – вы же знаете, что я – сумочка с блохами, меня всё касается, тем более, что вертолёта у нас нет (Деменицкая, зараза), хрен с ним, пусть погибну от тифа, как Джек Рид, но пользу Родине принесу – кинулись мы на борьбу с вшивой эпидемией. Вот тут я и побывал в домах заболевших нанайцев-аборигенов… Матка Боска Ченстоховска! Дома снаружи хорошие, а в домах – какая нищета! Богатый оленевозный колхоз! Рыболовство! И вши! И всё от беспробудного пьянства! Ну, вы знаете – что наши чукци, что ихние пиндосские эскимосцы, что японцы и прочие чурки нерусские – у них какого-то там энзима, который алкоголь на навоз переводит, в крови недостаёт или даже вовсе отсутствует. (Я человек простой, ниверситетов не кончал, может – не то говорю – так вы уж простите ради Христа). Короче – склонные они к алкоголизму ещё больше, чем мы, исконно-посконно-сермяжные русские хрестьяне. Ну, и мы, трое инициаторов борьбы с эпидемией, решили, как в этом кинофильме «Какая-то рука и костяная нога», или что-то в этом роде: Пьянству – бой! Кузьмич решительно рванул дверь м a г A зина : “Продажу спирта запрещаю!” Докторица шлёт телеграммы в Обл-Край-здрав, или куда там, чтобы вакцину и помощь присылали, я тоже весь из себя озабоченный судьбой трудового ненецкого народа… И вдруг Кузьмич получает депешу из Обл-Нац-Край - (или как его там) кома партии – выговор с занесением! За злостное самоуправство и срыв финплана магАзина! Во, блин! Чего я был свидетель! А вы говорите – честь и совесть нашей эпохи! Какое нахрен – вовсе даже ООО ПГ КП/б/, если кто читал мою нетленку с таким названием! Ну, ладно. Давайте дальше, а то вы уже зеваете.
Строительство нового магазина. Очередей не будет, а спирта будет – залейся! * * * Ну, теперь немного о работе. Немного, потому что первые 3/4 полевого сезона мы не могли работать из-за говённого сталинского сокола, а в последней четверти было столько работы, что времени фотографировать совсем не было.
Вадим производит гравиметрические измерения на опорном пункте перед вылетом в рейс с первым пилотом (если таковой рейс состоится, дай-то Боже!).
Была у нас точка наблюдения на берегу – а неподалеку мы увидели ненецкий жертвенник (или могила по совместительству?). Рядом со мной поломанная нарта с каким-то ящиком. На столбе справа – черепушка олешка и труп птицы? Не помню, а сейчас и не разгляжу.
Надпись на обороте этих фотографий – «В гостях у Семёна Лаптандера». К сожалению, ничего не сказано, где это место. Ясно, что это близко от берега, но какого – левого (Усть-Карского) или правого (Моррасальского) берега Губы – науке сейчас уже точно не известно. Помню, что мы были внутри яранги, Семён угощал нас рыбой и жареной олениной (выпивки у нас с собой не было, мы же не рассчитывали на эту встречу). Теперь уже я набрал в Яндексе «Семён Лаптандер» и понял, что это очень распространённая ненецкая фамилия. Может быть, кто-то из потомков этого оленевода-охотника, посмотрев на эти фотокарточки, воскликнет: “Так ведь это же прадедушкина яранга! И вот он сам рядом с Вадимом стоит!” – и пришлёт мне подробное описание своего предка! * * * Небесный Спаситель волею Божьею явился народу (нам, четырём отчаявшимся НИИГАпникам и начальнику аэропорта Усть-Кара Сергею Кузьмичу) 17 апреля. Д о конца полевого сезона оставалось 13 дней и 80% незаснятой площади. На меня Игорь Сергеевич Шайдеров-Спаситель с самого первого взгляда, когда он молодо спрыгнул на галечную косу из двери своего Ми-4, произвёл самое благоприятное впечатление. Ни закрученных у висков длинных пейсов, ни широкополой чёрной шляпы, ни даже маленькой ермолки-кипы на нём не оказалось – молодой красивый парень! Когда мы обменивались с ним крепким рукопожатием, сердце моё колотилось, как у девушки на первом свидании с любимым, готов был в гомосеки идти! Трое членов его команды – второй пилот, бортмеханик и радист пошли обустраиваться в предназначенные им комнаты, а мы, четверо верных апостолов Спасителя и Кузьмич (я сбегал в нашу комнату за необходимыми картами) пошли знакомиться в столовую. После лёгкого знакомства, я развернул карту Байдарацкой губы и посвятил Спасителя в нашу тяжёлую задачу, подробно осветив гибельную ледовую обстановку, созданную специально для меня Р.М. Деменицкой. Игорь отнёсся весьма серьёзно к моему рассказу и полностью, по-видимому, поверил в причину наших предыдущих неудач. Вылет на завтра он назначил рано, поэтому мы без долгих разговоров отправились спать. Кузьмич за спиной Игоря показал мне кулак с поднятым большим пальцем. Я в ответ радостно улыбнулся и обнял Кузьмича, зная, что Боженька – Он не фраер, он правду видит! Разумеется, трудно было рассчитывать, что в течение всего этого короткого времени будет стоять лётная погода и что не произойдёт простоя ветолёта из-за неисправности матчасти, как это довольно часто случается. Весь экипаж (Игорь уже рассказал летунам о стоящей перед нами задаче), а тем более состав геофизического отряда отлично понимал, что для выполнения плана в этих условиях нужно приложить максимум усилий и добиться максимальной производительности труда. Дело осложнялось тем, что в экипаже нового вертолёта отсутствовал штурман. На лётной работе это совершенно не отразилось, т а к как командир вертолёта И.С. Шайдеров прекрасно справлялся с вождением вертолёта во всех заданных на карте направлениях, и выбирал точку посадки почти точно там, где она и была намечена мной на карте. Однако, мы оказались без помощника астронома, обязанности которого, по установившейся практике работ Полярной экспедиции, обычно выполняет штурман вертолёта или самолёта. Из других членов экипажа никто не обладает соответствующей подготовкой для выполнения этой квалифицированной работы. Сам Игорь нам помочь в астрономии не мог, но не потому, что ему грамматишки не хватало (её-то у него было в избытке), а потому что увидите дальше. В иных условиях можно было бы поставить на эту работу второго оператора-гравиметриста Р омана Хаимова (другим оператором-гравиметристом был я сам). Однако, при сложившихся обстоятельствах это было бы совершенно нецелесообразным . Я уже говорил, что большая часть площад и съёмки покрыта дрейфующим льдом, разбитым многочисленными терщинами и разводьями. В этих условиях наблюдать на гравиметрах очень тяжело из-за микроколебаний люда . Н а припайном – неподвижном – льду микроколебания либо почти отсутствуют, либо существенно слабее. На сплочённом дрейфующем льду, как это было в районе Северного полюса и в восточных арктических морях, наблюдения затруднены даже на «затушенных» (демпфированных) гравиметрах. А в наших условиях – смотришь в окуляр, а светлая чёрточка («стрелка») мечется по шкале, и только большой накопленный опыт позволяет оператору выбрать правильный осреднённый отсчёт, вследствие чего время наблюдения на одном приборе увеличивается более чем вдвое, по сравнению с наблюдениями на более сплочённом дрейфующем льду. Если бы я один наблюдал на четырёх приборах (а единственно в нашем отряде их было не три, как обычно, а четыре , для повышения точности и исключения возможных ошибок измерений), гравиметрические наблюдения на каждой точке продолжались бы на 10-15 минут дольше самых трудоёмких астрономических наблюдений, и производительность съёмки значительно снизилась бы. Учитывая, что в конце полевого сезона оставалась незаснятой ещё 80% площади, я не мог пойти ни на какое снижение производительности съёмки, чтобы не поставить план под угрозу срыва. Мне было ясно, что если план не будет выполнен, никакие самые объективные причины не будут приняты во внимание начальником отдела геофизики Р.М. Деменицкой, целью которой при оценке моей деятельности является доказательство того, что Литинский не может справиться не только с руководсвом экспедиции или морской партии на э/с «Вл. Обручев», но и с руководством небольшого лётного отряда. Чтобы не терять ни одного дня, я попросил старшего инженера-геодезиста Алексея Александровича Кураева, занимавшегося в нашем отряде камеральной обработкой астрономических наблюдений, полететь на съёмку в качестве помощника астронома. Он радостно согласился – за налёт часов и посадки полагалась хорошая доплата к зарплате, в размере 30% от оплаты первого пилота. Одновременно 18 апреля я от прав ил л телеграмм у начальнику экспедиции А.П. Витязеву, в которой сообщалось, что в экипаже вертолёта отсутствует штурман, и поэтому я пр осил разрешение на участие в полётах А.А. Кураева в качестве помощника оператора -астронома . [Обратите внимание на эту фразу. Она ещё будет играть зловещую роль]. И мы, взяв четыре гравиметра и теодолит, полетели в первый пробный вылет. Да, Боженька в очередной раз подтвердил мне, что Он не фраер! Игорь оказался пилотом от Бога! Естественно, его совершенно не смутило отсутствие солнца в этот первый вылет. Над разводьями он летал, не выражая малейших эмоций. Об том, чтобы обкакаться, не могло идти и речи, даже под моим пистолетом. На отдельные плавающие льдины порядочного размера он садился элементарно. Но тут приуныли мы с Романом. Наблюдать на гравиметре, когда в двадцати метрах от тебя, хоть и на малых оборотах, но крутится винт вертолёта, было абсолютно невозможно. «Стрелка» вибрировала и скакала по шкале, как лягушка на раскалённой сковородке! Ах, сучка-пташечка! И тут достала она нас! Я попросил Игоря высаживать нас на льдину, не касаясь льда. Кто-то первым соскакивал из зависшего вертолёта, мы аккуратно передавали ему приборы, и выскакивали сами. Затем Игорь отлетал метров на 200-300, и садился на другую подходящую льдину, или даже, если крупной безопасной для посадки льдины не было, то вертолёт зависал в воздухе вдалеке, пока мы, закончив наблюдения, не сгрудимся в кучу и, махая руками, не покажем Игорю, что он может вернуться за нами. От этой маленькой хитрости положение наше резко улучшилось. Мы поняли, что сможем закрыть всю площадь губы равномерной съёмкой. Так мы сможем высаживаться и делать наблюдения даже на сравнительно небольших льдинах. Но, как наиболее догадливые из вас через 15 минут тут же поняли – Игорь в качестве записатора-помощника астронома при такой методике посадок с отлётом на сторону помочь нам не мог при всём желании. Кровь с носу – нужен Кураев. И вот он с нами! Астрономия заработала! …Но Деменицкая чёрным коршуном парила над нами и здесь! Через пару дней нам стало ясно, что за оставшиеся до 1 мая дни нам всё равно съёмку не выполнить. Спаситель ничего уже сделать не сможет! Даже несмотря на помощь Кураева, из-за астрономии наша производительность была слишком низкая… Да… Всё… Сучка-пташечка нас всё-таки добила! Витязев, в угоду ей, ни в жисть не продлит нам пребывание в поле на несколько дней, хотя перерасход в нашей зарплате, если и случится, то для огромной экспедиции будет смехотворным. Обсуждая сложившуюся ситуацию, наша четвёрка благородно отказалась от любой оплаты за эти несколько дней, о чём я тут же телеграфировал начальнику. Но Деменицкая устами Витязева ответила категорическим НЕТ на наш запрос о продлении срока работ на 4-5 дней даже всякой без оплаты (“Литинский говнюк, и работать не умеет! Пусть Родина пострадает, и съёмка останется незавершённой, но по его вине! Police verso !” – телепатически услышал я издалека слова Раисы Михайловны)… Но я всегда повторяю и свято верю – “Боженька – Он не фраер! Он правду видит!” И помог Он нам, направив к нашим берегам – кого бы вы думали?! Ни в жисть не догадаетесь! Американский самолёт стратегической авиации – разведчик! Который и стал нашим последним Спасителем! Вот – святой истинный крест на пузе! Землю могу есть, если вы потребуете, как Гаврик предлагал в «Белеет парусе»! Вижу, что народ перестал клевать носом над моей докуистой, и слышу, что из зала уже кричат: “Давай подробности!”. Даю. Дело было так. Быстро закончив съёмку южной части Губы в самом начале полётов с Игорем Шендеровым, мы из Усть-Кары перебазировались в аэропорт Амдерма, на самом северо-западном краю нашего съёмочного участка, чтобы заснять самую трудную, самую разбитую в осколки льда северную его часть. А в Амдерме помещался Штаб противовоздушной обороны западного сектора Арктики. Естественно, я заявился к генерал-майору, командующему этой обороной. Предъявил ему свои секретные «креденшелс» (это слово ещё не вошло в обиход Великого и Могучего вместо затрапезного «полномочия»?), что мы тут летаем не ради рыбы или охоты, а сугубо для защиты нашей Родины от пиндосов-америкосов, потому как наши ядерные ракеты без нас полетят совсем не в ту степь. Ну, опять же про генсеков помянул для важности. Генерал проникся, мы с ним выпили из его запасов за знакомство, и расстались друзьями.
Роман, Вадим и Толя на крыльце гостинички в Амдерме. Потом иногда вечером встречались в кинозале, причём я по близорукости садился со своей командой на первые нижние пустые скамейки, а генерал, полковник и майоры садились на верхние задние скамейки, под окошечки кинопроекционных аппаратов, смотря на простую публику и на нас свысока. Но мы-то знали, что издалека маленький экран видно плохо, и наслаждались хорошей видимостью фильмов вблизи. На втором-третьем сеансе видим, что лейтенанты-сержанты, разгадав нашу хитрость, стали спускаться пониже от начальства, поближе к нам. А потом и генерал, и полковник, и майоры снизошли к нам с благородных вершин! Но не в этом была гениальная задумка Боженьки-Не-Фраера, как помочь нам в безнадёжной ситуации. На третий или четвёртый день работы, я вдруг вижу, что наш радист, сидящий в своём закутке, погруженный в свои наушники и рассыпающий дробь морзянки своим ключом вперемешку с кропаньем чего-то на листке бумаги, вдруг встаёт, подходит к кабине пилотов и протягивает свою куропись Игорю. Прочитав, Игорь оборачивается ко мне, манит меня рукой и, сняв наушники, перекрикивает рёв двигателя: “Американский разведчик подлетает к юго-западной части Карского моря, всем приказ – сесть в ближайшем аэропорту! Кончаем работу!” Вот, ребята, права была Деменицкая, обозвав меня в древности склеротиком, а Лена теперь постоянно – идиотом (реже полудурком и графоманом). Ну, что б мне тогда в полевом журнале или в дневнике записать, в какой из аэропортиков Байдарацкой губы мы прилетели! Знал бы я тогда, что на старости лет стану ВиРД – Великим и Русским Докубайкописцем (нет, теперь уже Докуистописцем), обязательно бы записал! А теперь – изо всех сил тужусь в туалете, чтобы вспомнить, и никаких намёков! Где это было – Моррасале, Харасавее или в Амдерме – поди, найди на интернете! Ведь тогда места расположений радиолокационных станций в Арктике были совершенно секретны, вопреки заявлению баронессы Анны Жермены де Сталь – “В России всё секрет, но ничего не тайна!” Короче, я же ведь сумочка с блохами (как меня аттестовала моя первая любимая жена Ира, покойница), поэтому, конечно, проник на эту РЛС – радиолокационную станцию. Всё-таки, скорее всего, это было в Амдерме. Всем прибрежным радиолокационным станциям нашим генералом был дан приказ сидеть и молчать в тряпочку, чтобы враг их не засёк. Разве что только пара-тройка главных станций, наверняка известных мериканам из космоса, продолжали испускать свои радиолучи, чтобы отслеживать перемещение пиндоса-америкоса, чтобы он, сука, за 25-мильную зону к нам на просторы Родины чудесной не залетел. Но я полагаю, что мерикосы и так по спутниковым данным про наши секреты всё знали. Вы, конечно, не читали мою докуисту «Дрейфующая Россия» ( ). И, разумеется, тут же не полезете её читать. Поэтому для вас, ленивых, приведу оттуда отрывочек, подтверждающий тезис баронессы Анечки де Сталь: Я не боюсь разгласить этой байкой наши гостайны. Во-первых, прошло уже много лет, это уже стало историей, и страна должна знать своих героев. А во-вторых – это секрет Полишинеля, с которым намерзнешься у пятого угла Пентагона, когда будешь пытаться продать эти тайны американам за бутылку “Абсолюта”. Для иллюстрации этого тезиса вот вам ещё одна мини-баечка: после окончания работы нашей экспедиции «Север-14» в 1962 году , её начальник, капитан первого ранга Леонид Иванович Сенчура, ставший впоследствии учёным секретарём Всесоюзного Географического общества, именем которого (Сенчуры) назван какой-то объект дна СЛО, приехал в Ленинград из Архангельска, где базировалась экспедиция, на доклад к начальнику ГУНиО вице-адмиралу Анатолию Ивановичу Россохо, именем которого тоже назван какой-то объект СЛО. Доложился хорошо, рассказал о проделанной экспедицией работе, продемонстрировал предварительные карты. А Анатолий Иванович подходит к стенке, отдёргивает шторку, за которой оказалась какая-то карта, подзывает к ней Леонида Ивановича, и спрашивает его: “Это ваши точки посадок самолётов на лёд для измерений? Все или нет?” – Сенчура сравнил со своей картой. – Вроде все. А как они к вам попали?! – Враг не дремлет! Они за вами со спутников следили, – ответил адмирал. – Так это что – вор у вора дубинку украл? – удивился каперранг. – Тс! Это гостайна! Возьми, откорректируй свои координаты. У них со спутников твои точки поточнее будут, чем по астрономии и по вашим «Рымам». Конец цитаты. Итак, проник я внутрь этой радиолокационной станции. В полутьме несколько солдат (может всего два? Не помню точно) сидели за столиками, на которых стояли большие коробки типа телевизоров с круглыми, сантиметров 25-30 в диаметре, экранами кинескопов. Слабо светящийся экран был рассечён зелёными многочисленными диаметрами и концентрическими кругами. Зелёная светлая точка, медленно перемещавшаяся между этими «меридианами» и «широтами» – это и был вражеский самолёт-разведчик, пытавшийся засечь радио-излучения от наших береговых радаров. Вот хрен тебе! Вот наша РЛС работает, но ты её, конечно, давно знаешь, а остальные-то выключены! Хотя из космоса огромные антенны РЛС прекрасно видны. Солдат-наблюдатель громко выкрикивал координаты вражеского самолёта, снятые с кинескопа, другому солдату, стоявшему около большого прозрачного пластикового щита, на котором были нанесены такие же меридианы и параллели, как и на экране кинескопа, только гораздо большего размера – если не вру, то метра полтора в диаметре. Там же были нанесены очертания берега. Этот солдат-чертёжник точками наносил по диктуемым ему оператором координатам на прозрачный щит положение самолёта, соединял эти точки, и мы видели маршрут вражеского самолёта. И тут меня осенило! Едрёнать! Какого хрена! За-а-е... стрелись! Так ведь и наши координаты радиолокационщики могут засекать и передавать их по радио на борт нашего вертолёта! Уи-и-и-и! Я нервно, как таракан, повергнутый на спину, засеменил ножками, сидя на стуле, мысленно приказывая врагу рвать когти отсюда, чтобы поскорее закончился этот сеанс, и я бы смог пасть в ноги моему любимому генералу, который вместе со всеми наблюдал за перемещением зелёненькой цели по экрану кинескопа и по пластиковому щиту! И вот, наконец, враг, не солоно хлебавши, улетел из нашего сектора, влючили свет, и я кинулся к генералу. Выслушав моё горячее объяснение, что мы горим с планом из-за долговременной астрономии, и наши ракеты точно полетят не в ту степь, если мы не выполним приказ Совета Министров СССР, генерал, к моей великой радости, сразу согласился поддержать моё рацпредложение. Соответствующая команда была тут же дана всем ближайшим к нашей родной Губе радиолокационным станциям передавать по радио нам на борт координаты вертолёта по нашему запросу! Мы тут же полетели заканчивать съёмочный маршрут... Едрёнать!! Радист принял координаты нашей первой точки! Я велел для контроля сделать астрономию... Мать твою за ногу! Нам дали три пеленга с трёх станций!! Все координаты близко совпадают, мать их дери! Вот хрен Вам, Раиса Михайловна, сосите грязный палец от злобы, а мы, кажется, выкрутимся! Выкрутились! Ещё как вывернулись! [А я ещё похвастаюсь вам – потом грамоту и премию 25 рублей от НТО Горное получил за рационализаторское предложение – «Определение координат точек посадок авиатранспортных средств на лёд с помощью радиолокаторов»]. Благодаря великолепным лётным и просто человеческим качествам И.С. Шайдерова, а также благодаря самоотверженной работе экипажа и лётного отряда, мы выполняли съёмку практически в любую погоду (плевать теперь на астрономию!) , летали и садились на льды там, где это было необходимо, несмотря на крайне тяжёлую ледовую обстановку – многочисленные полыньи, разводья и трещины. Поэтому за оставшийся краткий промежуток времени мы не только выполнили, но значительно перевыполнили ( 120%) план съёмки, как по количеству пунктов наблюдений, так и по площади. При этом, естественно, мы ни на копейку не вышли за пределы плановой сметы. Санкция на это перевыполнение плана была дана мне лично директором Б.В. Ткаченко , которого я специально запросил телеграммой, зная, что если бы я обратиться с такой просьбой к Витязеву, то он, по указанию Деменицкой, зарубил бы наш благородный порыв (“Насрать на Родину! Не дадим говнюку Литинскому выйти в передовики-ударники коммунистического труда!”) . При этом сеть съёмки была выдержана равномерно, выполнены необходимые детализационные наблюдения. Полевые материалы нашего отряда были приняты в Ленинграде с отличной оценкой. Ещё пара слов для восхваления нашего Спасителя. В моей лётной практике это был только второй иудей-вертолётчик. С Михаилом Трейвишем , пилотом первого вертолёта Ми-1 с бортовым номером Н-1, выделенного лично И.В. Сталиным для народного хозяйства в лице нашей НИИГАвской экспедиции Н-52 (см. многократно цитированную докуисту «Обыск и допросы…»), мне полетать в 1952 году не удалось, так как Трейвиш разбил свой МИ-1 через несколько дней после прилёта на базу экспедиции Усть-Тарея на реке Пясина в Предтаймырской низменности ( ). Кроме того, что Трейвиш был пилотом-испытателем, работавшим под крылом самого создателя вертолетов М.Л. Миля, я не успел узнать о нём практически ничего. Но Игорь Шайдеров , повторяю – это был пилот от Бога! Он летал и садился на лёд в таких условиях, в которых ни один другой пилот этого бы не сделал – можете мне поверить, у меня огромный налёт часов на самолётах и вертолётах с посадками на арктических льдах. И ещё. Всем, кто связан с арктической и любой другой малой авиацией, хорошо известно, что приписка заказчиком лётных часов авиаторам – в Советском Союзе было абсолютно нормальн ым и общепринятым явление м , для этого в проекты работ закладывались лишние лётные часы. Игорь сразу отказался (к моей великой радости – есть же на Руси ещё честные люди , хотя и евреи !) от того, чтобы я ему записал «липу» . “Мы и так своё заработаем”, сказал он, хотя другие члены экипажа и ворчали на него. Мне потом рассказывали, что его выперли из авиаотряда за эту его халтуру. Нефтяники, которым он в тундру на буровые вышки возил трубы, продукты и их самих , и отказывался от приписок, крутили пальцем у лба, но обожали Игоря за то, что он работал, как бешеный и ювелирно клал буровые трубы в точно назначенное место. А а виаторы его считали психом ненормальным, за то, что он не давал своему экипажу халтурно заработать официальную общепринятую липу и комрометировал своим отказом от приписок всю авиацию. Поэтому его и выперли позже из полярной авиации . И вот же дикая непруха – нет у меня светлооко лика Спасителя! Ну, свалить эту какасть на Деменицкую, конечно, можно, но, пожалуй, только косвенно. Это же из-за её происков мы вынуждены были вкалывать ежедневно без перерывов на обед и перекуры по 12-16 часов в день! Где уж тут до фото-сессий… И-эх! Есть у меня единственный снимок нашего вертолёта в хорошей обстановке, вот он:
Ну, поехали дальше. Склеротики (я имею в виду моих сверстников, остальные читатели могут не обижаться), напоминаю вам, что мы на следующий день после явления нам Спасителя, полетели на съёмку, и в тот же день, 18 апреля я от прав ил л телеграмм у начальнику экспедиции А.П. Витязеву, в которой сообщалось, что в экипаже вертолёта отсутствует штурман, и поэтому я пр осил разрешение на участие в полётах А.А. Кураева в качестве помощника оператора -астронома . В течение четырёх дней, пока мы вели съёмку из аэропорта Усть-Кара, я не получил никакого ответа на мой запрос от Витязева, поэтому А.А. Кураев продолжал участвовать в съёмке в качестве помощника оператора-астронома. Затем мы перебазировались в аэропорт Амдерму, на крайней северо-западной точке Губы, чтобы снимать самый обширный и самый трудный участок в устье Губы. Телеграмма Витязева с ответом на мой вопрос, отправленная им 22 апреля, была вручена мне только 27 апреля, при случайном залёте в Усь-Кару. В телеграмме А.П. Витязев указывал, что не он комплектует состав экипажей вертолётов ( это он язвил, имея в виду отсутствие в экипаже штурмана), и запрещал Кураеву летать. Таким образом, о запрете Витязева я узнал уже после того, как вся съёмка с участием А.А. Кураева была выполнена.
Карта Байдарацкой Губы ( ) Северо-западная граница съёмки обозначена красной линией Часть четвёртая За отличную работу – лишить Литинского премии! Итак, мы благополучно завершили съёмку Байдарацкой Губы, несмотря на все коварные волшебные происки «сучки-пташечки» Р.М. Деменицкой! Заснятая площадь составляла 38,000 кв. километров. Всего было выполнено 17 рейсов, произведено 130 посадок на лёд с наблюдениями на 107 координатных пунктах (12% повторных – контрольных наблюдений для оценки точности съёмки). Вычисленная по этим данным точность съёмки (среднеквадратическая ошибка) составила +/- 1.22 миллигала. Точность плановой привязки точек наблюдений нашего отряда – от +/- 200 метров по радиолокации до +/- 800 метров по астрономии. Вот некоторые технико-экономические показатели из отчёта Полярной экспедиции за 1969 год, характеризующие работу руководимого мною отряда по сравнению с другими четырьмя отрядами, работавшими в Чукотском : 1. Количество пунктов наблюдения, выполненных за полевой период отрядами: 1. Отряд Третьякова - 90 Съёмка Чукотского моря, полевой период 2.5 мес. 2. Отряд Гапоненко - 91 “ 3. Отряд Орлова - 97 “ 4. Отряд Ващилова - 104 “ 5. Отряд Литинского - 131 Съёмка Байдарацкой губы, полевой период 2.0 мес. 2. Средняя производительность съёмки на вертолётах отрядов на Чукотском море – 5.2 пунктов за 1 съёмочный вылет, нашего отряда – 7.7 пунктов за вылет. 3. Средняя затрата лётного времени вертолёта на производство одного пункта на Чукотском море – 1.3 часа, нашего отряда – вдвое меньше (0.6 часа). [Вот тут я в сумлении – может быть это не только результат лучших в мире лётных качеств нашего Спасителя, но и от того, что Он отказался от липовой приписки налёта часов?!]. 4. Точность гравиметрических измерений (+/- 1.22 миллигала) самая высокая в экспедиции . Таки что? Вы думаете, примерного пионера Диму Литинского на всеобщее обозрение в красный уголок поставили? Таки да, что таки нет! 8 сентября я был ознаком лен Витязевым с его рап о ртом на имя директора НИИГА Б.В. Ткаченко о лишении премии за полевой период некоторых сотрудников Полярной экспедиции “за нарушения трудовой дисциплины и производственные упущения”. В этом рапорте Витязев требует лишить премии и меня на 35% “ за превышение полномочий в руководстве лётным отрядом, выразившимся в необоснованном привлечении к полётам тов. Кураева без согласования, точнее, вопреки запрету руководства экспедиции”. Заготовлен также соответствующий приказ по институту о лишении премии, который будет представлен директору на подпись. Такой наглости со стороны коммунистов Деменицкой и Витязева я не мог вынести. В тот же день, 8 сентября, я написал рапорт директору НИИГА про эти безобразия. Рапорт сохранился у меня, из него я и взял приведённые выше цифры технико-экономических показателей. (Ну, вы-то, конечно, сразу было подумали о моём умственном гигантизме). Полностью рапорт приведён в Приложении № 3. В сжатом виде я написал в этом рапорте всё то, что вы прочли выше, и вот ещё какие доводы: “… Нами предложен и опробован новый, чрезвычайно экономичный способ плановой привязки пунктов наблюдений при авиадесантной съёмке путём пеленгования вертолёта с помощью береговых радиолокационных станций .
Почётная грамота за рацпредложение использовать радиолокационный метода определения координат места посадки летательного аппарата. Премия, помнится, была 25 рублей. У меня таких грамот от Научно-Технического Общества Горное целая пачка, но во всех описано за какое открытие или статью я получил каждую грамоту. А эта грамота – безымянная, потому как радиолокация в Арктике – совершенно секретна! Вот! А вы говорите, что старушка баронесса Аннушка де Сталь, утверждавшая, что “В России – всё секрет, но ничего не тайна” – во многом ошибалась! Неправда ваша! Продолжаю цитировать самого себя, любимого, из рапорта директору: Каковы же отрицательные последствия участия в полётах А.А. Кураева? В своих резолюциях на мой первый рапорт на Ваше имя с просьбой оплатить полёты А.А. Кураева, начальник сектора отдела геофизики тов. А.М. Карасик и А.П. Витязев пишут, что Литинский, привлекая к полётам А.А. Кураева, вызвал перерасход фонда заработной платы и сорвал камеральную обработку (в поле) астрономических материалов. Действительно, из-за того, что всю съёмку мы выполнили в течение последних десяти дней, работая по 12-16 часов в сутки, у нас не оставалось времени на обработку материалов (только бы поскорее поесть и лечь спать). Учитывая строгий запрет Витязева задерживаться в поле, мы не могли, как это обычно делается, обработать свои материалы на месте полевых работ. Даже если бы А.А. Кураев не принимал участие в полётах, а занимался камеральной обработкой, он не успел бы обработать и половины всех точек за те дни, в которые мы выполнили всю съёмку. Однако то, что мы приехали в Ленинград с необработанными материалами, никаких последствий не имело – мы обработали все материалы и построили карту до предоставления материалов комиссии, так что по нашей вине никакой задержки не произошло. А.П. Витязев на общем собрании экспедиции, посвящённом подведению итогов полевых работ, заявил, что из-за проступка Литинского, допустившего к полётам не предусмотренного сметой Кураева, произошёл перерасход фонда заработной платы, в результате чего премия всем участникам экспедиции находится под угрозой. Это совершенно не соответствует истине. Фонд зарплаты экспедиции остался далеко не исчерпанным, несмотря на доплату 201 руб. за налёт часов и точки А.А. Кураеву, но также и несмотря на непредусмотренную сметой доплату за налёт часов самому А.П. Витязеву, сумма которой (427 руб.) не на много меньше суммы доплаты Кураеву и Литинскому, вместе взятым. Я уже не говорю о том ,что Кураев участвовал в производстве наблюдений, а А.П. Витязев, как не специалист [начальник экспедиции в области геофизики был полный дундук. – В.Л.], не участвовал, хотя все эти доплаты предусмотрены именно за производство наблюдений. [Я всегда к умным членам коммунистической партии относился с лёгким презрением, даже если это были хорошие люди, как к карьеристам и лицемерам. Исключение я делал только для некоторых боевых офицеров – для многих из них вступление в партию во время войны было обязаловкой. И для наивных прекраснодушных идеалистов, свято верящих в светлое будущее всего человечества – коммунизм. Но таких ненормальных на весь Советский Союз в наше время оставалось не расстрелянными, я полагаю, не более сотни дюжин. Вступил в говно – а отмыться от него практически невозможно. Так что Витязева я рассматривал не только как лицемера, но и как жулика, приписавшего себе незаработанные 427 рублей. Моя и Кураева вместе доплата за налёт часов была лишь немного больше Витязевской. Конечно, такую сумму он не смог бы заработать при всём желании, даже летая пассажиром «наблюдателем» – надо же начальнику экспедиции хотя бы в последний, завершающий сезон всех авиадесантных съёмок увидеть, чего там делают на льду эти геофизики! Конечно, такая сумма была связана с двойной-тройной припиской числа лётных часов, если он действительно летал (в чём я глубоко сомневаюсь, это же очень утомиельная процедура – “то взлёт, то посадка”, как пел я однажды в Москве дуэтом с Юрой Визбором), а не просто жульнически приписал себе эти деньги. При мне, когда я был главным инженером экспедиции, он бы никогда не решился на такое откровенное хамство. Но Гапоненко-то был тоже коммунистом! А коммунист коммунисту глаз не выклюет! Так, ребята, а теперь давайте на минутку отвлечёмся и посмотрим, много или мало украл у экспедиции коммунист-жулик А.П. Витязев. Даже для моих сверстников – старых пердунов-склеротиков-альцгеймеристов – цифра 427 рублей теперь уже мало что говорит. Хотя все мы отлично помним, что пол-литровая бутылка водки (всеобщий экономический эквивалент в Советском Союзе) стоила в те годы 2 рэ и 87 коп, а зарплата рядового инженера составляла 100-110 рублей. Но вы же знаете, что я не какой-нибудь там докубайкописец, а настоящий докуистописец! У меня все мои заявления-высказывания подтверждаются документами. Ну, не все, но многие. Ну, а уж фотографий – вагон и маленькая дрезина. Так вот. Посмотрите здесь Справку о моей зарплате по месяцам за 1963-1970 годы, которая (зарплата) была использована для начисления моей пенсии. Посмотрите сначала на октябрьские-ноябрьские зарплаты – это наиболее «спокойные» месяцы, когда я был в Ленинграде, занимаясь обработкой собранных полевых материалов, а не на полевых работах или в командировках, когда зарплата становится более высокой (при работе на льдинах – с коэффициентом 2).
Значит, смотрите: моя зарплата главного инженера Полярной экспедиции с 1963 года, когда эта экспедиция была создана, составляла в Ленинграде 190 рублей. Когда меня Деменицкая в феврале 1967 года понизила в звании до главного геофизика, зарплата оставалась прежней вплоть до марта 1969 года, когда Деменицкая снова понизила меня до старшего геофизика (170 руб.). А в июле 1970 года она выперла меня из родной Полярной экспедиции совсем, и моя зарплата в должности старшего инженера-геофизика отдела геологии нефти и газа сохранилась на тех же 170 рублях. А теперь давайте смотреть только на полевой период 1969 года, чтобы сопоставить мой заработок геофизика, выполняющего съёмочные полёты на вертолёте, и «летучего голландца» – начальника экспедиции, капитана первого ранга, не умеющего наблюдать на геофизических приборах. Примите во внимание также его живот – надо же было наблюдать на гравиметре, сидя на корточках или стоя на коленях, у него бы не получилось. Возьмём только апрель месяц – как вы помните, за 12 дней этого месяца мы с помощью нашего Спасителя пилота вертолёта Игоря Шайдерова выполнили 80% двухмесячного плана полевых работ. Всего в этом месяце мне начислили 570 рублей, из них 190 р. – основная зарплата и столько же – за «ледовый районный коэффициент». Чтобы сосчитать, сколько же я заработал за налёт часов и посадки в этом месяце, вычтем 190 р. х 2 = 380 р. из 570 рублей, и получим надбавку за налёт часов и посадки в апреле – 190 рублей. Ну, добавим ещё 20% от этой суммы (38 р.) – в конце марта и начале апреля мы же сделали со сталинским соколом 20% работ. Итого расчёт показывает, что всего за налёт часов я заработал 228 рублей. Но я-то вкалывал, как папа Карла, или того хуже – как В.В. Путин, то есть, как раб на галерах, а жулик-коммунист Витязев приписал себе 427 рублей чистой липы ни за что! – В.Л.]. Продолжу цитирование выдержек из моего рапорта директору НИИГА: Доказательством того, что несмотря на эти доплаты, имелась значительная экономия фонда зарплаты, служит настоящее премирование сотрудников экспедиции за полевой период. <…> Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что формулировка в рапорте А.П. Витязева моего «проступка» – “превышение плномочий, выразившееся в необоснованном привлечении к полётам А.А. Кураева без согласования, а вернее, вопреки запрету руководства экспедиции” – не соответствует действительности. Обоснование привлечения А.А. Кураева к полётам достаточно подробно приведено выше. Послав запрос о разрешении летать Кураеву, я тем самым предпринял всё возможное для согласования этого вопроса. О запрете летать Кураеву я не знал, т.к. соответствующую телеграмму Витязева я получил уже после выполнения съёмки, что подтверждается почтовым штемпелем на телеграмме и свидетельством трёх сотрудников нашего отряда. Ни к каим неприятным последствиям участие Кураева в съёмке не привело. Казалось бы, что выполнение плана в столь тяжёлых условиях, более того, его значительное перевыполнение, проявление инициативы и оперативности (перезаключение договора на аренду вертолёта с другой организацией , [а также впервые (в мире? Или только впервые в Союзе? Посмотрите у Гиннеса) радиопеленгование съёмочного вертолёта для определения координат пунктов наблюдений. – В.Л.] ), самые высокие технико-экономические показатели во всей экспедиции, самая высокая точность съёмки должны были вызвать высокую оценку работы нашего отряда со стороны руководства экспедиции, отдела геофизики и администрации Института. Вместо этого, за «превышение полномочий» мне поставили на вид. Более того, за этот же «проступок», не имевший никаких неприятных последствий, а наоборот, способствующий перевыполнению плана, начальник экспедиции под давлением начальника отдела геофизики требует снять с меня 35% премии за полевой период, наряду с сотрудниками экспедиции, обвиняемыми в пьянстве и дебошах (причём размер удержания с их премии составляет 10-15%). Таким образом, размер удержания с премии за выполнение плана на 120% при отличном качестве съёмки и наилучших в экспедиции технико-экономических показателях оказывается в два-три раза большим, чем за пьянство и дебоши. Всё это я не могу расценивать иначе, как продолжение травли меня со стороны начальника отдела геофизики Р.М. Деменицкой, травли, имеющей корни, весьма далёкие от моей научной и производственной деятельности. Прошу Вас учесть всё изложенное при рассмотрении рапорта А.П. Витязева. /подпись/ В. Литинский 8 сентября 1969 г.” Конец цитаты из моего рапорта. Директор НИИГА Б.В. Ткаченко исключил мою фамилию из приказа о снижении премии провинившимся сотрудникам экспедиции. * * * Я, ребята, с раннего детства (мамочкино воспитание) атеист и материалист. Только не называйте меня марксистом-ленинцем. Учение Карла Маркса о построении коммунизма даже не в отдельно взятой стране, а во всём мире – бред беременной лягушки, потому как трудиться задарма большинство людей, а тем более негры, арабы и прочие чурки нерусские, никогда не будут. Вот евреи – те могли бы построить коммунизм в пику всем другим народам, только для того, чтобы поддержать своего единокровца Карлхена и доказать всем остальным народам, что те – слабаки, а они, евреи – впереди планеты всей, и до коммунизма у всех других народов кишка тонка. Тем более, что израильские кибуцы – самые настоящие коммунизмы в миниатюре, там у них действительно осуществлено «каждому по потребности» (то есть – жри «от пуза» и набирай себе на складе шмотья и прочего барахла, сколько сможешь утащить), «от каждого по способности» (т.е. вкалывай до потери пульса). Да, вот, кстати, и русские могли бы в своё время построить коммунизм – полтора или даже два поколения россиян беззаветно работали без зарплаты и почти без еды в ГУЛАГах и колхозах! Никита Сергеевич обещал же построить коммунизм в 1980 году! Так вот не дали ему! Скинули! А сейчас время уже упущено, те тренированные в гулагах и колхозах поколения вымерли по причине преклонного возраста и беспробудного пьянства! Михаил Великий ОРРК (смотри это определение на Гугле) познакомил россиян с капитализмом, теперь их в коммунизм и пол-литрой не заманишь! А Ленин – тот ващще был самым настоящим сумасшедшим палачом, при вскрытии его черепа было обнаружено, что его мозг наполовину протух (см. «Был ли Ленин пидерасом ? Но железно – палачом!» ). И хотя я атеист и материалист, но я свято верю и часто повторяю, что Боженька – он не фраер, он правду видит. Поэтому, заканчивая эту докуисту, я с верой и надеждой на чудо набрал в Гугле слова «игорь шайдеров вертолёт», и вот что я получил: Игорь Шайдеров – капитан в отставке. В 2005 году он продал дом некому Юрию Юрченко. По словам капитана, вместе с домом покупатель прихватил все его имущество. В редакцию “НК” Игорь Сергеевич пришел после того, как ему не помогли ни в милиции, ни в прокуратуре... – После выхода на пенсию я решил заняться хозяйством, – вспоминает Шайдеров. - Представьте, пьянящий запах свежескошенной травы. На цветах - капли утренней росы. Солнце еще не жалит горячими лучами. Тишина. Только из глубины сада доносится гул. Это пчелы кружат над белоснежным куполом цветущей вишни. Тропинка от дома ведет к озеру. А дальше – лес. Красота!
- Да вы художник! – заметила я. – Живописные картинки так и встают перед глазами. - На самом деле, я летчик. 10 лет отслужил в ВВС Балтийского флота – летал на истребителях. Потом 20 лет “отпахал” в полярной авиации на вертолетах Ми-8. [ Выделено мной. Правда, с нами он летал на Ми-4. На Ми-8, значит, пересел позже. – В.Л.]. После увольнения вернулся в Калининград. Здесь у меня семья – жена, дочь, внуки. В 1989 году купил старый немецкий дом с участком в поселке Абелино Озерского района, в 100 км от Калининграда. Строение каменное, добротное. Три комнаты, наверху – чердак. Во дворе дровяной сарай, гараж, баня. В поселке всего 7 домов. Мой – на самой окраине. Заниматься здесь хозяйством – одно удовольствие. Простор! То в лес за грибами, то в сад, то к пчелам – все время при деле! Я четыре сотки земли засадил малиной. Держал полтора десятка кур, вырастил трех поросят… Но самое главное богатство – моя пасека. 40 ульев, 30 пчелиных семей. Каждый год снимал урожай до 300 кг меда. 16 лет ездил на свою “фазенду”! А что делать здесь, в городе? Скучно! Однако моя семья, жена и дочь, выбирались в Абелино очень редко. Не разделяли моей страсти к загородной жизни. Да и возраст… Мне уже 74 года. В конце концов, меня уговорили дом продать. Конец цитаты. Всю историю, откуда взята эта цитата, желающие могут прочесть здесь: ( ). Вряд ли кто-нибудь из калининградцев когда-нибудь будет читать мои докубайки (докуисты, как я предпочитаю их называть теперь). Но если Боженька не фраер, во что я истово верю, то, вдруг мне и тут повезёт, и кто-то из людей, знающих Игоря Сергеевича Шайдерова, наткнётся на эти строки. Товарищ, будь ласка, разыщи Игоря, пошли ему эту докуист с огромной благодарностью за наше спасения на водах Байдарацких и посрамление дщери Вавилона, опустошительниц ы ! Б лажен ты , Игорь, ч то возда л ей за то, что она нагадила нам! * * * Да, ребята, кто дотерпел меня до этого места – честь вам и хвала, труженики села! Нет, пера. Ну, я имею в виду – труженики компьютера. Но прежде, чем перейти к Эпилогу, наиболее стойким из вас я предлагаю прочесть ещё немного – узнать, за что мы, арктические геологи и геофизики, бодались с голой задницей (как я, например, после того, как провалился в Чукотское море) на льдах советских морей Северного Ледовитого океана пол-века тому назад. Сначала приведу вам пару свежих цифр из кинофильма «Русская Арктика», который 4 августа вышел на экран канала «Россия 24»: Доля Арктики в запасах углеводородов в мире,% Нефть – 13 Газ - 30 Национальные секторы Арктики (площадь акватории и территории), %: Россия 44 Канада 21 Дания (Гренландия) 14 Норвегия 13 США 8 Доля запасов углеводородов на континентальном шельфе в национальных секторах, %: Россия 52 США 20 Норвегия 12 Дания (Гренландия) 11 Канада 5 У нас, у россиян, не хило, да? Выходит, что не зря мы, Полярники, бодались на наших шельфовых морях, да?! Спасибо Всеволоду Владимировичу Федынскому, что нашей экспедиции он отстегнул шельф, а глупым военно-морским гидрографам отдал бесполезный (пока) глубоководный СЛО! Ну, а сейчас ещё маненечко напрягите свои извилины и почитайте, что делает сейчас Россия, чтобы не прокакать то, за что мы бодались: Русский бросок на север () Министр обороны Сергей Шойгу на днях побывал в Заполярье, чтобы лично проинспектировать ход строительства здесь инфраструктуры для базирования новых российских атомных подводных ракетоносцев проектов «Борей» и «Ясень», и нового жилого городка для военнослужащих Северного флота. За неделю до этого российские десантники впервые в мире массово высадились на дрейфующие льды в Северном Ледовитом океане в 100 км от Северного полюса – в районе российской арктической станции «Барнео». В этот раз бойцы ВДВ проводили учебную эвакуационно-спасательную операцию по поиску, обнаружению и спасению условно пострадавших полярников и членов экипажей воздушных судов, условно потерпевших крушение при совершении кроссполярного перелета. Но месяцем раньше российские десантники массово отрабатывали в Арктике уже вполне боевую задачу. Парашютно-десантный батальон Ивановской 98-й воздушно-десантной дивизии численностью 350 человек с четырьмя единицами военной техники и несколькими тоннами груза в одну из мартовских ночей «захватил» арктический аэродром «Темп», расположенный на Новосибирских островах. При этом десантники работали в абсолютно экстремальных условиях. Например, допустимая скорость ветра при десантировании с самолетов составляет 10 метров в секунду у земли и 12 — на высоте. Российский же арктический десант с помощью новых управляемых парашютных систем спецназначения «Арбалет-2» высаживался в районе аэродрома при скорости ветра, который порой достигал более 15 метров в секунду. После приземления десантники быстро «захватили» аэродром при противодействии условного противника, передвигающегося мобильными группами на снегоходах и парапланах, и, менее чем через час, уже были готовы принять на «Темпе» самолеты военно-транспортной авиации ВВС с основными силами десанта, тяжелой техникой и вооружением. «Вы можете гордиться нашими десантниками, которые в любых условиях решают поставленные задачи. При таких плохих погодных условиях никто в мире, кроме нас, с парашютом не прыгает. Здесь мы, к счастью, сохраняем лидирующие позиции в мире» - заявил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. ФСБ, в свою очередь, воссоздает на побережье Северного Ледовитого океана сеть пограничных застав, каждая из которых будет держать под контролем территорию протяженностью до 300 км. .«В приоритетном порядке нужно продолжить развитие пограничной инфраструктуры в арктическом регионе, а также на южном стратегическом направлении», - заявил президент России Владимир Путин , выступая на недавнем заседании коллегии ФСБ России. ФГУП «Центральное проектное управление» при Спецстрое России, объявляя о принятии заявок на конкурс по реконструкции аэродрома «Тикси», указало на то, что после реконструкции эта арктическая военная база должна быть способна принимать стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также тяжелые самолеты-заправщики Ил-78. Все эти события говорят о том, что Россия интенсивно укрепляет свою обороноспособность на том рубеже, который еще совсем недавно был интересен лишь ученым и рыбакам. Недаром 2014 год в российском военном ведомстве неофициально называется «Годом Арктики». 16 минут до Москвы Пилоты стратегической авиации США освоили маршруты полетов к территории нашей страны через Северный полюс еще в 50-е годы прошлого века. Здесь и далее выделено мной. Вот такой самолёт стратегической авиации США и оказалса нашим вторым Спасителем, когда я увидел его на радаре РЛС– радиолокационной станции в Амдерме. – В.Л.]. Этим же маршрутом были готовы лететь к советским промышленным узлам и крупным населенным пунктам и межконтинентальные баллистические ракеты США наземного базирования. Поэтому в советской части Арктики в 60-70-е годы прошлого века был развернут мощный противовоздушный «зонтик» из подразделений радиотехнических войск, зенитных ракетных войск, истребительной авиации, сил военно-морского флота.> На островах Земля Франца-Иосифа, остров Новая Земля, острова Северная Земля, Новосибирские острова, остров Врангеля, базировались средства дальнего обнаружения ракет и самолетов. На побережье Северного Ледовитого океана (Нарьян-Мар, Амдерма, Надым, Алыкель, Тикси, мыс Шмидта, Угольные Копи) располагались аэродромы для истребителей и стратегических бомбардировщиков. Под многолетними полярными льдами несли боевое дежурство стратегические ядерные подводные лодки, надводный флот надежно охранял побережье с моря. Высоко в небе висели самолеты дальней радиолокационной разведки и целеуказания. Пограничники вылавливали браконьеров, радиобуи зарубежного происхождения, шпионящие за тем, что происходит на русском Севере, и помогали в поддержании общественного порядка на тех территориях, где располагались их подразделения. Даже гражданские полярники, изучающие Северный Ледовитый океан со станций, расположенных на дрейфующих льдинах, тоже, по сути, выполняли боевую задачу – их данные, в первую очередь использовались военными климатологами, гидрографами и специалистами по строительству ледовых аэродромов. Однако, в 90-е годы прошлого века эта система обороны северных рубежей была напрочь разрушена, военные ушли с заполярных баз, оставив там, зачастую, без присмотра военную технику, а Северный флот съёжился вокруг Мурманска. - «До самого последнего времени от Мурманска до Петропавловска-Камчатского не было практически ни одной боевой единицы. Радиолокационное поле, истребительное авиационное и зенитное ракетное прикрытие прекратили свое существование. Наши арктические земли остались даже без намека на охрану и оборону» - оценивает эту ситуацию главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» Михаил Ходаренок. При этом военно-техническая мысль нашего вероятного противника продолжала совершенствоваться. Например, время полета до Москвы баллистической ракеты, запущенной с подводной лодки из акватории Баренцева моря, сейчас составляет всего 16-17 минут. Арктика является и наиболее удобным плацдармом для нанесения массового неядерного удара – с помощью большого количества крылатых ракет Tomahawk, некоторые версии которых позволяют обстреливать с кораблей территорию противника на глубину более 1,5 тыс км. И игнорировать этот факт далее уже невозможно. Мой комментарий: Вот, ребята, видели – Россия, ведомая нашей родной коммунистической партией к светлому будущему – победе коммунизма во всём мире, с начала 90-х годов, выполняя наказ пиндосов-америкосов, жидо-масонов и мировой закулисы, рухнула на колени, наплевав на будущее, для того, чтобы строить капитализм в светлом настоящем. При этом, вишь, наши хитрые евреи валом повалили в олигархи, наплевав на физику-математику и светящие им нобелевки (“Чего там за мульён бодаться, когда при капитализме миллиарды светят”). А у кого с мозгами не густо, те надели на себя малиновые пиджаки (златая цепь на дубе том), калаши в руки – и в братки! И пошли в рейдеры – по указке олигархов захватывать частную собственность не где нибудь на стороне, а промежду тут. А в Арктике на холоду никому бодаться неохота – энтузиастов среди новых русских не оказалось, все аэропорты, авиабазы и радиолокационные станции побросали – нехай белые медведи пользуются. А что же пиндосы-америкосы, жидо-масоны (мировая закулиса тож) – они-то чего варежку раскрыли, когда все россияне на колени повалились и занялись рейдерскими разборками?! При нас-то (ныне старичках-пердунах, а тогда-то – ого-го!) к нашим арктическим берегам, когда был развернут мощный противовоздушный «зонтик» из подразделений радиотехнических войск, зенитных ракетных войск, истребительной авиации, сил военно-морского флота, кажинную неделю шастали ихние стратегические бомбардировщики для проверки на вшивость нашей обороны! Значит, тогда-то нас пиндосы боялись! А опосля нас? Более полутора десятилетий почти 20 тысяч километров северного побережья России были, фактически, открыты для любого проникновения извне. «До самого последнего времени от Мурманска до Петропавловска-Камчатского не было практически ни одной боевой единицы. Радиолокационное поле, истребительное авиационное и зенитное ракетное прикрытие прекратили свое существование. Наши арктические земли остались даже без намека на охрану и оборону». И что тогда из-под себя пиндосы-америкосы думали? Почему нашу бесхозную Арктику не оттяпали? Да болт они на нас положили, когда бояться перестали! Со спутников увидели, что русичи все свои РЛС побросали, истребители угнали, ВПП дерьмом заросли, двухэтажное здание аэропорта в Усть-Каре спалили, и всё – с облётами наших берегов пиндосы завязали, потому как карасин нонче дорог! Об том, чтобы голыми руками забрать от нас наши насыщенные углеводородами арктические земли и воды, как какую-нибудь там Аляску, и мыслей у них не было! Нахрен им самим на холоду возиться! Пускай русские панове, когда опоментаются, сами нефть из подо льда извлекают, купить её у них дешевше будет! Вот так я теперь разъясняю международную обстановку, сам наполовину за 35 лет опиндосившись! Добавлю к этому ещё маненько, только чтобы вас в моём гигантизме окончательно убедить. Я впервые в мире (ух, гигант-аналитик!) установил, зачем в 2003 Америка, влекомая придурком Бушем-младшим, напала на Ирак. Из-за нефти!... Ну, вы уже ехидно варежку раскрыли до ушей: “Ой, Литинский, кто же этого не знает! Об этом же Алан Гринспан – глава американской Федеральной Резервной Системы – через пять лет после начала Иракской войны сказал!” Вы, вслед за Гринспаном, думали, что пиндосы-америкосы хотели прикарманить вторые в мире по величине иракские запасы нефти. “ Авот хренушкивам!” (Посмотрите на Гугле, что значит это японское выражение). Всё наоборот! Помните, что после захвата Ирака американцами добыча нефти там снизилась даже ниже хилого уровня, разрешенного ранее Саддаму Хуссейну после его нападки на Кувейт, уровня, хватающего только для поддержания штанов и для детишков на молочишко? Почему? А потому как иракские партизаны всё время нефтяную трубу, ведущую от месторождений в порт, взрывали! А великая Америка не могла вдоль той трубы через каждые 50 метров танки расставить, чтобы никакой тушканчик не перескочил через трубу? Ой вэй, азохен вей, и агицен паровоз! И вы в этих мифических партизан верите?! Цена на горючку в Америчке тогда достигла 4 долларов за галлон, и сейчас близка к этому. А всё потому, что с самого начала у нефтяных гигантов была другая задумка. (Скорее всего они этот секрет Дубье Бушу не разглашали, чтобы он по дурости не разболтал городу и миру, см. «Рейган умный был детина, старший Буш – и так и сяк, младший вовсе был...» ). Цитирую себя, Великого, по произведению «Моя новая гениальная мысль об Ираке» () : “Вот сейчас – ТИХО!! Я разворачиваюсь на 180 градусов и выдаю свою очередную ГЕНИАЛЬНУЮ МЫСЛЬ! Не нужен им был Ирак как производитель огромного количества нефти! ИМ НУЖНО БЫЛО ВЫКЛЮЧИТЬ ИРАК с его вторыми в мире запасами нефти из производства! И они это сделали с помощью нашего придурковатого необразованного ковбоя и поддерживающих его наших высокообразованных русскоязычных сограждан”. [Я имел в виду наших русских евреев, всей душой поддерживавших республиканцев и придурка Дубью Буша-младшего. Натуральные американские евреи – те как раз наоборот. – В.Л.]. “Поставьте вопрос, как это делали древние римляне – Кому Это Выгодно? Не вкладывая никаких особенных капвложений, нефтяные компании мира получают сейчас баснословные прибыли! Каковые до иракской войны никому и не снились! Только лишь за счёт высокой цены на нефть! При тех же почти затратах на её добычу! Вот кому это выгодно! И сделали они это, только лишь выключив Ирак и держа мир на полуголодном нефтяном пайке! И voilà – прибыли зашкаливают!” И до этого я догадался впервые в мире! Вот! А вы говорите, что у меня отнюдь не всё всегда впервые в мире! А вот фигушки вам! Почти всё впервые, вот! Будет времечко, почитайте также «Рейган умный был детина, старший Буш и так и сяк, младший вовсе был...» (). Ну, ладно, убедил я вас в своей гениальности, теперь снова продолжу для вас цитировать «Бросок на север»: Драка за углеводороды Еще одна причина необходимости резко усилить российское военное присутствие в Арктике – это запасы углеводородов в этом макрорегионе. Согласно обновленным данным Геологической службы, которые в начале марта озвучил начальник штаба ВМС США адмирал Джонатан Гринерт, неразведанные традиционные запасы нефти и газа в Арктике составляют примерно 90 млрд баррелей нефти, 1,669 трлн кубических футов природного газа и 44 млрд баррелей газоконденсатов. Эти запасы, по мнению американских геологов, составляют около 30 % от общего объёма неразведанных запасов природного газа в мире, 13%, от общего объёма неразведанных запасов нефти и 20% от мировых запасов газоконденсатов. В целом же в Арктике, по мнению Геологической службы США, может находиться около 22% процентов неразведанных мировых запасов углеводородов. Конечно, никто не утверждает, что нефть и газ Арктики будут добываться легко и дешево. Однако, то, что их можно эффективно добывать (то есть не просто извлекать из недр, но и получать от этого прибыль), показывает пример и России, и Норвегии. В 2009 году компания Statoil заявила о том, что вывела на проектные мощности добычу газа на самом северном промышленно-разрабатываемом шельфовом месторождении мира – Снёвит в Баренцевом море. А осенью 2012 году российский «Газпром» запустил в эксплуатацию месторождение Бованенковское на полуострове Ямал, которое стало самым северным промышленно-разрабатываемым месторождением на суше. Интересно, что Бованенково еще в советское время пытались запустить трижды. Но только нынешние технологии позволили начать добычу газа в Заполярье экономически эффективно. Другой российский газодобытчик – НОВАТЭК, в прошлом году начал строить на северо-восточной оконечности полуострова Ямал самый большой в Арктике завод по сжижению природного газа (СПГ) - на 16,5 млн тонн СПГ в год (это в три раза больше, чем СПГ-завод в норвежском городе Хаммерфесте, который сжижает газ Снёвита). И все эти запасы и объекты, стратегические для нашей страны, тоже необходимо защищать. Конец цитаты. Ну, ладно. К тому, что сказано, чтобы вы не заснули окончательно (крепитесь, эпилог уже вот-вот!), я вам ещё несколько картинок покажу. Интересные фотографии заброшенных РЛС на ЗФИ приведены здесь: О прошлой и современной Амдерме почитайте тут:
А это месторождения нефти и газа полуострова Ямал, примыкающие слева к Байдарацкой Губе ()
Обзорная карта Баренцева и Карского морей с месторождениями на мере и прилегающей суше ( ). Чтобы многократно увеличить карту и видеть интересующие вас участки или маршруты всяких дрейфов в крупном масштабе, кликните по карте правой кнопкой мышки и выберите «Формат рисунка», и затем «Размер», и будет вам счастье! Описание этих месторождений, если кто заинтересуется, приведено здесь: . Посмотрите на карте и почитайте про месторождение Приразломное, давшее первую нефть на нашем шельфе. Оно расположено в Печёрском море, сразу слева от моей родной Байдарки. Помните, к платформе «Приразломная» в сентябре 13 года гринписовкие придурки причаливали? Везде их радостными криками приветствовали как героев-правозащитников, и только на русской Приразломной платформе они тридцать суток за хулиганство схлопотали! Всё, ребята, писец! Эпилог настал! * * * Эпилог Для тех, кто на пятый день (не плюнув в мою сторону в первые 20 минут чтения этой длинной истории) дотянул до Эпилога, я хочу рассказать, как в официальной историографии нашло отражение этого грандиозного (я не стесняюсь этого слова), не имеющего аналога в мире, этапа детального картирования рельефа дна и физических полей Северного Ледовитого океана. Сначала я приведу историю исследований гравитационного поля Центральной части Северного Ледовитого океана гидрографами ВМФ, в самом начале которых довелось принять участие и нашей гравиметрической партии НИИГА. Напомню, что это наша партия впервые в 1962 году опробовала и внедрила предложенную мной методику съёмки на дрейфующих льдах с опорой на морской маятниковый прибор, и обучила этому ремеслу офицеров-гидрографов. Геофизические исследования в океанах и морях По материалам История Гидрографической службы Российского Флота (к 300-летию создания Военно-Морского Флота). До начала 60-х гг. геофизические исследования в деятельности Гидрографической службы ВМФ носили ограниченный, эпизодический и главным образом научно-экспериментальный характер. Началу широкомасштабного и планомерного изучения Военно-Морским Флотом геофизических полей Земли, в первую очередь гравитационного и магнитного, способствовали следующие два фактора: появление советского атомного подводного флота и запуск искусственных спутников Земли. С созданием атомных подводных лодок, способных совершать автономное плавание подо льдами Арктики, потребовалось в кратчайший срок произвести картографирование Арктического бассейна, до этого наименее изученного. Благодаря высокой степени корреляции между стационарными геофизическими полями и рельефом дна, было решено применить геофизические способы исследования рельефа, привести аэромагнитную съемку и сейсмозондирование, что позволяло за короткий период максимально охватить наибольшую площадь изучаемой акватории, выявить наиболее характерные крупные формы рельефа дна и в результате рационально спланировать подробность точечных промерных работ со льда эхолотами. Запуск искусственных спутников Земли и появление баллистических ракет вызвали необходимость расчета траекторий их полета, что в значительной степени определялось знанием с высокой точностью параметров гравитационного поля Земли на всей поверхности планеты для существенного уточнения ее формы и размеров и правильного выбора единой геоцентрической системы координат. Измерение ускорений силы тяжести в морях и океанах (на 71 % площади всей поверхности планеты) могло быть осуществлено только путем широкомасштабного проведения морских гравиметрических съемок (надводных, подводных, донных, ледовых). Очевидно, что обе проблемы по масштабности, трудоемкости, оперативности и сложности разрешения требовали концентрации больших усилий и затрат на государственном уровне. После принятия соответствующих правительственных постановлений и решений был разработан ряд междуведомственных программ и планов, среди которых наиболее важными стали пятилетние планы Мировой гравиметрической съемки, объединявшие силы и средства Министерства обороны (Гидрографической службы ВМФ и Военно-топографической службы ВС СССР), Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР, Министерства геологии СССР, Академии наук СССР и других ведомств. Так как история развития исследований гравитационного и магнитного полей в морях и океанах различается по срокам, то представляется целесообразным рассмотреть ее раздельно по этим двум полям. <...> 4 октября 1957 г. впервые в истории человечества в Советском Союзе был запущен искусственный спутник Земли. При выполнении баллистических расчетов выяснилось, что имевшихся сведений о параметрах гравитационного ноля и фигуре Земли недостаточно для надежных расчетов орбит полетов искусственных спутников Земли и баллистических ракет, причем наиболее слабо были изучены акватории Мирового океана. Решение проблем геодезической гравиметрии (уточнение размеров и формы Земли, установление единой геоцентрической системы координат для всей планеты и т.п.) требовало создания равномерной систематической сети гравиметрических пунктов на всей площади Мирового океана и надежного контроля за качеством морских гравиметрических съемок, в связи с чем Гидрографическая служба ВМФ с 1961 г. приступила к систематическому изучению гравитационного поля в Мировом океане. <...> . К началу 60-х гг. общее представление о геофизических полях и рельефе дна Арктического бассейна базировалось на отдельных случайных измерениях, полученных по пути дрейфа полярных станций и ледокольных судов (СП-1 в 1936-1938 гг..СП-2 в 1950-1951 гг., СП-3 в 1954-1955 гг., “Георгий Седов” в 1937-1938 гг.), а также в 1954-1959 гг. при посадках самолетов на лед в период выполнения различных исследований. Активное участие в этих работах принимали и военные гидрографы Н.М. Аносов, А.Н. Воронов, Р.И. Гоноровский, Р.А. Дубовик, А.А. Мазепа, М.Ф. Перминов, А.Я. Свердлов, А.Г. Светлев, П.Н. Селиванов, А.И. Сорокин, И.В. Сытинский и др. К тому времени был открыт хребет Ломоносова, имелись отдельные наблюдения (около 500 пунктов) гравитационного и магнитного полей. В 1961 г. на ледовой базе ААНИИ СП-13 была развернута первая Высокоширотная воздушная экспедиция Северного флота под руководством начальника СГЭ СФ Л.И. Сенчуры. Результаты первых геофизических измерений были хотя и скромными, но обнадеживающими. Магнитные измерения, произведенные в 171 точке кварцевыми магнитометрами (QНМ и М-2 и магнитной вариационной станцией, выполнялись по программе абсолютного магнитного пункта. Сейсмозондирование (в 13 пунктах) осуществлялось 24-канальной сейсморазведочной станцией СС-24п. [Сейсмические исследования осуществлялись геофизиками НИИГА под руководством Ю.Г. Киселёва. – В.Л.]. Гравиметрическая съемка (на 79 пунктах) производилась со льда во время посадок самолетов АН-2 и вертолетов МИ-4 сухопутными гравиметрами ГАК-Зм и ГАК-4м одновременно с измерениями 3-маятниковым прибором с фоторегистрацией ММП-П, размещенным в основном ледовом лагере экспедиции. Работа маятникового прибора периодически контролировалась путем привязки авиарейсами к береговым опорным гравиметрическим пунктам . [Уточнение: гравиметрическая съёмка с использованием маятникового прибора осуществлялась, начиная с 1962 года, когда сотрудники гравиметрической партии НИИГА обучали офицеров СГЭ измерениям на гравиметрах и моём «дарованном» Хейфецом маятниковом приборе. – В.Л.] <...> С 1962 по 1989 г. Гидрографической службой ВМФ было проведено 28 высокоширотных воздушных экспедиций. Геофизическими исследованиями в разные годы руководили командиры геофизических отрядов (партий): А.М. Абакумов, С.Ф. Бойцов, Б.В. Буланов, С.Н. Гудков, К.С. Гудкович, В.Б. Детинин, Р.А. Дубовик, С.М. Еремин, П.М. Ершов, Н.Н. Замятин, Ф.В. Кузин, Ю.А. Курочкин, М.И. Криштапович, А.П. Макорта, В.А. Митюхляев, О.М. Никандров, В.В. Николайчук, В.И. Пелипко, Н.К. Тимошенко, Н.Г. Ягодницын и другие. В марте-апреле 1969 г. гидрографы Тихоокеанской океанографической экспедиции (В.И. Егоров, Е.Г. Георгов, Ю.В. Горбунов, В.Д. Мищенко и др.) выполняли аналогичные исследования на дрейфующем льду Чукотского моря (350 пунктов гравиметрических измерений, 307 - магнитных, 40 -сейсмозондирований). Достижения геофизических исследований стали возможными благодаря героическому труду полярных летчиков, таких, как В.А. Борисов, В.Ф. Брыкин, М.С. Васильев, Я.Я. Дмитриев, Ю. Г. Журавлев, Е.А. Карпов, Б.3. Ковченков, А.К. Кошман, Н.Г. Кривошеев, И.А. Левандовский, Н.И. Лысенко, Н.М. Троценко, А.Г. Халин, М.И. Шмелев и других. С каждым годом по мере внедрения более современной геофизической аппаратуры совершенствовались способы геофизических исследований, накапливался опыт геофизического изучения Арктического бассейна, повышались квалификация и мастерство гидрографов Северной гидрографической экспедиции. Соответственно увеличивались объемы геофизических наблюдений (рекордным стал 1983 г., когда были произведены наблюдения: гравиметрические — на 2491 пункте, магнитные — на 2456 пунктах, сейсмические — на 1008 пунктах). Безусловно, столь успешному проведению геофизических исследований в большой степени способствовали научно-теоретические разработки сотрудников различных институтов (прежде всего НИГШИ, НИИГА, ЦНИИГАиК и др.): А.В. Иванова, А.М. Карасика, Ю.Г. Киселева, Г.И. Ноздрина, В.А. Литинского [выделено мной. Спасибо, что не забыли. Ну, а уж поминать Колю Третьякова, Серёгу Попова, Никитушку Стожарова – совсем не обязательно, тоже мне штатские преподаватели Высших офицерских курсов на дрейфующей льдине. – В.Л.], А.Г. Пожарского, Б.Г. Попова, П.Н. Селиванова, О.Г. Щелованова, С.М. Щербакова и других. Вначале при проведении съемок со льда руководствовались Инструкцией по наземной гравитационной разведке Министерства геологии СССР, но она не учитывала условия работы на дрейфующем льду. В 1971 г. на основе накопленного опыта и теоретических исследований ГУНиО МО [141—144 и др.] была издана Инструкция по гравиметрической съемке со льда [145]. [Интересно, воспользовались ли военные моряки моими двумя статьями, упоминавшимися выше, опубликованными в трудах ГУНиО МО? – В.Л.] За стойкость, мужество и достигнутые высокие результаты в ходе проведения первых арктических экспедиций ряд военных гидрографов, занимавшихся геофизическими исследованиями, были награждены орденами и медалями. Их напряженный труд, как и всех полярников, был сопряжен с постоянным риском для жизни не только во время первичных посадок самолетов на торосистый, с разводьями дрейфующий лед, но даже в короткие часы сна (как правило, не более 4-6 часов в сутки на протяжении двух-трех месяцев) в палатке, под которой в любую минуту внезапно могла образоваться ледовая трещина всепоглощающей океанской бездны. [В 1966 году под палаткой КАПШ-2, в которой мы спали, внезапно образовалась трещина. Хорошо, что ночной дежурный Никита Стожаров меня во-время разбудил. Как дальше развивались события, интересующиеся могут прочесть в документальной истории «Будни дрейфующей ледовой базы» . - В.Л.]. Результаты изучения геофизических полей Земли в Северном Ледовитом океане оказались по сей день в сравнении с другими океанами наиболее достоверными и полными. Помимо общенаучного и военно-прикладного назначения они широко используются при создании различного рода геологических карт, а также при решении международно-правовых проблем обоснования внешних границ континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. [Всюду всё было выделено мной. – В.Л.] * * * А сейчас я приведу историю проведения той же гравиметрической съёмки по разработанной мной методике на дрейфующих льдах Советских арктических морей, изложенную в статье: 12 октября 2012 года ФГУ НПП «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» отмечает 50-летний юбилей! (На сайте «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» в разделе Новости). В юбилейный год, оглядываясь на пройденный путь и оценивая результаты работ Полярной морской геологоразведочной экспедиции, нельзя не вспомнить исследователей и руководителей, стоявших у истоков создания экспедиции и возглавлявших её деятельность на разных этапах поисков и открытий. Это руководитель геологической службы Министерства геологии член корреспондент Академии наук В.В. Федынский, по инициативе которого была создана экспедиция, её организаторы и многолетние научные руководители – директор НИИГА Б.В. Ткаченко, начальник отдела геофизики Р.М. Деменицкая и её заместитель А.М. Карасик. [Выделено мной. – В.Л.] Конец цитаты. Далее идёт перечисление достижений и успехов ПМГРЭ при проведении геофизических работ в Антарктиде и Тихом и Атлантическом океанах. Начальные 7-8 лет Полярной экспедиции, когда она называлась не Морская Геологоразведочная Экспедиция, а Полярная Высокоширотная Воздушная Геофизическая экспедиция (ПВВГЭ), в этой парадной статье, наполненной выражением благодарностей вышестоящим товарищам и организациям (эти благодарности работникам министерства я упустил, так как они к первому периоду работы ПВВГЭ отношения не имели), отражены, мягко выражаясь, недостаточно полно, а то и ошибочно. В частности, уважаемый мной А.М. Карасик никогда не являлся ни её организатором, ни научным руководителем, каковыми, как справедливо сказано в статье, являлись руководитель геофизической (а не геологической) службы Министерства геологии В.В. Федынский, директор НИИГА Б.В. Ткаченко, и начальник отдела геофизики Р.М. Деменицкая. Справедливо также отмечено в статье, что “Ну и конечно, надо вспомнить, что Полярная экспедиция родилась в недрах НИИГА, пережила несколько структурных преобразований в период вхождения её в объединение «Севмогеология», которое много лет возглавлял выдающийся ученый и организатор, академик РАН Грамберг И.С.”. Но справедливости ради надо сказать также, что Игорь Сергеевич стал возглавлять Объединение НИИГА-Севморгеология в 1972 году, то есть через 10 лет после организации Полярной экспедиции и после окончания съёмки Советских арктических морей. А до этого он занимался своей любимой стратиграфией Восточной Сибири и не имел к рождению экспедиции никакого отношения. ().
Ткаченко, как раб на галере в Чукотском море, крутит лебёдку сейсмической косы, чтобы приобщиться к работе на льдине и заработать себе на обед (без выпивки) на дрейфующей базе. 1965 г. А вот другие коммунисты – Деменицкая, Карасик, Грамберг – и близко не лежали. Приведу ещё одну цитату: РОССИЙСКИЕ ПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК № 1 (11) 2013 г ISSN 2218-5321 ( ). ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ПОЛЯРНАЯ МОРСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» – 50 ЛЕТ. ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ФГУНПП «ПМГРЭ» ВЛАДИМИРОМ ДМИТРИЕВИЧЕМ КРЮКОВЫМ Владимир Дмитриевич, в прошлом году исполнилось 50 лет организации, которую Вы возглавляете. Какие задачи были поставлены перед экспедицией, и что бы Вы выделили в ее деятельности? Действительно, в августе 2012 г. исполнилось 50 лет Федеральному государственному предприятию «Полярная морская геологоразведочная экспедиция». [Опять таки – не было в 1962 Полярной морской геологоразведочной экспедиции, даже слов таких, как «Федеральное Государственное Унитарное Предприятие» и в заводе не было! – В.Л.]. За свою полувековую историю экспедиция из узкоспециализированной организации выросла в современнейшее морское геолого-геофизическое предприятие мирового уровня, выполняющее многофункциональные геологоразведочные работы в Арктике, Мировом океане и Антарктике. Мы гордимся этой датой, потому что не каждая организация в ранге экспедиции просуществует до 50 лет, да еще работающая в экстремальных условиях от Северного до Южного полюсов и в Мировом океане. Для выполнения такой работы, как показала жизнь, требовались не только самоотверженность и высокий профессионализм, но и известное мужество, поскольку проведение геофизических съемок на дрейфующих льдах связано с риском посадки самолетов в самых непредсказуемых ситуациях. Надо было не бояться сурового климата: постоянных морозов, ветра в лицо и других лишений, с которыми связана работа в Центральной Арктике и в Антарктиде. [К этой фразе никаких претензий нет, чистая правда. – В.Л.] Основной задачей предприятия на начальном этапе деятельности было геолого-геофизическое изучение арктической полярной области Земли для оборонных нужд и оценки перспективности акваторий Северного Ледовитого океана, арктических морей и островов на обнаружение полезных ископаемых, в первую очередь – нефти и газа. <…> Конец цитаты. Как видите, военные гидрографы о геофизических исследованиях в центральной части Северного Ледовитого океана рассказали довольно подробно, с перечислением массы фамилий военных моряков и некоторых штатских, а в нашей урождённой НИИГАвской ПМГРЭ, исчислявшей своё 50-летие с момента создания Полярной Высокоширотной Воздушной (в ту пору ещё не Морской!) Геофизической Экспедиции, забыли рассказать о первых 7 годах «своей» экспедиции! И самое главное – ещё раз повторю замечательные слова Раисы Михайловны Деменицкой, приведённые в самом начале в эпиграфе: “…настало время подвести итоги замечательных работ экспедиции и с несколько иных позиций, а именно, отразить в них Человека, показать роль человеческого фактора. Именно человек, нередко в самых сложных организационно-технических ситуациях и тяжелейших природных условиях обеспечивал успех этих работ.” [Выделено мной. — В. Л.]. Человеческий фактор в приведённых цитатах о 50-летии экспедиции не отражён. Поэтому я, как один из немногих остающихся в живых свидетелей её создания и первого десятилетия существования в качестве ПВВГЭ, попытался внести свою лепту в её историю, начиная с первых дней её сотворения, в этой статье и во многих других моих документальных историях. Через нашу экспедицию за этот период прошло несколько сотен человек, включая временных сотрудников – рабочих и авиаторов. И хоть бы кто из них что-нибудь написал об этом! Я многократно уговаривал моих ближайших друзей – Колю Третьякова, Борю Генина и других – написать свои воспоминания о многих героических эпизодах, в которых они участвовали – и ни гу-гу!
Старые пердуны – Боря Генин (справа) и я – Коля Третьяков, 2008 год. Тогда ещё живой. Он всегда был моей правой рукой. Санкт-Петербург, июнь 1913. Снимок со Скайпа. Когда Борю сейчас по-пьянке удаётся раскочегарить – он выдаёт такие полярные пенки, что только глазами шаришь – где бы найти магнитофон! А записать ему самому на компьютере эти пенки – ни за какие полярные надбавки! Вот так и все! И если бы не мои писания – о многолетней работе Полярной экспедиции на дрейфующих льдах остались бы только несколько строчек, приведённых выше в юбилейных статьях ПМГРЭ. Слава Богу – Валя Мошкович опубликовал два коротких фильма о нашей работе – «Здравствуй, Арктика!» и «Под нами Чукотское море» (). Посмотрите! ...Недавно я обратился к дочери Севы Голубенцева (см. «Дрейфующая Америка» ), отважного Полярника, прислать мне его какие-нибудь экспедиционные фотографии, чтобы я мог навечно зафиксировать его светлый лик в интернете – нет ответа… Вот кто бы разыскал родственников покойного Юры Черненкова, провалившегося в узкую трещину 100-метровой глубины в леднике на арктическом острове, не выпуская из судорожно сжатых кулаков ручку гравиметра, попросил у них его фотографии – у меня ждёт очереди (Иншалла!) документальная история о его спасении из трещины отрядом Андрея Орлова-покойника... В связи со всем вышеизложенным – мой совет дирекции НИИГА-ВНИИОкеангеологии: ребята, дайте команду кому-то из наших старых сотрудников-геофизиков, если кто из них ещё живой, написать подробную историю геофизической съёмки арктических морей на основе рассекреченных отчётов Полярной экспедиции (к которым я по известной вам причине был лишён доступа). Я не участвовал в съёмке западных советских морей (Карского и Баренцева) и их островов, на защиту отчётов о их съёмке не допускался, поэтому об этой работе ничего рассказать не могу, кроме потрясающего случая со спасением Юры Черненкова из 100-метровой трещины, от которого лично и от начальника отряда Андрея Орлова – первоисточников – слушал эту историю. Естественно, этот случай не нашёл никакого упоминания в отчётах Полярной экспедиции (секрет!). Если бы я тогда руководил экспедицией – я бы обязательно описал это в отчёте – это же героическая история! Я рекомендую дирекции дать команду на написание истории Полярной Высокоширотной Воздушной геофизической Экспедиции с обязательным перечислением всех сотрудников, которые принимали участие в этой грандиозной работе, как это сделали гидрографы, желательно с их фотографиями. Для этого запросите потомков уже ушедших в свой последний рейс Полярников прислать вам их фотографии. Пусть этот человек, которому вы поручите эту исследовательскую работу, напишет подробную документальную историю с приложением карт с границами съёмок по годам. Ведь сейчас, когда шельф Арктики становится одним из важнейших притягательных объектов на Земле, доказательством принадлежности её акваторий той или иной стране будут служить не только спорные геологические и геоморфологические данные (“Ооткуда есть пошёл подводный хребет Ломоносова” – мы говорим, что от острова Котельный Новосибирских островов, датчане отстаивают, что от Гренландии, а канадцы зациклились, что ващще от ихнего острова Элсмир), но и те бесспорные усилия, которые приложила каждая страна для изучения данной акватории.А уж мы, россияне, приложили этих усилий для исследования наших шельфовых морей и островов неизмеримо больше, чем кто бы то ни было из других стран в своих секторах. Если Жора (Георгий Паруйрович) Аветисов, наш главный арктический историк, по какой-либо причине не возьмётся за эту работу – рекомендую двух прилежных и ответственных девочек – Любочку Харитонову и Наденьку Евдокимову. (Ну, правда, теперь они уже бабушки). Они это сделают в лучшем виде. А без этого в истории освоения советских арктических морей останутся только Ткаченко, Грамберг, Деменицкая, Карасик и куча работников Министерства природных ресурсов, помогавших становлению Полярной морской геологоразведочной экспедиции, когда эти арктические моря уже были изучены...
... Редеет круг старых Полярников, многие уже ушли далеко-далеко... Вот немногие из оставшихся (Санкт-Петербург, 2008 год): Сидят – Ниночка Ласточкина (геофизик) и Люсенька Кузмина (геодезист, отважная дрейфунья, которая в древности на дрейфующей льдине наганом белых медведей разгоняла, см её фото в этом тексте). Стоят: Фирочка Коган (сейсмик, НИИГАпница, но не Полярница, а жена Алика Когана, крайнего справа); Коля Ржевский (геофизик, одно время начальник Полярной экспедиции, а сейчас к тому же и писатель); Женечка Третьякова (старший техник-картограф, жена Коли Третьякова, который положил руку на её плечо, Полярница, на арктических островах много камералила); Коля Третьяков (мой друг и правая рука всегда и везде, но сейчас уже покойный); Мария Владимировна Лебедева (НИИГАпница, но не Полярница, а жена Володи Шимараева, который стоит справа от неё); Володя Шимараев – начальник лётного отряда – утопленец, и одно время тоже начальник Полярной экспедиции. Крайний справа – Алик (Альберт) Коган (сейсмик), Полярник – печати ставить некуда, был одно время главным геофизиком этой экспедиции. Специально, чтобы сфотографироваться, он прилетел из Германии, где они с Фирой живут теперь постоянно. А меня на этой достопамятной фотке нет – жутко обидно, ночами плачу – я улетел из Ленинграда за пару недель до этой фото-сессии! Обидно, Зин! Н.Н. Ржевский – единственный среди нас настоящий фирменный писатель, член Международной Федерации Русских Писателей ( ), но не докуистец. Он начал писать свои художественные рассказы о Полярной экспедиции без моих уговоров, а только по призыву своего сердца. Коля писал художественные рассказы на основе действительных случаев, но позволял себе отступать от строгой истины, иногда довольно далеко, не приводя поэтому фамилий своих героев. То есть его произведения действительно отвечают определению слова байка. (См. в «Жировиане» мою дискуссию с ним об отличии документальной истории от художественного рассказе на ту же тему). * * * И напоследок: Фотография о моём посещении Полярной Морской Геологоразведочной Экспедиции в Ломоносове в июне 1913 г.
Я подарил Музею истории экспедиции мой любимый памятный сувенир – обломок винта самолёта Ан-2, затонувшего 13 апреля 1966 г. в Чукотском море. Директор и хранитель музея Борис Владимирович Малин указывает пальцем на фотографию затонувшего самолёта (она была приведена выше). В альбоме, на который указывает Малин, почти все фотографии – мои. Справа от меня – большая фотография начальника ПМГРЭ – Владимира Дмитриевича Крюкова. А под ним слева – А.П. Витязев.
Этот сувенир в 1966 году подарил мне Коля Третьяков, принимавший участие в сложной и очень опасной операции по спасению экипажа самолёта и отряда Володи Шимараева (всего 10 человек). Когда я эмигрировал, я не мог взять с собой в Америку этот сувенир, потому как госсекрет – не утоплялись у нас самолёты, выполнявшие совсекретную съёмку в арктических морях! И я его перед отъездом в Пиндосию передал обратно Коле, а потом, приехав в СПб, получил снова. Конечно, этому артефакту место в музее Полярной экспедиции! (Сам-то я в любой момент могу копыта откинуть, на что уж этот винт мне, пусть народ пользуется). Я уже упоминал, что у меня есть дневник Коли с подробным описанием операции по спасению утопленцев. Так что ждите очередную документальную историю с фотографиями (Иншалла)! Ну, ладно, фиг с вами – раз уж вам так нравятся мои фотокарточки, то вот вам ещё парочка, любуйтесь, девушки!
Вблизи Северного полюса, 1962 год. На широте 390 с.ш. – Денвер, Колорадо. Август 2014 А карабинчик, промежду прочим, такой же самый! Мосина три линии, или 7.62 мм по нашему, 1942 года. Промежду прочим скажу, что $79.99 в магазине «Big 5 Sporting Goods » за него плачено, не хухры-мухры! А вот калаша АК-47 покупать не буду – при нас он был секретным оружием, и я его никогда в руках не держал. Нету у меня по нему ностальгии, ни одного оленя из калаша я не подстрелил, а вот из Мосинского карабина – вагон и дрезина за три сезона на Новосибирсих островах. Поэтому покупать я калаша не буду, и не уговаривайте. Тем более, что за него 800 долларей спрашивают. Моя вся американская пенсия $850. Ну, правда, на жратву ещё $185 дают – фудстемпы называется, хотя эта самая обычная кредитная карта, но только на продукты. Вот только спиртное на эту карту купить нельзя – с этим тут строго. Ну, там медицина вся бесплатная. Ну, в дед-садик по средам и субботам хожу (в смысле, возят мення). Ну, там обжираловка двухразовая, ресторан «Националь» (наш, русский) поставляет (вкусно – зашибись!), и с собой ещё дают – холодильник у меня ломится. Спасибо товарищу Ста... тьфу ты, Обаме! – за наше счастливое дедство! (Промежду прочим, материальчик на этот дед-садик собираю, как эти пиндосы-жидо-масоны российских и украинских стариков гробят путём закармливания). А вот за стольник калаш я бы ещё купил. Ну, хрен с вами, давайте за две сотни, возьму. За моей спиной на картинке слева – ледяной торос, а справа – натуралная русская берёзка, чтобы, когда ностальгия одолеет, было к кому припасть, обнять и заплакать. Но я русский офицер (помните – старший лейтенант запаса), внук, правнук и пра-пра-правнук русских офицеров (папаша, правда, подкачал – стал австро-венгерским офицером, ну, с кем не случается), так что плакать мне по чину не положено. (Открою вам секрет – в Колорадо берёзы не растут – только осины. А перед моим домом – пожалуйста! Во всём Денвере – только у меня! Боженька – он не фраер! Знает, кому тут дать русскую берёзку!). Ну, ладно. До свидания, если Боженька позволит! Будьте здоровы и счастливы! Ваш Вадим. P . S .: Кто хочет посмотреть на меня и послушать мои рассказы живьём, идите сюда на Ю-Тюб: https://www.youtube.com/results?search_query=vadim+litinsky, и будет вам счастье! Только не забудьте смотреть меня по порядку: 1. Начало, 2. Продолжение, 3. Продолжение, и так далее. P . P . S .: Да, самое главное чуть не забыл: God save the Arctic ! God save peace in the Arctic, please! Или лучше на Великом и Могучем: Боженька, спаси и помилуй Арктику! Боженька, сохрани мир в Арктике, будь ласка!
|