







| |||
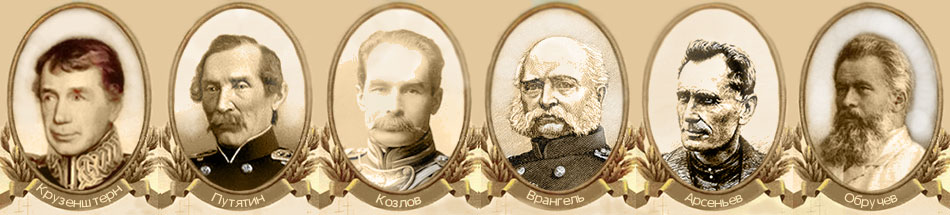 | |||
Памяти таланта
В эти дни мы прощаемся с нашим близким другом, товарищем по работе, незаурядным человеком. Все активные и плодотворные годы Аэлиты Ивановны Челебаевой прошли на Камчатке, либо в Петропавловске, где она работала в Институте вулканологии, либо в поле. Здесь нашёл выражение её многосторонний талант в двух ипостасях – естествоиспытателя и художника. В Институт вулканологии Аэлита Ивановна вместе с мужем Алексеем Евгеневичем Шанцером были направлены по распределению после окончания МГРИ в 1962 году. На Камчатке они вместе работали почти все полевые сезоны в различных районах полуострова. Профессионально они составляли идеальную пару. Выбор района работ, заброска в поле (включая найм и перегон лошадей) были задачей Леши, который имел опыт практического геолога. Эла могла сосредоточиться на отборе и описания образцов. Так она увлеклась собиранием палеофлоры, главным образом отпечатков листьев. Раз увлекшись, она освоила все опубликованные работы как отечественных, так и зарубежных (японских и американских) авторов. Палеоботаника тогда в Союзе была представлена работами А. Н. Криштофовича [Krishtofovich, 1934, 1957], который начинал с описания ископаемой флоры залива Корфа на Востоке Камчатки. Она изначально понимала сложность стоящей перед ней задачи. Отсутствие готовых описаний палеофлор Камчатки и признанных руководящих форм заставляли ее сопровождать свои описания диаграммами определений спорово-пыльцевых и диатомовых комплексов и, где возможно, палеомагнитными данными (для хребта Тумрок [Shanzer et al., 1969, Chelebayeva, 1971], а также тщательно собирать опубликованные радиометрические датировки. Она сумела самостоятельно освоить специфику работы палеоботаника и, помимо приложения сделанных ею определений к стратиграфическим построениям, выполнила описание многих новых видов. По её собственной оценке [Chelebayeva, 1978] только в образцах из корфской серии ею было описан 21 новый вид. Если предположить, что количество новых видов в коллекциях из других районов имеет тот же порядок, то речь должна идти о десятках впервые описанных ею видов. Коллекция образцов ископаемой флоры Камчатки, ежегодно пополняемая Аэлитой после каждого полевого сезона, представляет уникальное собрание фактического материала, но требовала грамотной обработки – определений, описаний, публикаций, и, наконец, хранения. Всё это делал один человек – геолог Челебаева. Она освоила технику фотосъемки образцов, проводя в этом занятии большую долю времени камеральных работ, и с поразительной тщательностью. Конечно, справиться одной с фотографией такого количества образцов ей было не под силу. Часть снимков была сделана в фотолаборатории Института вулканологии при содействии старшего лаборанта КТГУ Л. К. Толстова. А ведь изготовление фототаблиц была лишь начальной частью работы. По негативам надо было выполнить вручную зарисовки образцов (иглой под бинокуляром) и, главное, сделать описание и определения их. Кандидатская диссертация А.И. Челебаевой [Chelebayeva, 1971а] посвящена флоре залива Корфа, то есть Аэлита шла здесь прямо по стопам основателя отечественной палеоботаники А. Н. Криштофовича [Krishtofovich, 1934], но описания А. Н. Криштофовича, основанные на редких единичных находках, не могут идти ни в какое сравнение с ее работами и прежде всего в количественном отношении Сегодня объем коллекций Челебаевой поразителен. В монографии [Chelebayeva, 1978] приводится цифра выполненных автором описаний при ревизии образцов коллекции П. А. Мчедлишвили – около 900 (!). Учитывая, что это сборы одного полевого сезона, причем выполненные в одной точке, общая сумма ее определений должна оцениваться в тысячах. И она, закончив огромную работу по одному району, едет в другие – в хребет Тумрок, Срединный хребет, на Западное побережье. Каждая из этих поездок заканчивалась монографической обработкой собранного материала [Shantzer et al., 1969, Chelеbayeva et al., 1974]. Тут дело не ограничивается только талантом, речь идет об огромном выполненном Аэлитой труде. Опираясь на свои коллекции, она сделала описания типичных ассоциаций палеофлоры разных районов и при этом описала много новых видов. Когда мы обртились к Эле и Лёше с просьбой написать статью для сборника под редакцией И. В Лучицкого [Luchitsky, 1974], мы считали, что главное авторство будет принадлежать Леше, не зная, что еще ранее Эла опубликовала статью под практически тем же заглавием [Chelebayeva, 1971], а это точно указывало на то, кто «делал» стратиграфию для монографии Лучицкого. В итоге ее определения, привязанные к составленными Лешей разрезам вулканогенно-осадочных толщ, позволили точно датировать разрезы больших районов. Они работали парой, но в любом случае, как считалось, были вне основного русла работ Института Именно работы Аэлиты по обоснованию стратиграфии вулканогенных толщ Срединного хребта выполнили задачу, которую первый директор Института Б.И. Пийп ставил перед созданными им стратиграфическими группами: увязать вулканогенные толщи Центральной камчатской депрессии и Срединного хребта с фаунистически-охарактеризованными разрезами третичных отложений Западного и Восточного побережий полуострова. Одним из первых мероприятий нового директора С. А. Федотова было объявление о проведении ежегодного конкурса на лучшую научную работу сотрудников Института. На первый такой конкурс Эла представила свой обобщенный отчет со всеми описаниями палеофлоры. Отчёт заслуженно взял первое место, и она была страшно горда этим. Дирекция Института не смогла оценить значимости этой работы. Типографское издание его имело бы большой резонанс и сделало бы честь издателям. Но Дирекцию это мало заботило. Палеоботаника оставалась вне тематики Института, вне Вулканологии. Научные руководители Института – бывшие сотрудники Лаборатории вулканологии, оказались не способны понять значимость ее исследований. С их точки зрения она и вулканологом-то не была. Среди погруженных в петрографию и геоморфологию описываемых вулканов сотрудников Института вулканологии она была совершенно «вне игры». Они не заметили, что м.н.с. Аэлита Ивановна Челебаева заслуженно стала ведущим отечественным палеоботаником. Это осознали геологи КТГУ, для которых Аэлита была воплощением Науки. Среди геологов КТГУ паломничество к ней стало традицией. Ее определения образцов палеофлоры из их коллекций позволяло им датировать «немые» континентальные вулкангенно-осадочные толщи, что, конечно же, украшало любой отчет. Оценили по достоинству достижения Аэлиты Ивановны и коллеги - сотрудницы Ботанического института АН и продолжательницы дела А. Н. Криштофовича - Т.Н. Байковская и И.А. Ильинская, которым когда-то давно Эла возила для консультации свои первые образцы. Признание пришло много позже, в конце профессиональной жизни. Ю.Б. Гладенков от имени Всесоюзного межведомственного стратиграфического комитета опубликовал в трудах ГИНа и других издательствах несколько монографий, основанных на материалах тандема Леши и Элы [Gladenkov et al., 1997, Gladenkov, ed.,2005]. Знаменательно изменение названия публикаций на этом последнем этапе. Теперь речь шла не о параллелизации осадочных разрезов Восточного и Западного побережий с вулканами и вулканическими толщами, а о характеристике временных этапов планетарной геохронологической шкалы, как они? отразились на Камчатке в сравнении с российским Приморьем и Дальним Востоком, Японией и Корякским нагорьем. Значение огромной коллекции А. И. Челебаевой трудно переоценить. Автор хорошо понимала это и всячески старалась привести коллекцию в удобную для использования форму и сдать ее на хранение в геологическую организацию, где она может быть легко использована будущими исследователями. В настоящее время коллекция ископаемой флоры Камчатки А.И.Челебаевой хранится в Геологическом музее имени В. И. Вернадского, где она доступна любому исследователю. * * * Всё началось неожиданно и внезапно. В 1966 году я приехал с Тихоокеанского конгресса в Японии и привез пакет японских цветных фломастеров, о которых в Союзе ещё не знали. Эла просто влюбилась в новое лёгкое средство для выполнения яркого красочного рисунка. Я отдал ей фломастеры, и она тут же нарисовала… сказочно расписного петуха. Но энтузиазм в отношении резких красок фломастеров быстро стих, её природный вкус и реальное знание того материала, который она хотела изобразить, подсказали ей другое, наиболее естественное средство – пастель на картоне. Так появились ее первые живые пейзажи Камчатки, портреты подруг (все как в зеркале, но немножко льстили), очаровательные портреты детей (лучшие - сына), цветы, коты, лошади (во сне и наяву, в походе, в ночном приволье..). Став более уверенной в свои способности художника, Эла начала пробовать и иные материалв – акварель, масло, рисунки пером. Всё это без специальной подготовки, без ученичества, лишь доверяя интуиции и памяти. Глаза и рука, как правило, не подводили. Ещё во времена первых полевых сезонов она иногда по памяти делала в блокноте карандашные зарисовки мест отбора образцов. Позднее, при написании отчёта Лёша по этим эскизам безошибочно узнавал места находки. Эла говорила, что это у неё наследственное от отца, который немного рисовал. А откуда знание законов перспективы, светотени, композиции и прочих основ изобразительного мастерства , которых она никогда не изучала, но которым следовала?! Мне кажется, что и в художестве ей нравился процесс исследования. Она быстро росла, ставила себе и решала новые задачи: усложнялись композиции, появлялись новые образы (пейзаж, портрет, растения, животные), экспериментировала с разными средствами (бумага, картон, холст, карандаш, мелки, акварель, пастель и пр.). Саиые любимые темы удавались лучше всего: портреты сына, камчатский пейзаж, и…лошади. Профессионалы, дипломированные художники, удивлялись её успехам; не раз её приглашали участвовать в выставках Краевого музея. (Должен признаться: здесь, среди немалого числа камчатских пейзажей, её работы сразу выделялись точностью и свежестью взгляда автора-, в них отразилась сама душа этого уникального края). К нашему глубокому сожалению, по разным причинам при жизни ей не удалось исполнить долго и страстно желаемое – издать альбом картин художницы А.Челебаевой «Моя Камчатка», но немало её картин, щедро подаренных автором, украшают наше жильё и радуют наши сердца. Всё, чего касалась Аэлита, было талантливо: она сразу попадала в суть проблемы, определяла свою задачу и решала ее аналитически и добросовестно, касалось ли то рабочих или житейских вопросов. Так она освоила технику обработки и фотосъёмки образцов; так же, почти на профессиональном уровне изучила медицинские проблемы и методы лечений для себя и своих близких. В заключение хочется отметить, что Аэлита Ивановна прошла очень нелёгкий, но удивительно прямой жизненный путь; то есть словами известной молитвы, мужественно исполняя то, что считала своим долгом, и спокойно принимая всё, что изменить было не в её силах. Мы навсегда сохраним тёплую память о светлых днях нашей общей молодости, полной творчества и товарищества с дорогим другсм Элой Челебаевой. Использованная литература
Chelebayeva A. I, 1971, Paleoflora of the Korf bay and its significance for Neogene stratigraphy of Kamchatka. Autoreferat of a Ph. D. dissertation, Moscow (in Russian); Chelebayeva A. I, 1971, Problems of Cenozoic stratigraphy of Kamchatka (in Russian); Chelebayeva A. I., A. Ye. Shantzer, I. A. Yegorova, Ye. G. Lupikina, 1974, Cenozoic deposits of the Kurile-Kamchatka region (Luchitsky I.V., ed., 1974, pp. 24-58) (in Russian); Chelebayeva A. I.,1978, Miocene flora of Eastern Kamchatka, Moscow, Nauka, 155 p. (in Russian); Chelebayeva A. I., Shantzer A. Ye., Yegorova I. A., Lupikina Ye. G., 1974, Cenozoic deposits of the Kurile-Kamchatka volcanic region// Kamchatka, Kurile and Kommandor islands (Luchitsky I. V., ed., 1974, History of the relief development of Siberia and Russian Far East, Moscow, Nauka, , pp. 31-93 (in Russian); Gladenkov Yu.B., Shantzer А.Ye., Chelebayeva A.I. et al., 1997, Lower Paleogene of Western Kamchatka (stratigraphy, paleogeography, geological events). Proc. of GIN RAN; iss. 488, 320 pp. (in Russian). Gladenkov Yu.B., ed., Gladenkov Yu.B.,Sinelnikova V. N., Chelebayeva A. I., Shantser A. Ye., 2005, Biosphere-ecosystem-biota in the geological past of the Earth. Cenozic Ecosystems of the northern Pacific. Eocene-Oligocene of the Western Kamchatka and adjacent regions, to 100th anniversary of academician V. V. Menner, GEOS, 480 p. (in Russian). Krishtofovich A. N., 1957 , Paleobotanics. L., Gosnauchtechizdat, 650 p. (in Russian); Krishtofovich A. N., 1934,Tertiary flora of the Korf bay in Kamchatka. Transactions of Far Eastern Exploration trust, iss.62, 28p. (in Russian). Luchitsky I. V., ed. History of relief development in Siberia and Russian Far East Moscow, Nauka,437 pp. (in Russian); Melekestsev, I. V., Braitseva O. A., Erlich E.N., Shantzer A. Ye., Chelebayeva A. I., Lupikina Ye. G., Yegorova I. A., Kozhemiaka N. N., 1974, Kamchatka, Kurile and Kommandor Islands. (Luchitsky I. V., ed., 1974, History of the relief development of Siberia and Russian Far East, Moscow, Nauka,437 pp. (in Russian); Sinelnikova V. N., Fotianova L. I., Chelebayeva A. I., Skiba L. A., Lupikina Ye. G., Chepalyga A. L., Druschits Yu. G., 1976, Mio-Pliocene of Western Kamchatka (the Ermanovsky suite and paleontological proof of its age). Moscow, Nauka, 280 p. (in Russian); Shantzer A. Ye., Geptner A. R., Yegorova I. A., Lupikina Ye. G., Pevzner M. A., Chelebayeva A. I., 1969, Volcanogenous sequences of the Tumrok ridge their paleomagnetic characteristic and age., Izvestiya Academy Sci. USSR, ser. geol,, № 9, pp.73-82(in Russian). Э. Эрлих, Р. Эрлих
|







