







| |||
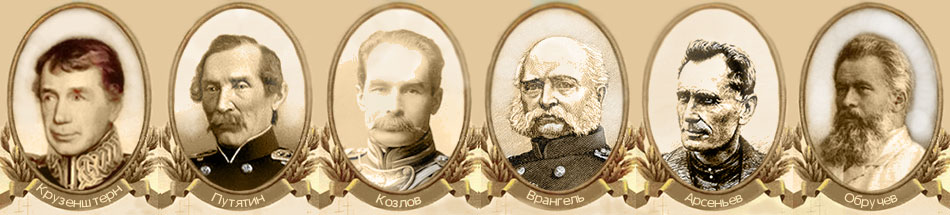 | |||
Э. Н. Эрлих
Он вышней волею небес Рождён в оковах службы царской А. Пушкин Даты в заголовке соответствуют времени моей работы В геологии Всего выходит 68 лет. И, что греха таить, написание профессиональной биографии дает приятную возможность обозреть собственное профессиональное прошлое, и посмотреть на неиспользованные возможности. Освоение азов профессии, 1957-1963 Начало моей профессиональной деятельности – эпоха конца съемки масштаба 1:1,000,000, была одновременно временем повального увлечения восхождениями на вершины вулканов. Это соответствовало требованиям, предъявляемых миллионкой к геологам - закрыть, по возможности, белые пятна в геологической изученности и уметь экстраполировать отрывочные геологические данные между редкой (через 10 км) сетью маршрутов. Проведенные по всей Камчатке восхождения сделали возможным составление первого в истории каталога (по сути просто описи) вулканов, выполненного П. Т. Новограбленовым [ Novograblenov, 1932]. То, что происходило у нас, в партии М.Б. Голубовского, 5го геологического управления, полностью отвечало этой традиции. Не случайно сошлось, что именно в это время в Эссо прибыл отряд Хабаровского отделения Общесоюзного географического общества под руководством А. И. Яцковского целью которого было восхождение на находящейся на нашей территории вулкан Ичинский. Надо ли говорить, что я с восторгом принял предложение участвовать в этом восхождении. С присоединением нашей маршрутной пары отряд восходителей увеличился вдвое, да и мы дали отряду лошадей, что облегчило подходы к вулкану. Экспедиция изображена на фиг. 2, представляющей собой монтаж великолепных фотографий, выполненных А. И. Яцковским. Итоги восхождения описаны в [ Erlich, 1959]. Насколько участие в этой экспедиции соответствовало моему общему настрою, можно судить по тому, что год спустя я проложил один из маршрутов через вершину вулкана Анаун. Прямой необходимости в этом не было, Анаун вчетверо ниже Ичинского, хотя и самый высокий вулкан в этом районе, но искушение восхождения было слишком велико и уж конечно мы оставили на вершине традиционную записку («здесь был Вася»). Мы установили, что под ледником, заполняющим вершинную кальдеру Ичинского вулкана, работает мощная фумарола и, таким образом, Ичинская сопка является единственным активным вулканом в зоне Срединного хребта Камчатки. Возвращаясь с полевых работ в Ленинград, я посетил Лабораторию вулканологии АН СССР и рассказал о наших результатах. А. Е. Святловский просил меня написать об этом статью в Бюллетень вулканологических станций и настоял на её скорейшей публикации [ Erlich, 1958].
Геологическая съемка районов развития четвертичного вулканизма была легкой и захватывающе-увлекательной. Мы были первыми геологами, работавшими в этом районе прямо по следам К. И. Богдановича. На втором году работ мы картировали район новейшего вулканизма около вулкана Анаун. Существование здесь огромных полей базальтовых лав, не затронутых эрозией, было совершенной новостью. Сопоставление данных наших работ с материалами геологической съемки масштаба 1:1,000,000, проведенной пионерами камчатской геологии А.Ф. Марченко, В. И. Макаровым и В. М. Жегаловым, позволило установить единый характер эволюции четвертичного вулканизма. Во всех случаях имелся переход от базальтовых излияний, сформировавших лавовые плато, и руины крупных щитовых вулканов к вспышке кислого вулканизма и второму циклу базальтовых излияний верхнечетвертичного-голоценового времени. Статья об этом была представлена в Известия АН СССР, сер. геологическая и опубликована [ Erlich, 1960]. Именно эти статьи (1958 и 1960 годов) позднее открыли мне дорогу в только что образованный Институт вулканологии. В 1990 году я принял участие в Международном вулканологическом конгрессе в Майнце, Германия, с ранее опубликованным докладом о возрасте ультраосновного магматизма трех платформ [ Erlich, Sutherland, Hausel and Zagruzina, 1989]. Контакты с В.А. Мокиевским и Д.П. Григорьевым оживили мой давний интерес к минералогии и кристаллографии. И лишь по чистой случайности - отсутствию вакансии в аспирантуру после защиты диплома, и тяге к «открытию новых земель» - я обязан тому, что пошел в основном по пути вулканологических и тектонических исследований. Студентом я старался получить максимум от моих учителей. Я пошел в Горный, зачитываясь книгами А. Е. Ферсмана о минералах. Естественно, придя в Институт, и не имея еще собственного полевого материала я держал контакты с двумя кафедрами – кристаллографии и минералогии. Кафедра кристаллографии числила себя прямой продолжательницей дела Е. С. Федорова. Она ежегодно проводила «федоровские чтения». Выращивание искусственных кристаллов оставалось в стороне. Исключением из этого был Владимир Андреевич Мокиевский. С ним я близко сошелся. Он был в это время увлечен возможной ролью природных электрических токов в минералообразовании в зоне окисления сульфидных месторождений. Я пошел по его стопам, он научил меня постановке задачи на эксперимент. Так возникли мои работы о роли электрических токов [ Erlich, 196 ]. Мы подолгу засиживались на кафедре, а потом шли пешком с Васильевского острова к Казанскому собору, болтая о разных общих вопросах. Можно сказать, что мы стали приятелями. В 1964 году я был так впечатлен образцами описанной нами кварцевой жилы на Гиссаре, что практически всю ее вывез в дар кафедре минералогии Горного. Д. П. Григорьев нашел образцы впечатляющими и показал мне генетические соотношения минералов. Описание этих соотношений стало основой статьи, опубликованной в сборнике научных работ студентов изданных под редакцией того же ДэПэ. Уроки геологической съемки, 1957-1963
После защиты диплома в 1957 году, я был распределен в Пятое геологическое управление. Надо ли говорить, я только и мечтал о том, чтобы продолжить работу в северных районах Срединного хребта. Еще год-два работы и можно было надеяться получить законченную картину четвертичного вулканизма в этой зоне, а то и надеяться защитить кандидатскую диссертацию... Но, не тут-то было! Начальство Управления сочло, что я слишком увлекаюсь геологией в ущерб работе на заказчика. И меня перевели в партию, работавшую в поле сплошных болот в центральной части Кольского полуострова. Тут, к счастью, подвернулось место геолога в одной из партий Института геологии Арктики, работавшей в алмазоносных районах Якутии к востоку от Анабарского щита. Мой институтский приятель С. А. Гулин был назначен начальником поисковой партии, и его место в съемочной партии оказалось вакантным. Так я стал геологом в партии А. Е. Клейзера. Спасибо начальству Пятого геологического управления, где я обязан был по распределению работать три года, оно не захотело портить мне жизнь и разрешило переход в НИИГА. Тут надо сказать о том, что представлял собой Институт геологии Арктики в те годы. Он был прямым наследником Управления Севморпути (ГУСМП), организации, непосредственно принадлежавшей МВД. К такому «родимому пятну мвд» можно причислить необычно большое число евреев в штате Института, в том числе и на руководящих должностях: два заместителя директора: по науке М. Г. Равич и по экспедициям Р. П. Могендович; начальник экспедиции Е.Я. Радин; руководитель темы по оценке алмазоносности севера Сибирской платформы М. И. Рабкин; зам. начальника Корякской экспедиции Б.Х. Егиазарова по хозяйству А. А. Якубовский; главный геолог договорной Уджинской партии Э. Н. Эрлих, и многие другие. Такое могла себе позволить только организация, руководители которой чувствовали за своей спиной надежную опору. У меня на глазах начальник нашей партии Л. Л. Степанов, человек другого ранга, отказался взять в партию идеально подходившего нам геофизика с еврейской фамилией, и когда тот спросил о причине отказа, прямо сказал: «Надо ли мне вам объяснять?» Характерен широко известный в институтских устных преданиях рассказ секретаря партбюро Мельницкого о том, как он носил в Октябрьский райком партии на утверждение список партбюро. Сидевший напротив него секретарь райкома взял список и начал отмечать «птичками» еврейские фамилии. Когда он дошел до фамилии директора института И. С. Грамберга, Мельницкий не выдержал и сказал: «Грамберг - не птичка!». Это выражение вошло в легенду и стало нарицательным для Игоря Сергеевича. Главное, чем занималась в это время геологическая служба страны, была государственная геологическая съемка масштаба 1:200,000. Территория Союза была поделена между территориальными геологическими управлениями. Результатом их работы были листы государственной геологической карты того же масштаба, которые вместе с объяснительной запиской к ним представлялись к защите на редакционном совете ВСЕГЕИ. Рецензирование карт и записок проводилось очень придирчиво. Так что защита листов гос. геологической карты превращалось в суровый экзамен на профессиональную зрелость. Предполагалось, что в результате этой коллективной съемки будет получена опись геологического строения всей территории страны и проведена оценка ее перспективности на все виды полезных ископаемых. Идти работать в удаленные приарктические районы никто, в общем-то, не хотел. И весь этот край отдали вновь образованному Институту геологии Арктики. Проводя съемку, этот Институт исполнял роль регионального геологического управления, работавшего в специфических арктических условиях. Опять же работа в приарктических районах характеризовалась тем, что она как нигде сводилась к закрытию «белых пятен». Таковыми были последовательно арктические острова (Новая и Северная Земля, Земля Франца- Иосифа) и прилегающие прибрежные районы Таймыр, плоскогорье восточной части Сибирской платформы, Корякское нагорье. Исполнителями и героями этих работ становились начальники экспедиций, Б.Х. Егиазаров или Е.Я. Радин. Зрелище проходческих работ было вполне подобно тому, как мы представляли «проклятую царскую каторгу». Проходчики стояли по щиколотку в воде и били кайлом под воду. Производительность была близка к нулю. Это можно было бы коренным образом изменить, если ввести буро-взрывные работы. Но этому категорически противился начальник экспедиции Е. Я. Радин. Введение буро-взрывных работ требовало резкого усиления работы по технике безопасности, а при любом несчастном случае руководство экспедиции шло под c уд. В не меньшей степени чужда была руководству экспедиции идея организации буровых работ. Хлопот с ними было не обобраться. Да и сама идея использования редкометальных и редкоземельных руд была глубоко чужда советской промышленности. Так что «ураганные» содержания редкоземельных руд и руд редких металлов в пробах Уджинского района оказались не востребованы, тем более, что заинтересовать министерства, проводящие разработку минеральных ресурсов не удалось. Мировой специалист в этой области Н. И. Гинзбург прямо признал, что в Союзе что делать с этими элементами не знают (и разведка КГБ не помогла!). И зачем их используют американцы никто не знает. Так Уджинские рудопроявления были просто уступлены Амакинской экспедиции и позднее начались бесперспективные толковища, кто первый открыл их и сам массив Томтор. После окончания съемки я не вылезал из Дирекции, настаивая на продолжении работ. И зам. Директора по науке М. Г. Равич изобрел-таки способ продолжения работ. Они были прямым окончанием съемки, ничего не меняющим, но дающим шанс! Были поставлены «годичные маршруты» для увязки границ и уточнения стратиграфии. Я был назначен начальником и мне вменялось в обязанность провести канавы с целью уточнения природы редкоземельного оруденения. Думаю, что решающую роль в этом решении сыграли не мои настояния, а тень пропущенной кимберлитовой трубки Ленинград, прямо-таки висевшая над Дирекцией НИИГА. Но главное, Главное было принято решение провести в тот же сезон вне всякой очереди аэромагнтную двухканальную съемку масштаба 1:10,000. Мы с руководителем аэромагнитной съемки А.М.Карасиком, скоординировали наши работы. Аэромагнитчики сбрасывали нам вымпелы с тем, чтобы мы в тот же сезон могли заверить обнаруженные ими аномалии. В итоге этих работ была откартирована так-называемая «центральная кольцевая структура» [ Erlich, Karasik et al., 1961]. С описанием ее была связана гипотеза о том, что немагнитное ядро ее образует карбонатитовое тело. Если гипотеза была справедлива, то мы имели дело с крупнейшим карбонатитовым телом мира. Перспективность массива на редкие земли и редкие металлы при этом резко возрастала. В то же время я развил идею единства Уджинской горст-антиклинали и линейной системы геофизических аномалий протяженностью несколько сотен километров аналогичную линейным аномалиям Мид-континент Хай в Северной Америке. В то же время профессор университета в Альбукерке, штат Нью Мексико, В. Элстон предложил мне написать статью о сибирских кимберлитах для сборника статей, составляемого его учеником В. Бристоу. Сборник вышел в 1985 году, но статья моя [ Erlich, 1985] была написана еще в середине 1960х. Там была развита идея геодинамики образования вихревых структур типа эпсилон [ Lee Sy - guan, 1958]. Я в это время с увлечением перечитывал всю литературу о глубинном строении и магматизме платформ. Мне нужны были год-два, чтобы закончить общую монографию о платформах и никаких полевых работ не требовалось – гроши, просто зарплата младшего научного сотрудника. Но и этого не нашлось. Меня перевели на съемку в Корякскую экспедицию. Район был интереснейший но работа по платформам откладывалась на неопределенное время. Оно оказалось равным почти полстолетия и была завершена сразу после моего выхода на пенсию [ Erlich, 2017]. Мне недвусмысленно дали понять, я «лишний человек» и одновременно предложили ехать геологом в Антарктиду. На этом фоне я написал письмо директору только-что основанного в Петропавловске Камчатском Института вулканологии Б. И. Пийпу с просьбой взять меня в этот Институт. Эти постоянные переезды на протяжении полувека дают полную картину положения в советской науке в двух основных типах организаций – НИИ принадлежавших министерству геологии и академическом институте вновь созданного Сибирского отделения Академии наук. Так неожиданно для меня самого эта статья стала не автобиографией, а анализом истории развития советской науки в целом. Ответное письмо Б. И. Пийпа меня поразило своим тоном. Он писал «Вам нет нужды представляться, мы хорошо знаем Ваши работы. Приезжайте. Мы дадим Вам квартиру в институском доме, Вы продолжите свои работы по северу Срединного хребта, мы поможем трудоустройсву Вашей жены и поместим детей в детский сад». То-есть это был верх мечтаний. Но – “скоро сказка сказывается, не скоро дело делается”. Дом был еще не готов и по началу я поселился в одном из кабинетов здания Института на Пограничной, то-есть попросту расстелил спальник на полу. Но главное, в Институт не знали что со мной делать. Я не входил в стандартные рамки, был по возрасту чужим Лаборатории вулканологии, но был уже кандидатом наук, и был много старше молодых сотрудников, попавших в Институт по распределению. Сходное положение было и с отношением к науке. Институт числился научно-исследовательским но принадлежал Министерству геологии, то-есть был второразрядным по определению. Перворазрядными считались институты Академии наук СССР. Но и тут он не числился первороразрядным, Всесоюзным (как ВСЕГЕИ). По этому случаю мы получали зарплату на 20% меньше наших коллег занимавших те же должности во ВСЕГЕИ и все это продолжалось до тех пор, когда И. С. Грамберг не превратил его во ВНИИОкеангеологии. Желанная первая буква аббревиатуры В (всесоюзный) дала нам желанную прибавку. Однако все сказанное о второразрядности НИИГА совершенно не касалось значимости высокого научного уровня достигнутого работами ряда его сотрудников. Работы Ю.Е. Погребицкого по тектонике Таймыра были и остались основой понимания геологии этой страны. Л. С. Егоров стал лучшим в стране специлистом по петрологии пород ультраосновной-щелочной формации Его описания массивов Маймеча-Котуйской провинции широко признаны, недаром сотрудники Красноярского геологического управления, проводящие разведку апатит-магнетитовых месторождений, постоянно вызывали его как консультанта. В. А. Милашев стал одним из самых авторитетных в мире специалистов по петрологии кимберлитов. Их работы далеко превосходили уровень ординаных докторских диссертаций. В. А. Литинский давно стал признанным авторитетом по методам поисков кимберлитов и оценке их алмазоносности. Практически полностью разработанный во всех деталях метод поисков кимберлитовых тел с помощью магниторазведки и геохимического опробования привел к открытию буквально всех кимберлитовых тел Союза и тех стран, где работали советские геологи (в частности, в Африке). Его работы по методам пересчета данных поля силы тяжести далеко опередили свое время. Они позволяют дать прогнозную оценку нефтегазоносным районам советской Арктики. И все это не благодаря помощи Института геологии Арктики, а вопреки его сопротивлению. Везде они считались бы гордостью своей организации. Но не в НИИГА. Его работы по методам пересчета данных поля силы тяжести далекоп опередили свое время. Они позволяют дать прогнозную оценку нефтегазоносным районам советской Арктики. По контрасту со значимостью сделанного, Дима стал прямо-таки воплощением образа «лишнего человека». И все потому, что «обворовал» главного геофизика Института саму Р. М. Деменицкую, не поставив ее соавтором одной из своих работ. Отнюдь не главной. Но тут был нарушен принцип – право первой ночи то есть на соавторство во всех работах своих подчиненных. И это Раиса Михайловна не могла потерпеть. В соответствии с общими принципами системы результаты его работ широко использовались, выкинут был сам автор. История эта детально описана самим Литинским [Litinsky, 19]. И я не ошибусь сказав, что главное применение результаты его работ найдут в будущем. Сегодня российская промышленность не способна производить буровые платформы, обеспечивающие поиск нефти и газа в море. А, когда это время неизбежно наступит, оценка перспективных запасов углеводородов в арктических морях Димины оценки перспективных структур, основанные на предложенных им методам обработки гравиметрических данных, станут практическим инструментом поиска и тогда, когда российские ракеты полетят точно к цели –крупнейшим американским городам, точность эта будет обеспечена гравиметрическими исследованиями арктического бассейна, выполненными Димой и его коллегами. Аналогичным было положение в отношении наземных работ. И. С. Грамберг счел подходящим кандидатом на открытие массива Томтор Е. М. Эпштейна [Epstein, Danilchenko, Postnikov, 1994]. Ранее он работал в Маймеча-Котуйской провинции, занимался тамошними карбонатитами, отстаивая их осадочный генезис в противоположность Л. С. Егорову и заменяя анализ их генезиса ссылками на работы Д. С. Коржинского [Korzhinsky, 1945]. Чувствуя надежную опору за спиной и желая угодить заказчику, Ефим Михайлович попросту изложил свою версию того, как был открыт Томтор. Ярости амакинцев не было границ. Они потребовали «убрать этого типа», что и было сделано. С тех пор никто о нам не слыхал. Его руководитель Натан Ильич (русскоязычный вариант его имени Анатолий Ильич) Гинзбург относился к нему в общем благожелательно и бредовые идеи о генезисе карбонатитов относил за счет помешательства ума - «со всяким может случиться». Игорь Сергеевич естественно после этого прослыл «лучшим из возможных директоров». После его смерти Институт был назван его именем. Только вот публикации шли своим чередом потому что в Институте существовал разработанный во всех деталях процесс публикации своих трудов. Говоря об облике Института, заложенным еще при его основании, нельзя не сказать об огромной роли его заместителя Директора по науке М. Г. Равиче. Человек он был малоприятный, с отчетливыми связями с КГБ. Но это благодаря ему в Институте был создан редакционно-издательский отдел занимавшийся подготовкой к публикации и прекрасная типографская база обеспечивавшая оперативную публикацию трудов. Не меньшее внимание уделялось им и лабораторно-аналитической базе. Спектральная лаборатория (Р. С. Рубинович) пользовалась заслуженной славой среди однотипных лабораторий Ленинграда. Такова же была лабратория для экспрессного определения температуры гомогенизации газово-жидких включений (В.С. Аплонов) на основе их декрепетации, лаборатории изучения физических свойств пород (Л.М. Марморштейн, Л.А. Чайка). М. Г. Равич буквально «держал порох сухим», держа в Институте специалистов по физике геологических процессов. На нашем тогдашнем уровне они не находили применения, но их важная потенциальная роль в будущем не вызывала сомнения Я очень хотел продолжать работы по платформам, но последовала интермедия с моим переводом на Корякское нагорье, предложением ехать геологом в Антарктиду,письмом с жалобой в ЦК партии. М. Г. Равич, обосновывая эти решения, сказал: «Что вам надо? Вы же защитили, отдохните, дайте защитить другим»... Но я не хотел отдыхать я хотел заниматься наукой, по возможности наукой фундаментальной. Для вручения мне ответа ЦК дирекцию и меня вызвали в Смольный. Принявший нас инструктор обкома партии сказал: «Никакой обиды вам нанесено не было. Идите и работайте». Борис Васильевич прокомментировал: «Знаете, что вам хотели сказать этим ответом? И добавил: « Сколько можно писать!». М. Г.Равич прибавил к этому: Ну зачем вы это сделали? Прошел бы год, мы бы снова подали ваши документы и вы бы спокойно прошли». А теперь – кончено. Увидят вашу фамилию и спросят – это тот, что письма писал? Не-ет. Этого пускать нельзя». В структуре НИИГА совмещались производственные экспедиции, проводившие съемку, и научные отделы, обеспечивавшие качественность картирования и решавшие вопросы территориальной стратиграфии толщ, петрологии магматических пород и дававшие оценку металлогении. Все это делалось на чисто региональном уровне. Решение фундаментальных проблем не входило в задачи сводок ни наших, ни ВСЕГЕИ. Чтобы проводить работы в приарктических районах, требовалось прежде всего создать необходимую инфраструктуру. Это обеспечивалось строительством базы – палаточного городка с примыкающим аэродромом, складом и мощной радиостанцией. Заброска снаряжения и оборудования проводилась спецрейсами грузовых самолетов типа АН-22, идущих прямо из Ленинграда, через аэродром Косистый (примерно на широте устья Хатанги) или через Тикси к базе.
Вверху – столица экспедиции Биректа. На высокой террассе р. Оленека «Дворцовая набережная», выстроились ряды многоместных палаток «индий»; В середине: выброшенная в поле партия строит свою базу; В центре – начальник экспедиции Е.Я. Радин с женщинами-минералогами (из коллекции И. Ф. Гориной); внизу слева: Лабаз. Здесь складывались все наши продукты на полевой сезон. Поднятый на обструганных столбах на высоту человеческого роста он не дает возможность расхитить наши запасы главным врагам – леммингам. База экспедиции – ее столица. Отсюда проходило все регулирование жизни съемочных партий. Они прибывали сюда из Ленинграда и уже отсюда их разбрасывали по районам работ. Отсюда нам доставляли почту из дома и слали бухгалтерские указания:»Фарш колбасный по цене....рублей за банку считать сосисочным по цене такой-то». И, главное, слали поправки к тех. заданию и на вылете проводили приемку полевых материалов. Это была задача главного геолога и главного геофизика. Как это реально выгдядело зависело от степени творческого подхода этих двоих. Наш главный геофизик, В. А. Литинский (ныне в Денвере, штат Колорадо), разработал в деталях методику проведения магниторазведочных работ при поисках кимберлитов, а, в случае, если вмещающими породами трубок были не полностью немагнитные известняки кембрия, обосновал методику применения геохимических методов исследования и сам ездил по партиям, проверяя правильность проведения работ на местах. В нашу же задачу входило следить за правильным проведением попутной радиометрической съемки. Все это было опубликовано и вошло в норму для всего СССР. Наш главный геолог, В. Я. Кабаньков, специалист по стратиграфии кумбрийских толщ, тщательно следил за выполнением инструкций по проведению геологической съемки масштаба 1:200 000 и суммировал результаты работ, готовя партии к грядущей сдаче листов государственной геологической съемки в редсовете ВСЕГЕИ. Мы были обязаны во время представлять экспедиции данные о выполнении месячного плана, чтобы дать руководству экспедиции возможность актировать объемы выполненных работ и получить под них деньги.Расписание забросок проходило у нас в Биректинской экспедиции по следующему сценарию. Партии прибывали в начале мая с тем, чтобы их немедленно выбросить в районы работ с посадкой на лед. По прибытии в район каждая партия создавала свою базу, строя лабаз (склад) на обструганных столбах высотой около 2м, для предохранения продуктов от зверья, прежде всего от наших злейших врагов - леммингов, и каркасы для палаток.
Эпоха геологической съемки. Главный способ внутренней транспортировки съемочных партий стадо вьючных оленей – примерно 100 голов на партию, к которым придавались одна-две семьи каюров. Фото Е. Н. Каменева. Из архива Э. Эрлиха
Потом наступал блаженный период весновки до полного схода снега – обычно до начала июня. Делать было нечего. Пропойцы-работяги за это время приходили в себя, руки переставали дрожать, сами становились гладкими, любо посмотреть. Но вот снег сошел и начинался период ударной работы, надо было успеть сделать как можно больше до появления комаров (начало июля), выйти на большую реку и там дней десять проводить камералку. Картина геологической съемки будет неполна, если не рассказать о том контингенте людей, без которого она была бы невозможна. Речь идет о сезонных рабочих. Это они били канавы и шурфы, они вместе с геологами составляли маршрутные пары. По составу они давали представительный «срез» ленинградского пролетариата. Среди них были грузчики складов гос. резервов и высококвалифицированные специалисты по точным оптическим приборам и монтажу орудийных башен. Их посылали для шеф-монтажа производимых ленинградскими заводами орудийных башен во все порты страны. Они нанимались на полевые работы, чтобы уйти от одуряющего однообразия ленинградской жизни, прийти в себя от непрерывной пьянки и хоть как-то материально поддержать семьи. Смысл нашей работы им был непонятен и чужд, не даром они называли все происходившее «затянувшейся новеллой Джека Лондона».
Высшей наградой съемщикам были обобщения региональных материалов. В НИИГА обобщение велось тематическими партиями. Второй уровень сводок был в соседнем с нами Всесоюзном геологическом институте (ВСЕГЕИ). Это там создавались обобщающие карты Сибирской платформы, Союза, трассы БАМа и, как вершина, геологическая карта Тихого океана и стран его обрамления. Над ними работали такие мастера как Т. Н. Спижарский, Н. С. Малич, Л. И. Красный. Здесь следует заметить, что обобщение материалов, что у нас в НИИГА, что во ВСЕГЕИ, шло исключительно по пути чисто географического расширения территории базы фактического материала без перехода к геодинамическому подходу условий образования типов структур. Сказалось и то, что в Горном нас готовили как геологов широкого профиля. Нам не читали специальных курсов ни по петрологии, ни по тектонике. Блестящие лекции М. М. Тетяева не спасали положения это были не более, чем отдельные замечания по отдельным вопросам и прочитанные человеком старого поколения. Лучше было положение в университетах, где готовили специалистов в отдельных отраслях наук о Земле. В довершение всего мы совершенно не знали новейших западных публикаций. Работы японских и голландских геологов о динамически активных структурах Японии и Индонезии дошли до нас с опозданием на более чем десять лет и то не в оригинале, а в адаптированном переложении академика А. Н.Заварицкого Даже такие основополагающие понятие как сейсмофокальная зона и данные морских гравиметрических работ пришли к нам только тогда. В сегодняшней русскоязычной литературе сейсмофокальную зону иногда называют «зоной Заварицкого», что является вопиющим искажением истории исследований. Они были в полной мере освоены геологами европейских стран, Новой Зеландии и США. Именно эти материалы, в соединении с первыми данными о только-что открытой глобальной системой срединно-океанических хребтов, легли в основу гипотезы (ныне- теории) «тектоники плит». Я очень переживал отсутствие научного руководства, считая что оно могло бы восполнить пробелы образования, но все наши попытки с Валерой Ермаковым заручиться им от А.Е. Святловского завершились неудачей. Он был слишком занят собой. Наследие ГУСМП сказывалось даже в традициях продовольственного снабжения полевых партий нестандартными продуктами вроде консервированного сыра. Работы Института по закрытию «белых пятен» принесли огромное количество геологического материала, в том числе открытие Маймеча-Котуйской провиции ультраосновных-щелочных пород и Оленекской провинции кимберлитов. Описание геологии Корякского нагорья было выполнено геологами НИИГА профессионально, но вполне стандартно. Много лет спустя сюда пришел Ю. Б. Гладенков, принесший с собой геодинамический подход к геологии этого края. Мы лишь дали ему материал для его построений. Очень стандартен и низок был уровень петрологических построений. Новые веяния в этой области пришли лишь благодаря работам специалистов нового поколения - Л. С. Егорова, для Маймеча-Котуйской провинции, и В. А. Милашева для кимберлитов северо-востока Сибирской платформы. Таймыру повезло, поскольку его геология была дана Ю. Е. Погребицким. Талантливый самородок Л.А. Чайка так и остался невостребованным. Нестандартное мышление его не помещалось в колодки отчетов. В результате его попросту «выслали» в лабораторию физических свойств горных пород, в рентованном подвале соседнего дома на Писарева. Там он изобретал способ хранения фактических данных на перфорированных карточках – «изобретение велосипеда» или «новый» подход в преддверии уже изобретённого интернета. Чтобы не оставлять работы на платформе незавершенными, я защитил в 1962 году во ВСЕГЕИ кандидатскую диссертацию по нейтральной теме «Тектоника Суханского прогиба». Подозреваю, что термин этот был известен только в НИИГА и лишь специалистам по стратиграфии кембрийских отложений (в частности, нашему главному геологу В. Я. Кабанькову). C пециальным в диссертации был раздел о закономерностях пространственного распределения кимберлитового и траппового (базальтового) магматизма. Так я опять стал «лишним человеком». В этот раз начальство не прикрывалось стыдливо ссылкой на «заказчика», министерство обороны, дававшее Пятому Геологическому управлению деньги на составление «военно-технических справочников». В 1958 году никаких заказчиков в природе не было. Типичность любого геолога как лишнего человека отметил А. С. Грибоедов создав типичный образ Чацкого: «А если Бог в душе его пробудит жар К искусствам творческим, высоким и прекрасным, Они тотчас – разбой, пожар И назовут его мечтателем опасным» Сдвиг науки на восток. мой переезд на Камчатку, 1963 Письмо Б. И. Пийпу я написал в 1962 году. Незадолго до того, в 1957 году, по инициативе академиков М. А. Лаврентьева, С.Л. Соболева и С.А. Христиановича, было создано полуавтономное от центральной Академии Сибирское отделение АН СССР, с центром в новосибирском Академгородке, объединившее под своей эгидой все научные учреждения, расположенные к востоку от Урала. Это была программа «сдвига науки на Восток». Наука в старой организационной форме себя исчерпала, стимулы для научного поиска больше не работали. Осуществление исследовательских работ в новых центрах на Востоке страны наталкивалось на две почти непреодолимые трудности. Переезд видных ученых из привычной Москвы требовал создания в новых районах по крайней мере сходных условий жизни – жилья, мед. обслуживания, снабжения и это в условиях резкой, непреодолимой разницы между Москвой и любым другим районом России. Ликвидировать этот разрыв государство было не в силах и поэтому шло на паллиативные меры, создавая исключительные условия для переезжающих ученых – особую систему медицинского обслуживания, специального строительства жилья для сотрудников новых институтов, предоставления им специального снабжения. Разница в товарах в магазинах Новосибирска и Академгородка бросалась в глаза. В итоге все жители Новосибирска ездили в Академгородок за продуктами. Резко облегчались условия поездок на международные научные конференции, для новых Институтов, выделялись дополнительные места членов-корреспондентов, дополнительный листаж научных публикаций. Старшие научные сотрудники при переезде автоматически становились заведующими отделов, получая «под свое крыло» молодежь. Но это последнее было заведомо обречено на неудачу – московские ученые не привыкли к руководству научными коллективами. Третий этап – выпуск сборника Международного вулканологического Бюллетеня, посвященного Камчатке, который вышел в 1979 году [ Erlich, Gorshkov, eds., 1979]. С тех пор он начал жить своей жизнью. Каждый может легко ознакомиться с ним оценить его, особенно сейчас, когда он размещен В. И. Белоусовым на интернете. Именно на этом фоне надо рассматривать два судьбоносных решения: 1. Впервые получение одного из высших академических званий «член-корреспондента» ставилось в прямую зависимость не от результатов исследований, а от административного поста (директора Института). При предоставлении жилья академику полагался коттедж, члену-корреспонденту пол- коттеджа, старшему научному сотруднику – трехкомнатная квартира, младшему научному сотруднику кандидату наук –двухкомнатная квартира и т. д. Это для Новосибирска, а в Петропавловске-Камчатском и этого не было. В итоге создавалась настоящая кастовая система. 2. Второе положение настолько постыдно и настолько противоречит обычным нормам научной этики, что оно не было даже зафиксировано письменно, хотя наш директор С. А. Федотов ссылался на «всем известное» право любого администратора на соавторство в работах своих подчиненных. Это рассматривалось как компенсация за усилия, потраченные на администратрирование. Исследовательские результаты расссматривались как второстепенные. Можно себе представить в каком застойном состоянии пребывала советская академическая наука если, не взирая на антинаучное признание примата административной работы над собственнно-исследовательской, сама передача научной работы в более молодые руки немедленно привела к резкой интенсификации исследований во вновь созданном Сибирском отделении. Но сдвиг этот был чисто механический, без коренной реформы системы организации науки. Просто ученым давали новые должности и материальные блага, как премию за переезд из насиженных мест в необжитые края. Но даже эта полумера в результате передачи планирования научной тематики непосредственно в руки ведущих ученых молодого поколения дала свои плоды. В области наук о Земле школа Сибирского отделения резко выделялась широким применением статистических методов и вниманием к физико-химическим основам петрологических процессов. Таким образом, мое решение о переезде в Петропавловск-Камчатский полностью отражало общие тенденции развития советской науки. Региональные научные городки возникли во всех областных центрах Сибири и Дальнего Востока. Это были комплексные институты в области наук о Земле, придаваемые в помощь местным обкомам партии и теоретически способные ответить на любые нужды региона. В зависимости от специфики региона им придавалась разная специализация. Так магаданский институт, естественно, специализировался в области месторождений полезных ископаемых, иркутский ориентировался на гохимию, учитывая наличие кадров аналитиков- в этой области. Его так и называли СибГЕОХИ. Специализация Сахалинского института менялась каждый раз с приходом нового директора. Традиционно каждый новый директор начинал с перекраски крыши здания института. Однажды на крыше было три полосы разных цветов – так скоропостижно происходила смена директоров. Институт вулканологии изначально создавался не как комплексный, а как специализированный, ориентированный на фундаментальные вопросы геологии, материал для решения которых в СССР в изобилии давали только Камчатка и Курилы. И отношение к нему было особое: традиционно сохранялась прямая его связь с центральной академией в Москве, минуя Новосибирск, выделялись дополнительные штатные единицы и дополнительный листаж научных изданий и, наконец, облегчалась возможность поездок на международные конференции. Так для меня в 1966 году впервые открылась возможность поехать с докладом на Международный Тихоокеанский конгресс в Токио. Мне глубоко чужда была подозрительность в отношении иностранных коллег, вызванная идеологическими причинами и боязнью провокаций с их стороны,нашим плохим английским и буквально полным отсутствием денег. Характерным примером такого поведения была С. И. Набоко. И. И. Гущенко острил: «Я вот все смотрю, кто бы мне денег предложил!». Я смотрел на наших зарубежных коллег, как на товарищей по работе и был рад представить наши камчатские материалы и свои идеи новой международной аудитории. Своего корявого английского я не стыдился. Мне было важно, чтобы меня поняли те, с кем я говорил. Может быть, именно поэтому на меня обратил внимание общепризнанный лидер японских вулканологов и геологов профессор М. Минато. Он предложил мне стать председателем одного из заседаний конгресса – невиданная для советских делегатов честь и ответственность. Я близко сошелся с ведущим японским вулканологом Кензо Яги. Иностранные вулканологи были рады убедиться, что у их российских коллег «нет рогов и копыт». После конгресса, на экскурсиях на острове Кюсю я получил возможность ознакомиться с огромными полями кислых игнимбритов, окружавших кальдеру Асо, так называемыми Асо-лавами, и осмотреть другой центр кислого вулканизма – вулкан Унзен. Учитывая различия аудитории, к которой я обращался, в отличие от статей на ту же тему в русскоязычных журналах, я широко привлекал материал по зарубежным вулканическим центрам. Это сказалось и в моем докладе на конференции по континентальному вулканизму в Санта Фе, штат Нью Мексико, в 1986 году. Непосредственно после выхода статьи о вулканотектонических депрессиях Камчатки [ Erlich, 1973], я привлек материалы по вулканам Аляски, Японии, Италии, широко используя космические снимки. В итоге были сформулированы различия моделей образования вулкано-тектонических структур вокруг центров базальтового вулканизма, таких как Фудзи и Хаконе в Японии, Этна в Италии, вулкан Вениаминофф на Аляске. Предполагалось, что оседание вокруг этих вулканических центров отражало понижение давления в зоне магмообразования, подобно понижению давления вокруг долго действующей нефтяной скважины. Я очень переживал отсутствие научного руководства, считая что оно могло бы восполнить пробелы образования, но все наши попытки с Валерой Ермаковым заручиться им от А.Е. Святловского завершились неудачей. Он был слишком занят собой.
Вулканический материал Фудзи подтекает под эрозионно-тектонический уступ обрамления вулкано-тектонической депрессии. Фудзи играет роль нефтяной скважины, эксплуатация которой вызывает понижение давления в нефтеносном пласте, что и приводит нефтеносном пласте, что и приводит к просадке поверхности. к просадке поверхности.
Диаметрально противоположная модель образования предполагалась для вулкано-тектонических депрессий, формирование которых ассоциировалось с массовыми выбросами кислого пирокластического материала – пемз и игнимбритов, отражающих момент внедрения в верхние горизонты коры интрузий гранитоидов. Таковы Паужетская, Узон-Гейзерная и Большесемячинская вулкано-тектонические депрессии на Камчатке, кальдера Асо и вулкано-тектоническая структура Унзен на острове Кюсю в Японии, кольцевые структуры, обрамляющие вулканы Угашик и Аниакчак на Аляске. После кальдерообразующего выброса на этих центрах в течение длительного времени продолжается посткальдерная вулканическая активность, причем питающим очагом служит коровая интрузия гранитоидного состава, локализованная в ходе кальдерообразующего этапа. Локализация кальдер и вулкано-тектонических депрессий этого типа контролируется трансфомными разломами [ Naboko, 1974].
I – докальдерный этап вулканическрй активности; II – кальдерообразующая стадия; III – стадия пост-кальдерного вулканизма; > 1 – базальтовый щитовой вулкан; 2 – центр кислого вулканизма докальдерной стадии; 3 – поле локализации эруптивных центров кальдерообразующей стадии кислого вулканического материала; 4 – поля развития игнимбритов; 5 – дуговые системы трещин заполненные кислой магмой; 6 – направление горизонтального смещения магматического очага кислой магмы; 7 – напраавление течения игнимбритов; 8 – маар озера Дальнее; 9 – экструзивные купола, сложенные кислыми вулканическими породами; 10 – воронка взрыва; 11 – поля развития гидпртермально-измененных пород; 12 – сброс вдоль границы вулкано-тектонической депрессии; 13 – зоны глубинных сдвигов с указанием относительного смещения крыльев; 14 – зоны оперяющих трещин глубинного сдвига; 15 – направление оттока термальных вод от глубинного сдвига по дренирующей системе трещин; Но вернусь к моему началу в Институте вулканологии. Для меня на новом месте плохо было с главным –тематикой моей работы. Дирекция откровенно не знала, что со мной делать. «Мой» объект - вулканизм Срединного хребта был отдан Н. В. Огородову и его группе. Огородов считался «своим кадром», был родом из Ключей и уж как-то ущемлять его никак не хотели. Растерянность дирекции в отношении меня была результатом неопределенности моего положения. Я не принадлежал к сотрудникам Лаборатории вулканологии, но был уже кандидатом наук и был достаточно известен своими работами по четвертичному вулканизму, как отмечал в письме Б. И. Пийп. В равной мере недоумение и недоверие вызывал я и у молодых сотрудников, пришедших в Институт вулканологии прямо с университетской скамьи. Отчетов они не читали, поскольку ссылаться на них все равно было нельзя из-за секретности; впрочем, явно не читали и опубликованных работ, если те не были прямо по их специализации. Они пришли прямо с институтской скамьи, а я прошел школу съемки в НИИ, принадлежащем министерству геологии. Мои постоянные переезды на протяжении полувека дают полную картину положения в советской науке в двух основных типах организаций – НИИ принадлежавших министерству геологии и академическом институте вновь созданного Сибирского отделения Академии наук. Так неожиданно для меня самого эта статья стала не автобиографией, а анализом истории развития советской науки в целом. Но – «скоро сказка сказывается, не скоро дело делается». Дом был еще не готов и по- началу я поселился в здании Института на Пограничной, то-есть попросту расстелил спальник на полу одного из его кабинетов. Но главное, в Институт не знали что со мной делать. Я не входил в стандартные рамки, был по возрасту чужим Лаборатории вулканологии, но был уже кандидатом наук, и был старше молодых сотрудников, попавших в Институт по распределению. Наконец, С. И. Набоко предложила мне составить сборник имеющихся химических анализов вулканических пород Камчатки и Курил. Я обратился к молодым сотрудникам с просьбой дать для сборника новые, неопубликованные анализы, естественно, с гарантией указания кем они предоставлены. Тем не менее, я вызвал волну недовольства и опасения в том, что за неимением «своего материала» я собираюсь обобрать тех, кто предоставил анализы. Но этого показалось мало. Хозяевам неопубликованных ранее анализов захотелось, чтобы они были указаны авторами объяснительной записки к собственно собранию аналитического материала. Было абсолютно ясно: эти «научные работники» не понимают смысла самого выражения «обобщающая работа» и не знакомы с понятием «коллектив авторов». Текст с анализом закономерностей петрохимии вулканических пород был написан мной без чьего-либо участия. Ставить там соавтором кого бы то ни было я не собирался. Когда текст был написан, он очень понравился и С. И. Набоко и Л. А. Башариной (заведующей хим. лабораторией Института). Но от этого мне легче не стало. В итоге сборник «Петрохимия вулканических пород Камчатки и Курильских островов» был издан без фамилии автора на обложке. Я числился составителем и редактором. Сегодня в списке опубликованных работ сотрудников Института указаны отдельные главы сборника анализов «Петрохимия вулканических пород» под двойным авторством - Эрлих и хозяин анализа. Так-что найти эти работы невозможно. Зря старались потрафить «хозяевам анализов». Они давно забыли об той истории. Что делать дальше, мне надо было придумывать самому, и я выбрал тему «соотношение вулканизма и тектоники островных дуг и сходных с ними геотектонических систем». Дирекция вздохнула с облегчением. Учитывая то, что эта тектоника «числилась» за А. Е. Святловским, который в это время был директором Ключевской вулканостанции меня и отправили к нему в Ключи. Так мы, с уже бывшим в Ключах В. А. Ермаковым, занялись структурой и вулканизмом Ключевской группы вулканов. Валера, не считая Леши Шанцера, был единственным из институтской молодежи, имевшим опыт работы на геологической съемке. Я с искренним удовольствием вспоминаю два полевых сезона с ним. Один - на юго-западе Ключевской группы, в бассейне реки Студеной, второй – на Харчинской группе вулканов между собственно Ключевской группой и Шивелучем. Попытка организовать геофизические работы сорвалась. После того, как все попытки найти руководителя на Ключевской вулканостанции провалились, я кажется впервые осознал необходимость самому определить тему своей работы. Так я впервые сформулировал тему своих будущих исследований «Соотношение современной структуры и четвертичного вулканизма в западной части Тихоокеанского кольца». Слово соотношение отражало жадность к объему исследования, который должен был включить как петрологию вулканических пород, так и структуру вулканических поясов. Говоря о тектонике, имел в виду структурную геологию, а не привешивание ярлыков о принадлежности к тому или иному типу тектонических систем. И, характерно, что выбирая тему я сознательно ушел от территории Камчатки и Курил. Это было отражением стремления уйти от постоянных претензий «институтской молодежи» в том, что я пользуюсь их материалами – попросту ворую их замечательные материалы. Так я начал работу над книгой, вышедшей в 1973 году. Но главное работал по этой тематике до сегодняшнего дня. Выбор оказался удачным. Материал давал множество поворотов темы от наиболее общих как формирование гранитного слоя коры, соотношения метаморфических и магматических процессов до отдельных проблем образования вулкано-тектонических структур и вопросов петрологии разного типа вулканических процессов. Большие возможности открывало резкое расширение базы фактического материала как за счет размеров рассматриваемой территории требовавшей освоения огромного нового литературного материала, рассмотривающего геологические данные с точки зрения «западных» авторов, так и принципиально-новых источников фактов, таких как спутниковые снимки. Это дало мне возможность закончить начатую работу. Но в полной мере я смог оценить это на последнем этапе жизни, когда я вышел на пенсию и стал финансово и административно независимым. В 1966-1971 году вышли из печати мои статьи о результатах аналитических работ по массиву Томтор (радиометрическому датированию пород и руд, декрепетации минералов и различных типах апатитовых руд), окончательно доработана монография о современной структуре и четвертичном вулканизме Камчатки. В середине 1960ых годов впереди замаячила Генеральная Ассамблея Международного Геодезического и Геофизического союза в рамках которой IAVCEI (Всемирная Ассоциация вулканологии) должна была провести симпозиум по кислому вулканизму. Именно на этом фоне я организовал поездку на вулкан Хангар, который казался мне ключом к решению вопроса о генезисе кислых магм – мощный центр четвертичного кислого вулканизма здесь был непосредственно наложен на гранито-гнейсовый комплекс гранитного слоя коры. В состав отряда вошли минералоги из Новосибирского Академгородка И. Т. Бакуменко, Н. А. Шугурова, Н. М., Попова [ Bakumenko, Shugurova, et al., 1970]. Их исследования по изучению газово-жидких включений в ксенокристаллах кварца из пемз Хангара дали принципиально-новый материал о составе газово-жидких включений и температуре их гомогензации (12000 C ). С точки зрения решения проблем геодинамики Камчатки значительным событием был выход двух статей в журнале Геотектоника [ Erlich, 1964, 1966]. Эти работы закрепили мою точку зрения на связь вулканических поясов с линейными грабен-синклиналями, и дали описание нового для Камчатки типа вулкано-тектонических структур. Позже вышла из печати сделанная ранее коллективная статья о четвертичных кальдерах Камчатки [ Zubin et al., 1971]. Мне оставалось только одно – заняться сводкой литературного материала по районам материала по четвертичному вулканизму и современной структуре Камчатки проходило в разных формах и в несколько этапов. Первый этап познания материалов Камчатки был итогом освоения результатов геологической съемки масштаба 1: 1,000,000. Он ознаменовался открытием огромных масштабов новейшего базальтового вулканизма Срединного хребта и продолжающейся фумарольной активности вулкана Ичинского. Признание широких масштабов верхнеплейстоцен-голоценового вулканизма на Срединном хребте было возвращением к наблюдениям С. П. Крашенинникова в середине XVIII века о том, что к северу от Шивелуча (то-есть, в Срединном хребте) есть много активных вулканов, из которых «иные дымят, а другие огонь бросают». На втором этапе осознания камчатского материала я выполнил литературную сводку материала на тему соотношения современной структуры и четвертичного вулканизма в западной части Тихоокеанского кольца и в 1968 году представил ее, как рукопись книги для издания в Сибирском отделении издательства Наука в Новосибирске. В ней я отработал основные идеи, связанные с данной тематикой. Вышла она из печати много позже [ Erlich, 1973]. Наверное главным достижением этой работы была установленная связь вулканических поясов со стрктурами типа грабен-синклиналей. Это было диаметрально противоположно точке зрения А. Е. Святловского об исключительной связи вулканизма с процессами поднятия. Н. В. Огородов приложил немало усилий, чтобы доказать отсутствие грабен-синклиналей на Срединном хребте, а позже и на юге Камчатки. Он, однако упустил из виду самую важную вещь – важна была не ассоциация вулканических поясов с той или иной формой структуры, а с определенной динамической обстановкой в частности с общим растяжением. На Срединном хребте место грабен-синклинали заняли линейные зоны шлаковых поясов и лавовых вулканов (рис. 12). Трудно сказать, почему большие масштабы вулканизма Срединного хребта не были отмечены А. Е. Святловским. Он имел все возможности это сделать по результатам аэрогеологической экспедиции к вулканам Камчатки, которые он интерпретировал. Более того, если он по высокомерию не читал производственных отчетов, то несомненно знал мои статьи на эту тему, которые сам же и рекомендовал к скорейшей публикации в печати [ Erlich. 1958, 1960а]. Поверхность базальтовых лавовых потоков была ни в малейшей степени не затронута эрозией. И А. Е. Святловский, безусловно, понимал значимость выводов из этих фактов. Именно это был период максимального распространения универсальной металлогенической концепции, развитой на примере Камчатки Г. М.Власовым. Он был переведен из Хабаровска во ВСЕГЕИ, в Ленинград. Здесь у него было два ученика – М. М. Василевский и В. К. Ротман. Здесь он написал том серии Геологии СССР, «Камчатка и Курильские острова» [ Vlasov, 1964]. Мне оставалось только одно – заняться сводкой литературного материала по четвертичному вулканизму и современной структуре Камчатки. Оно проходило в разных формах и в несколько этапов. Это было диаметрально противоположно точке зрения А. Е. Святловского об исключительной связи вулканизма с процессами поднятия. Третий этап – выпуск сборника Международного вулканологического Бюллетеня, посвященного Камчатке, [Erlich, Gorshkov, eds., 1979]. С тех пор он начал жить своей жизнью. Каждый может легко ознакомиться с ним оценить его, особенно сейчас, когда он размещен В. И. Белоусовым на интернете. Мы со Львом Тихомировым тогда резко выступили против отдельных положений этой концепции. Я сошёлся со Львом на общем для обоих желании (преступном, с точки зрения начальства Пятого геологического Управления) - заниматься главными вопросами геологии Камчатки. Мы составили сводку данных шлихового опробования и написали на её базе записку «Основы металлогении Камчатки» [Tikhomirov, Erlich,1961]. Статья была довольно наивной, но в ней имелась интересная деталь: по всему югу Камчатки, в поле развития кислых игнимбритов, в шлихах присутствовали зерна самородного олова. Откуда они - никто не понимал. Нам сказали: «В Природе этого не может быть! Это просто обломки олова со шлиховых лотков, засоряющие пробы». Мы, к сожалению, присоединились к осторожным голосам. Так открытие того, что присутствие самородных металлов в тяжелой фракции вулканических пород составляет их характерную черту, было задержано почти на 20 лет и было признано лишь после исследований Ф. Ш. Кутыева. Это послужило мне уроком того, что в Природе все возможно, даже то, что мы не понимаем сегодня. Поэтому, когда оказалось, что ядро Томтора образует крупнейшее в мире карбонатитовое тело, я безоговорчно признал это. Н. В. Огородов приложил немало усилий, чтобы доказать отсутствие грабен-синклиналей на Срединном хребте, а позже и на юге Камчатки. Он, однако упустил из виду самую важную вещь – важна была не ассоциация вулканических поясов с той или иной формой структуры, а с определенной динамической обстановкой в частности с общим растяжением. На Срединном хребте место грабен-синклинали заняли линейные зоны шлаковых поясов и лавовых вулканов (рис.11).
Линейное расположение шлаковых конусов и базальтовых лавовых вулканов отражает их локализацию вдоль даек, заполняющих трещины зияния, что свидетельствует об обстановке общего растяжения [ Erlich, 2014]. В 1968 году я также представил рукопись этой работы как докторскую диссертацию в Ученый совет Института геологии и минералогии СО АН СССР. На работу было достаточное количество положительных отзывов, включая отзывы иностранных коллег (что сыграло отрицательную роль – «они нам не указ!»). На заседании был зачитан только один отрицательный отзыв А.Е. Святловского, который не мог простить мне отрицательную рецензию на его довольно халтурную брошюру. Собственно о самой моей работе в его отзыве ничего сказано не было, кроме голословного утверждения, что все идеи заимствованы у него. В подтверждение приводилась хронологическая таблица, из которой следовала и так очевидная истина, что он в геологии много раньше и дольше меня. Помимо того автор внес в свой «отзыв» тему, не имеющую отношения к обсуждению научной работы. Он клеветнически заявил, что я прямо связан с КГБ, на который работал и угрожал ему. И всё это в молчании принял Ученый совет и директор нашего Института Г. С. Горшков (уж он-то понимал абсурдность обвинений Святловского, иначе зачем бы стал «угощать» меня Декларацией Прав Человека, когда мы возвращались из зарубежной поездки). Да и моему «оппоненту» он, видимо, знал цену, раз не удерживал, когда тот уходил из Института, не проходя переаттестацию ). По результату голосования мне не хватило пол-голоса (был один воздержавшийся), чтобы защита прошла. Академик Яншин потребовал переголосования, но результат был тот же. Только один доброжелатель (академик Н. Л. Добрецов) потом посоветовал мне: в следующий раз представить как диссертацию какую-нибудь одну главу «и все будет в порядке...». Эта «защита» наглядно показала мне,что я как был так и остался «лишним человеком» и заставила вспомнить пушкинское «и угораздил меня бес родиться с умом и талантом в России». Как я уже сказал, моя работа вышла из печати в 1973 году. Технический редактор прямо сказала мне, что «выпуск можно ускорить, но для этого работу надо оплатить наличными» (плохо завуалированная форма взятки - речь шла о 300-400 рублях). Я уже уезжал с Камчатки, и выхода у меня не было. Так моя книга за взятку появилась на свет. Недавно, в библиотеке Американской геологической службы ( USGS ) я полистал свой давний труд 1968 (1973) года и остался вполне удовлетворен его уровнем, несмотря на то, что последовавшие затем 50 лет я не стоял на месте. В 1971 году в Москве должна была происходить XV Генеральная ассамблея Международного Геодезического и Геофизического Союза, в рамках которой предстоял симпозиум Международной ассоциации вулканологии ( IAVCEI ) по кислому вулканизму. Ассамблея была своего рода научными олимпийскими играми. Организацией с советской стороны занимался Межведомственный геофизический комитет. Нам было «спущено» указание: «учитывая то, что ассамблея будет проводиться на нашей территории, сделайте все, чтобы достойно представить Институт». В переводе это означало, что надо немедленно заняться подготовкой выступления на ассамблее. В дирекции заниматься этим было некому. За плечами у нас был опыт недавно прошедшего в Петропавловске Второго Всесоюзного вулканологического совещания, где его проведением фактически руководила Софья Ивановна Набоко, наш зам. директора по науке и прекрасный организатор. Заседания ассамблеи должны были проходить в здании МГУ, недавние выпускники которого – большая группа молодых сотрудников нашего Института. Участие в Международном собрании давало им идеальную возможность познакомиться и подружиться с иностранными коллегами, завязать с ними личные контакты. Выставка была развернута в коридоре главного здания МГУ, но на ночь её приходилось перемещать в аудиторию под ключ, чтобы избежать хищения образцов и фотографий. Она пользовалась большим успехом у посетителей. Так что мне, как более свободному в английском, приходилось вместо того, чтобы слушать доклады, часами стоять у стендов, давая пояснения. Наша работа особенно понравилась итальянским вулканологам. Все наши ребята сошлись с этими эмоцианальными и знающими людьми, образующими команду профессора П. Эврара. И в конце ассамблеи я предложил профессору Эврару провести специальную экскурсию по выставке для него и других людей IAVCEI. Непосредственно после этого мы устроили банкет в «Арагви» для наших друзей. С гордостью могу сказать, что профессор П. Эврар, исполнительный секретарь IAVCEI, был очень впечатлен тем, что он увидел и услышал. Он сказал, что западным специалистам было бы полезно ознакомиться с таким полным изложением русской точки зрения, столь отличной от западных воззрений. Это заключение он изложил в письме на имя нашего директора, Г. С. Горшкова, попросив поручить нам подготовить материал для публикации в Бюллетене вулканологии в виде специального выпуска, посвященного вулканизму и тектонике Камчатки. Письмо это было совершенной неожиданностью для меня. Примерно представляя реакцию на него в Институте, я лишь попросил профессора уточнить в письме, что он просит поручить эту подготовку тем, кто подготовил для демонстрации на Ассамблее выставку. С Г.С.Горшковым все решилось просто. Он улыбнулся своей «фирменной» улыбкой «на тысячу долларов» и прямо сказал, что хотел бы видеть свою фамилию на обложке, как редактора. Это меня более, чем устраивало. Так на обложке еще только создаваемой книги появились две фамилии. Я сразу предупредил его, что если нам навяжут участие в сборнике Ю. П. Масуренкова, то сам выход сборника будет поставлен под угрозу. Этот вопрос был сразу закрыт. Ситуация с новым директором, С. И. Федотовым, была неясной. Но поскольку вся тематика сборника была ему чужда, а материалы по сейсмологии мы практически не использовали за исключением предполагаемой статьи В.Зобина, посвященной ориентировке векторов напряжения в очагах землетрясений, лежащей вне поля традицонной сейсмологии [ Zobin,1979], он проявил широту взглядов; другими словами, не воспользовался, как обычно, своим правом администратора приписывать себе соавторство в любых работах своих сотрудников отказался от участия в сборнике и спустил все на тормозах. Могу только вспомнить, как Сергей Александрович сказал мне: «Наверно у вас собрана лучшая из возможных команда». Высокая оценка, особенно с учетом резко враждебного отношения Федотова ко мне лично. Предлагаемое содержание сборника было точным отражением состояния исследований в нашем Институте на тот момент. Я свободно владел как литературным материалом, так и накопленным сотрудниками Института фактическим материалом по Камчатке, противоречий выработанным мной идеям не было. Умение анализировать литературный материал я получил, работая с такими мастерами геологических обобщений, как Л. И. Красный, П.С. Воронов, н. с. м алич. Исходя из названия сборника и направления работ Института, в предполагаемой тематике статей сразу обнаружилась «прореха» – некому было писать статью о типах извержений. Лучше всего подходил к авторству такой статьи сам Г.С.Горшков, но об этом нечего было и думать. Ю. Дубик, который ближе всех подходил к этой тематике, по присущему ему сибаритству отказался что-либо делать. Выход сборника из печати преподал нам два урока. Во-первых, мы обычно полагались на качество переводов наших статей, выполненных профессиональными переводчицами Института. Сотрудники Эврара прекрасно знали: эти переводы - что угодно, но не английский, и читать наши тексты, как минимум, трудно, если возможно вообще. Поэтому П. Эврар обратился к англичанину П. Бейкеру с просьбой отредактировать текст сборника (огромная работа, требовавшая затраты большого труда и времени!). И это было сделано. Другое разочарование коснулось скорости выхода печатной продукции. В Союзе была распространена легенда о том, что, в противоположность поразительно медленной скорости выхода книг у нас, на Западе все выходит мгновенно (при этом «Запад» воспринимался как единое целое, что совершенно не соответствует действительности). Издание всех печатных работ IAVCEI осушествлялось итальянцами и было так же безобразно медленно, как и у нас. Это совершенно не устраивало американцев и, по инициативе П. Липмана, были предприняты шаги для перевода печати в другую страну, чтобы сделать печать эффективной. Этот процесс перевода требовал серьезных переговоров и организационных усилий. Новыми издателями IAVCEI стали немецкие издательства. Этот переход пришелся как раз на выход нашего сборника. В итоге он вышел в рекордно долгий срок – в 1979 году. Деяния П. Эврара, верно понявшего важность нашего потенциального сборника для западных читателей и предоставившего нам трибуну, были высоко оценены международной общественностью. Это отлично видно на его сайте в интериете, где его письмо на эту тему подается, как главное его достижение на посту исполнительного секретаря IAVCEI. Проект по созданию сборника, а позднее и сам сборник, получили в Институтских кругах кодовое имя «Эврар». Дружба с итальянскими вулканологами, завязавшаяся на Ассамблее, нашла продолжение, когда наша делегация (С. А. Федотов, В.М. Сугробов и я) позже приехала в Италию. Наши новые друзья - Энсо Локарди и Франческа Кугуси (или попросту Чичи), технический секретарь П.Эврара, - прекрасно знали все порядки итальянской бюрократии. Они знали, что надо сделать, чтобы решение о нашем приеме по обмену было проведено в жизнь, и в буквальном смысле «протолкнули» его через ЧНР (Совет по научным исследованиям, ведавший научными обменами). В ходе нашей поездки по стране, стоило нам только пожелать модифицировать маршрут, это тут же делалось. Нам повезло. После года интенсивной работы том был закончен и, благополучно пройдя через все формальности, отправлен Чичи. Ко времени принятия Федотовым директорского поста работа была в редакции и, тем самым, мы были избавлены от опасения, что монографию загубят под благовидным формальным предлогом. Сборник был своего рода завершением того процесса пересмотра материала по геологии вулканических поясов, которая была впервые заявлена на проведенном еще при жизни Б. И. Пийпа Втором вулканологическом совещании. Я строил его как проверку на камчатском материале комплекса идей, развитых в моей монографии по современной структуре и четвертичному вулканизму западной части Тихоокеанского кольца. Он, сборник этот, не выходил за рамки традиционных представлений вулканической геологии, но, наверное, впервые в мире представлял полную картину развития молодого вулканического пояса. Было совершенно очевидно, что на существовавшем тогда аналитическом и идейном уровне исследования с этим материалом больше делать нечего. Надо было либо менять районы исследований, либо менять аналитическую и идейную базу исследований. Написание монографии заняло годы, необходимые для утряски авторского коллектива, подбора материала, написания текста, перевода на английский. Удовольствие от этой работы было во многом отравлено необходимостью разного рода "дипломатических" маневров, и преодоления административных барьеров. Для избежания всякого рода коллизий я просто включил имя Г. С. Горшкова в редакторы сборника. В итоге книга вышла из печати, и стала своего рода памятником годам нашей работы, и я немало горжусь этим. К выполнению подобной работы мы были подготовлены в процессе почти стихийного участия в написании нескольких коллективных монографий, освещавших разные стороны вулканической геологии Камчатки. В них мы в разных комбинациях выступали как авторский коллектив, а именитые редакторы фактически лишь формально просматривали и «визировали» готовые тексты, приписывая себя в соавторы. Все делалось само собой, без нашего участия. Профессор Эврар просто продиктовал своей секретарше Франческе (“Чичи”) письмо в дирекцию Института с предложением представить для публикации наши материалы в качестве тома Бюллетеня Вулканологии, посвященного Камчатке. Для того чтобы дать нам возможность составить действенный авторский коллектив, я лишь просил Эврара указать в письме фамилии потенциальных участников, что он тут же и сделал. Что очень важно был изначально указан заголовок тома “Четвертичный вулканизм и тектоника Камчатки”, что определило ориентировку содержания на вулканическую геологию, структуру вулканических районов и эволюцию четвертичного вулканизма. Более того, та же Чичи, опытная в общении с поступающими от советских авторов публикациями, сразу сказала, что надо попросить английского вулканолога П. Бэйкера привести в порядок английский язык будущей рукописи. В 1973 году я вернулся в Институт геологии Арктики. В качестве главного геолога руководил работами, которые привели к открытию крупнейшего в мире редкометального и редкоземельного месторождения на массиве Томтор, моём старом знакомце с 1959 года. Я не претендую на то, что все принятые мною решения были правильны. Речь идет об общей оценке степени правильности выбранной линии. Я ведь хорошо знал как надо было действовать в том или ином случае, чтобы «пожать плоды». Мой выбор всегда был осознанно противоположен тому, какой от меня для этого требовался. Именно поэтому я всегда «оставался при своих». По итогам я сделал то, что что хотел сделать в самых смелых мечтах вне зависимости от официальных оценок. Я добился того, что считал необходимым в жизни, заплатив за это дорогой ценой – здоровьем. Ярким примером противоположного подхода является А. В. Толстов. Проведя в сложнейших условиях разведку Буранного, он стал доктором наук, лауреатом премии Н. А. Косыгина, академиком РАЕН, заслуженным разведчиком. Легко и просто получил заслуженную медаль первооткрывателя. И теперь, за какие-нибудь несколько лет в Институте геологии и минералогии СО РАН, сделал стремительную карьеру, став заместителем директора. Совершенно ясно, что директор – академик Н. П. Похиленко правильно оценил все преимущества использования Толстова для пробивания работ на Томторе. Ясно и то, что его совершенно устраивает научный уровень А. В. Толстова. Теперь из него желают икону, провозглашая его «Человеком севера», сравнивая его на выбор с Ньютоном, Кюри, Ломоносовым. Даже если эти сравнения порождение журналиста, я не сомневаюсь что они оговорены с интервьюированным. Э то было естественно. Сама идея совместной работы такой команды была совершенно ложной. Слишком различны были две ее предполагаемые составляющие: С одной стороны, отщепенец, не имеющий за собой никакой официальной поддержки; С другой признанные каждый в своей отрасли и остепененные всеми мыслимыми степенями ученые, за которыми стоит ни более, ни менее как Сибирское отделение РАН. Это по сути были те самые люди и та самая организация, которые завалили мою защиту докторской в 1968 году. Могло ли быть иначе? И, чтобы понять это, достаточно было только подумать и мысленно обозреть поле действия. Но слишком велико было мое желание поработать в конце жизни на столь знакомом мне ( как никому другому, объектом!). Ведь мне же и в голову не приходило навязывать российской экономике ни редкие земли и редкие металлы Томтора, ни ввязаться в дискуссию с А. В. Толстовым о том, что Родина и фашистское государство не одно и то же. Со мной считались, пока я представлял организацию, НИИГА, и вел работы на Удже, открывая Томтор и прогнозируя его минеральные богатства. Тут меня включили в официальный список поздравляемых с Днем Геолога (чисто советская идея профессиональных праздников Почему бы не с Днем Танкиста – ведь Роза по образованию конструктор танков?). Я не претендую на то, что все принятые мною решения были правильны. Речь идет об оценке степени правильности выбранной линии. Я ведь хорошо знал как надо было действовать в том или ином случае, чтобы «пожать плоды». Мой выбор всегда был осознанно противоположен тому, какой от меня требовался. Именно поэтому я всегда «оставался при своих». По итогам я сделал то, что что хотел сделать в самых смелых мечтах вне зависимости от официальных оценок. Я добился того, что считал необходимым в жизни, заплатив за это дорогой ценой – здоровьем. В итоге двухлетней работы на Удже был защищён лист государственной геологической карты, защищена диссертация по Суханскому прогибу и мне очень хотелось продолжить работы по платформам, когда начальство распорядилось послать меня в совершенно новый район – Корякское нагорье. Район прекрасный, но никакого отношения к платформам не имеющий. Всё начатое надо было бросить не доведённым до конца. Я пошел жаловаться к зам. директора по науке М. Г. Равичу. И что же я услышал! «Что вам надо? Вы же защитили диссертацию, отдохните, дайте защитить другим»... Но я не хотел отдыхать, я хотел заниматься наукой. По возможности, наукой фундаментальной. Наследие ГУСМП сказывалось в традициях продовольственного снабжения полевых партий нестандартными продуктами вроде консервированного сыра. Когда стало ясно, что возможности работы в НИИГА по платформам для меня были исчерпаны, я написал письмо директору только что созданного Института Вулканологии Б. И. Пийпу, представился и просил принять меня на работу. Ответ Бориса Ивановича меня поразил. Он писал: «Вам нет надобности представляться, мы хорошо знаем ваши работы. Приезжайте, мы возьмем вас на должность старшего научного сотрудника, дадим квартиру в новом строящемся доме, поможем вашей жене устроиться на работу и дочку поместим в детский сад или школу». Лучшего я не мог и желать. Конечно, всё обещанное свершилось не так сразу, но все было выполнено. Письмо Б. И. Пийпу я написал в 1962 году. Незадолго до того, в 1957 году, по инициативе академиков М. А. Лаврентьева, С.Л. Соболева и С.А. Христиановича, было создано полуавтономное от центральной Академии Сибирское отделение АН СССР, с центром в новосибирском Академгородке, объединившее под своей эгидой все научные учреждения, расположенные к востоку от Урала. Это была программа «сдвига науки на Восток». Наука в старой организационной форме себя исчерпала, стимулы для научного поиска больше не работали. Но сдвиг этот был чисто механический, без коренной реформы системы организации науки. Просто ученым давали новые должности и материальные блага, как премию за переезд из насиженных мест в необжитые края. Но даже эта полумера в результате передачи планирования научной тематики непосредственно в руки ведущих ученых молодого поколения дала свои плоды. В области наук о Земле школа Сибирского отделения резко выделялась широким применением статистических методов и вниманием к физико-химическим основам петрологических процессов. Таким образом, мое решение о переезде в Петропавловск-Камчатский полностью отражало общие тенденции развития советской науки. Региональные научные городки возникли во всех областных центрах Сибири и Дальнего Востока. Это были комплексные институты в области наук о Земле, придаваемые в помощь местным обкомам партии и теоретически способные ответить на любые нужды региона. В зависимости от специфики региона им придавалась разная специализация. Так магаданский институт, естественно, специализировался в области месторождений полезных ископаемых, иркутский, учитывая наличие кадров аналитиков, - в области геохимии. Его так и называли СибГЕОХИ. Специализация Сахалинского института менялась каждый раз с приходом нового директора. Традиционно каждый новый директор начинал с перекраски крыши. Однажды на крыше было три полосы разных цветов - директоры сменялись, не успев закончить перекраску крыши. Институту вулканологии изначально создавался не как комплексный, а как специализированный, ориентированный на фундаментальные вопросы геологии, материал для решения которых в изобилии давали только Камчатка и Курилы. И отношение к нему было особое: традиционно сохранялась прямая его связь с центральной академией в Москве, минуя Новосибирск, выделялись дополнительные штатные единицы и дополнительный листаж научных изданий и, наконец, облегчалась возможность поездок на международные конференции. Так для меня в 1966 году впервые открылась возможность поехать с докладом на Международный Тихоокеанский конгресс в Токио. Мне глубоко чужда была подозрительность в отношении иностранных коллег, вызванная идеологическими причинами и боязнью провокаций с их стороны, плохим английским и буквально полным отсутствием денег. Характерным примером такого поведения была С. И. Набоко. И. И. Гущенко острил: «Я вот все смотрю, кто бы мне денег предложил!». Я смотрел на наших зарубежных коллег, как на товарищей по работе и был рад представить наши камчатские материалы и свои идеи новой международной аудитории. Своего корявого английского я не стыдился. Мне было важно, чтобы меня поняли те, с кем я говорил. Может быть, именно поэтому на меня обратил внимание общепризнанный лидер японских вулканологов и геологов профессор М. Минато. Он предложил мне стать председателем одного из заседаний конгресса – невиданная для советских делегатов честь и ответственность. Я близко сошелся с ведущим японским вулканологом Кензо Яги. Иностранные вулканологи были рады убедиться, что у их российских коллег «нет рогов и копыт». После конгресса на экскурсиях на острове Кюсю я получил возможность ознакомиться с огромными полями кислых игнимбритов, окружавших кальдеру Асо, так называемые Асо-лавы, и осмотреть другой центр кислого вулканизма – вулкан Унзен. Учитывая различия аудитории, к которой, в отличие от статей на ту же тему в русскоязычных журналах, я широко привлекал материал по зарубежным вулканическим центрам. Это в равной мере сказалось и в моем докладе на конференции по континентальному вулканизме в Санта Фе, штат Нью Мексико, в 1986 году. Непосредственно после выхода статьи о вулкано-тектонических депрессиях Камчатки [ Erlich, 1966], я привлек материалы по вулканам Аляски, Японии, Италии, широко используя космические снимки. В итоге были сформулированы различия моделей образования вулкано-тектонических структур вокруг центров базальтового вулканизма, таких как Фудзи и Хаконе в Японии, Этна в Италии, вулкан Вениаминофф на Аляске. Предполагалось, что оседание вокруг этих вулканических центров отражало понижение давление в зоне магмообразования, подобно понижению давления вокруг долго действующей нефтяной скважины. Диаметрально противоположная модель образования предполагалась для вулкано-тектонических депрессий, формирование которых ассоциировалось с массовыми выбросами кислого пирокластического материала – пемз и игнимбритов, отражающих момент внедрения в верхние горизонты коры интрузий гранитоидов. Таковы Паужетская, Узон-Гейзерная и Большесемячинская вулкано-тектонические депрессии на Камчатке, кальдера Асо и вулкано-тектоническая структура Унзен на острове Кюсю в Японии, кольцевые структуры, обрамляющие вулканы Угашик и Аниакчак на Аляске. После кальдерообразующего выброса на этих центрах в течение длительного времени продолжается посткальдерная вулканическая активность, причем питающим очагом служит коровая интрузия гранитоидного состава, локализованная в ходе кальдерообразующего этапа. Но вернусь к моему началу в Институте вулканологии. Для меня на новом месте плохо было с главным – моей работой. Дирекция откровенно не знала, что со мной делать. «Моя» тематика по вулканизму Срединного хребта была отдана на откуп Н. В. Огородову и его группе. Он считался «своим кадром», был родом из Ключей и уж как-то ущемлять его никак не хотели. Растерянность дирекции в отношении меня была результатом неопределенности моего положения. Я не принадлежал к сотрудникам Лаборатории вулканологии, но был уже кандидатом наук и был достаточно известен своими работами по четвертичному вулканизму, как отмечал в письме Б. И. Пийп. В равной мере недоумение и недоверие вызывал я и у молодых сотрудников, пришедших в Институт вулканологии прямо с университетской скамьи. Отчетов они не читали, поскольку ссылаться на них все равно было нельзя из-за секретности; впрочем, явно не читали и опубликованных работ, если те не были прямо по их специализации. Наконец, С. И. Набоко предложила мне составить сборник имеющихся химических анализов вулканических пород Камчатки и Курил. Я обратился к молодым сотрудникам с просьбой дать для сборника новые, неопубликованные анализы, естественно, с гарантией указания кем они предоставлены. Тем не менее, я вызвал волну недовольства и опасения в том, что за неимением своего материала я собираюсь обобрать тех, кто предоставил анализы. Но этого показалось мало. Хозяевам неопубликованных ранее анализов захотелось, чтобы они были указаны авторами объяснительной записки к собственно собранию аналитического материала. Было абсолютно ясно: эти научные работники не понимают смысла самого выражения «обобщающая работа» и не знакомы с понятием «коллектив авторов». Текст с анализом закономерностей петрохимии вулканических пород был написан мной без чьего-либо участия. Ставить там соавтором кого бы то ни было я не собирался. Когда текст был написан, он очень понравился и С. И. Набоко и Л. А. Башариной (заведующей хим. лабораторией Института). Но от этого мне легче не стало. В итоге сборник «Петрохимия вулканических пород Камчатки и Курильских островов» был издан без фамилии автора на обложке. Я числился составителем и редактором. Сегодня в списке опубликованных работ сотрудников Института указаны отдельные главы сборника анализов «Петрохимия вулканических пород» под двойным авторством - Эрлих и хозяин анализа. Так что найти эти работы невозможно –зря старались угодить хозяевам анализов, они и забыли о своих смешных претензиях. Что делать дальше, мне надо было придумывать самому, и я выбрал тему «соотношение вулканизма и тектоники островных дуг и сходных с ними геотектонических систем». Дирекция вздохнула с облегчением. Учитывая то, что эта тектоника «числилась» за А. Е. Святловским, который в это время был директором Ключевской вулканостанции меня и отправили к нему в Ключи. Так мы, с уже бывшим в Ключах В. А. Ермаковым, занялись структурой и вулканизмом Ключевской группы вулканов. Валера, не считая Леши Шанцера, был единственным из институтской молодежи, имевшим опыт работы на геологической съемке. Я с искренним удовольствием вспоминаю два полевых сезона с ним. Один - на юго-западе Ключевской группы, в бассейне реки Студеной, второй – на Харчинской группе вулканов между собственно Ключевской группой и Шивелучем. Попытка организовать геофизические работы сорвалась. В 1966-1971 году вышли из печати мои статьи о результатах аналитических работ по массиву Томтор (радиометрическому датированию пород и руд, декрепетации минералов и различных типов апатитовых руд), окончательно доработана монография о современной структуре и четвертичном вулканизме Камчатки. В середине 1960ых годов впереди замаячила Генеральная Ассамблея Международного Геодезического и Геофизического союза в рамках которой IAVCEI (Всемирная Ассоциация вулканологии) должна была провести симпозиум по кислому вулканизму. Именно на этом фоне я решил провести работы на вулкане Хангар, который представлялся идеальным объектом для решения вопроса о соотношении кислого вулканизма с гранитным слоем коры. Я организовал отряд, включивший минералогов из Новосибирского академгородка Института геологии. Их исследования по изучению газово-жидких включений в ксенокристаллах кварца из пемз Хангара дали принципиально-новый материал о составе газово-жидких включений и температуре их гомогензации (12000 C ) [ Bakumenko, Shugurova, et al.,.1970]. С точки зрения решения проблем геодинамики Камчатки значительным событием для меня был выход двух статей [ Erlich, 1964, 1966]. Эти работы закрепили мою точку зрения на связь вулканических поясов с линейными грабен-синклиналями, и дали описание нового для Камчатки типа вулкано-тектонических структур. Позже вышла из печати сделанная ранее коллективная статья написанная мной о четвертичных кальдерах Камчатки [ Zubin et al., 1971]. Мне оставалось только одно – заняться сводкой литературного материала по районам четвертичного вулканизма и современной структуре Камчатки, что проходило в разных формах и в несколько этапов. Первый этап познания материалов Камчатки был итогом освоения результатов геологической съемки масштаба 1: 1,000,000. Он ознаменовался открытием огромных масштабов новейшего базальтового вулканизма Срединного хребта и продолжающейся фумарольной активности вулкана Ичинского. Признание широких масштабов верхнеплейстоцен-голоценового вулканизма на Срединном хребте было возвращением к наблюдениям С. П. Крашенинникова в середине XVIII века о том, что к северу от Шивелуча (то-есть, в Срединном хребте) есть много активных вулканов, из которых «иные дымят, а другие огонь бросают». Трудно сказать, почему большие масштабы вулканизма Срединного хребта не были отмечены А. Е. Святловским. Он имел все возможности это сделать по результатам аэрогеологической экспедиции к вулканам Камчатки, которые он интерпретировал. Более того, если он по высокомерию не читал производственных отчетов, то несомненно знал мои статьи на эту тему, которые сам же и рекомендовал к скорейшей публикации в печати [ Erlich. 1958, 1960а]. Поверхность базальтовых лавовых потоков была ни в малейшей степени не затронута эрозией. И А. Е. Святловский, безусловно, понимал значимость выводов из этих фактов. Именно это был период максимального распространения универсальной металлогенической концепции, развитой на примере Камчатки Г. М.Власовым. Он был переведен из Хабаровска во ВСЕГЕИ, в Ленинград. Здесь у него было два ученика – М. М. Василевский и В. К. Ротман. Здесь он написал том серии Геологии СССР, «Камчатка и Курильские острова» [ Vlasov, 1964]. Основным положением его концепции формирования рудопроявлений считалась связь всех их с единым этапом кислого вулканизма в конце периода формирования алнейской серии, предшествующего излияниям плато-эффузивов начала четвертичного времени, будь то андезиты или базальты. Мы со Львом Тихомировым тогда резко выступили против отдельных положений этой концепции. Я сошёлся со Львом на общем для обоих желании (преступном, с точки зрения начальства Пятого геологического Управления) - заниматься главными вопросами геологии Камчатки. Мы составили сводку данных шлихового опробования и написали на её базе записку «Основы металлогении Качатки» [ Tikhomirov, Erlich,1961]. Статья была довольно наивной, но в ней имелась интересная деталь: по всему югу Камчатки, в поле развития кислых игнимбритов, в шлихах присутствовали зерна самородного олова. Откуда они - никто не понимал. Нам сказали: «В Природе этого не может быть! Это просто обломки олова со шлиховых лотков, засоряющие пробы». Мы, к сожалению, присоединились к осторожным голосам. Так открытие того, что присутствие самородных металлов в тяжелой фракции вулканических пород составляет их характерную черту, было задержано почти на 20 лет и было признано лишь после исследований Ф. Ш. Кутыева. Это послужило мне уроком того, что в Природе все возможно, даже то, что мы не понимаем сегодня. Поэтому, когда оказалось, что ядро Томтора образует крупнейшее в мире карбонатитовое тело, я безоговорчно признал это. На втором этапе я выполнил литературную сводку материала на тему соотношения современной структуры и четвертичного вулканизма в западной части Тихоокеанского кольца и в 1968 году представил ее, как рукопись книги для издания в Сибирском отделении издательства Наука в Новосибирске. В ней я отработал основные идеи, связанные с данной тематикой. Вышла она из печати много позже [ Erlich, 1973]. В 1968 году я также представил рукопись этой работы как докторскую диссертацию в Ученый совет Института геологии СО АН СССР. На работу было достаточное количество положительных отзывов, включая отзывы иностранных коллег (что сыграло отрицательную роль – «они нам не указ!»). На заседании был зачитан только один отрицательный отзыв А.Е. Святловского, который не мог простить мне отрицательную рецензию на его довольно халтурную брошюру. Собственно о самой моей работе в его отзыве ничего сказано не было, кроме голословного утверждения, что все идеи заимствованы у него. В подтверждение приводилась хронологическая таблица, из которой следовало, что он в геологии много раньше и дольше меня. Помимо того автор внес в свой «отзыв» тему, не имеющую отношения к обсуждению научной работы. Он клеветнически заявил, что я прямо связан с КГБ, на который и работал и угрожал ему. И всё это в молчании принял Ученый совет и директор нашего Института Г. С. Горшков (уж он-то понимал абсурдность обвинений Святловского, иначе зачем бы стал «угощать» меня Декларацией Прав Человека, когда я с ним возвращались из зарубежной поездки. Да и моему «оппоненту» он, видимо, знал цену, раз не удерживал, когда тот уходил из Института, не проходя переаттестацию ). По результату голосования мне не хватило пол-голоса (был один воздержавшийся), чтобы защита прошла. Академик Яншин потребовал переголосования, но результат был тот же. Только один «доброжелатель» (председатель СО АН СССР академик Н. Л. Добрецов) потом посоветовал мне: в следующий раз представить как диссертацию какую-нибудь одну главу «и все будет в порядке...» Как я уже сказал, моя работа вышла из печати в 1973 году. Технический редактор прямо сказала мне, что «выпуск можно ускорить, но для этого работу надо оплатить наличными» (плохо завуалированная форма взятки - речь шла о 300-400 рублях). В период нашей работы на Камчатке не такие уж и большие деньги. Я уже уезжал с Камчатки, и выхода у меня не было. Так моя книга появилась на свет. Третий этап – выпуск сборника Международного вулканологического Бюллетеня, посвященный Камчатке, который вышел в 1979 году [ Erlich, Gorshkov, eds., 1979]. С тех пор он начал жить своей жизнью. Нет смысла излагать е го содержание, поскольку каждый может легко ознакомиться и оценить его, особенно сейчас, когда он размещён В. И. Белоусовым на интернете. В 1971 году в Москве должна была происходить XV Генеральная ассамблея Международного Геодезического и Геофизического Союза, в рамках которой предстоял симпозиум Международной ассоциации вулканологии ( IAVCEI ) по кислому вулканизму. Ассамблея была своего рода научными олимпийскими играми. Организацией с советской стороны занимался Межведомственный геофизический комитет. Нам было «спущено» указание: «учитывая то, что ассамблея будет проводиться на нашей территории, сделайте все, чтобы достойно представить Институт». В переводе это означало, что надо немедленно заняться подготовкой выступления на ассамблее. В дирекции заниматься этим было некому. За плечами у нас был опыт недавно прошедшего в Петропавловске Всесоюзного вулканологического совещания, где его проведением фактически руководила Софья Ивановна Набоко, наш зам. директора по науке и прекрасный организатор. И тут произошло неожиданное - мы сами решили, что, помимо частных докладов надо организовать общеинститутское выступление. Немедленно была найдена и подходящая форма – выставка. Это позволяло показать фотоснимки нашей любимой Камчатки, карты и схемы (в меру их «открытости»), образцы, словом, достойно представить Институт. Выставка была в лучшем смысле слова коллективным произведением. Все личные интересы были отставлены в сторону. Организацию выставки я взял на себя. Она стала как бы безымянной, у нее не было автора – она олицетворяла Институт.
Апофеоз исследований Камчатки. Победители «научной олимпиады» - XV Генеральной ассамблеи Международного Геодезического и Геофизического союза в Москве. Перечисляю только тех, кого знаю, в первом ряду третий слева в центре –Б.В. Иванов, будущий директор Института вулканической геологии, профессор П.Эврар, генеральный секретарь Международной вулканологической ассоциации IAVCEI, Г. С. Горшков, тогдашний директор Института вулканологии только что ставший президентом IAVCEI, автор, Э.Н.Эрлих, организатор выставки «кислый вулканизм Камчатки. Крайняя справа О. А. Брайцева – наш ученый секретарь, рядом с ней Энсо Локарди и его жена Паола. Не могу не сказать, многие иностранцы спрашивали о памятнике М.В.Ломоносову « А кто этот парень?», имея в виду, что его научные работы никому не известны. Фото из архива автора. Заседания ассамблеи должны были проходить в здании МГУ, недавние выпускники которого – большая группа молодых сотрудников нашего Института. Участие в Международном собрании давало им идеальную возможность познакомиться и подружиться с иностранными коллегами, завязать с ними личные контакты. Выставка была развернута в коридоре главного здания МГУ, но на ночь её приходилось перемещать в аудиторию под ключ, чтобы избежать хищения образцов и фотографий. Она пользовалась большим успехом у посетителей. Так что мне, как более свободному в английском, приходилось вместо того, чтобы слушать доклады, часами стоять у стендов, давая пояснения. Наша работа особенно понравилась итальянским вулканологам. Все наши ребята сошлись с этими эмоциональными и знающими людьми, образующими команду профессора П. Эврара. И в конце Ассамблеи я предложил профессору Эврару провести специальную экскурсию по выставке для него и других людей IAVCEI. Непосредственно после этого мы устроили банкет в «Арагви» для наших друзей. С гордостью могу сказать, что профессор П. Эврар, исполнительный секретарь IAVCEI, был очень впечатлен тем, что он увидел и услышал. Он сказал, что западным специалистам было бы полезно ознакомиться с таким полным изложением русской точки зрения, столь отличной от западных воззрений. Это заключение он изложил в письме на имя нашего директора, Г. С. Горшкова, попросив поручить нам подготовить материал для публикации в Бюллетене вулканологии в виде специального выпуска, посвященного вулканизму и тектонике Камчатки. Письмо это было совершенной неожиданностью для меня. Примерно представляя реакцию на него в Институте, я лишь попросил профессора уточнить в письме, что он просит поручить эту подготовку тем, кто подготовил для демонстрации на Ассамблее выставку. Теперь моя задача была сформировать содержание будущего сборника и по возможности отбить любые атаки на него. Атаки ожидались с двух сторон: Со стороны дирекции, Много опаснее были бы попытки включить в число авторов тех, с кем мы резко расходились и по человеческим отношениям и по подходу к решению идейных вопросов, в частности, с Ю. П. Масуренковым. С Г.С.Горшковым все решилось просто. Он улыбнулся своей «фирменной» улыбкой «на тысячу долларов» и прямо сказал, что хотел бы видеть свою фамилию на обложке, как редактора. Это меня более, чем устраивало. Так на обложке еще только создаваемой книги появились две фамилии. Я сразу предупредил его, что если нам навяжут участие в сборнике Ю. П. Масуренкова, то сам выход сборника будет поставлен под угрозу. Этот вопрос был сразу закрыт. Я свободно владел как литературным материалом, так и накопленным сотрудниками Института фактическим материалом по Камчатке, противоречий выработанным мной идеям не было. Умение анализировать литературный материал я получил, работая с такими мастерами геологических обобщений, как Л. И. Красный, П.С. Воронов, н. с. м алич. Исходя из названия сборника и направления работ Института, в предполагаемой тематике статей сразу обнаружилась «прореха» – некому было писать статью о типах извержений. Лучше всего подходил к авторству такой статьи сам Г.С.Горшков, но об этом нечего было и думать, он был выше этого. Ю. Дубик, который ближе всех подходил к этой тематике, по присущему ему сибаритству отказался что-либо делать. Выход сборника из печати преподал нам два урока. Во-первых, мы обычно полагались на качество переводов наших статей, выполненных профессиональными переводчицами Института. Сотрудники Эврара прекрасно знали:язык этих переводов - что угодно, но не английский, и читать наши тексты, было как минимум, трудно, если возможно вообще. Поэтому П. Эврар обратился к англичанину П. Бейкеру с просьбой отредактировать текст сборника (огромная работа, требовавшая затраты большого труда и времени!). И это было сделано. Другое разочарование коснулось скорости выхода печатной продукции. В Союзе была распространена легенда о том, что, в противоположность поразительно медленной скорости выхода книг у нас, считалось, что на Западе все выходит мгновенно (при этом «Запад» воспринимался как единое целое, что совершенно не соответствует действительности). Издание всех печатных работ IAVCEI осушествлялось итальянцами и было так же безобразно медленно, как и у нас. Это совершенно не устраивало американцев и, по инициативе П. Липмана ( P. Lipman ), были предприняты шаги для перевода печати в другую страну, чтобы сделать печать эффективной. Этот процесс перевода требовал серьезных переговоров и организационных усилий. Новыми издателями IAVCEI стали немецкие издательства. Этот переход пришелся как раз на выход нашего сборника. В итоге он вышел в рекордно долгий срок – в 1979 году. Деяния П. Эврара, верно понявшего важность нашего сборника для западных читателей и предоставившего нам трибуну, были высоко оценены международной общественностью. Это отлично видно на его сайте в интериете, где его письмо на эту тему подается, как главное его достижение на посту исполнительного секретаря IAVCEI. Проект по созданию сборника, а позднее и сам сборник, получили в институтских кругах кодовое имя «Эврар». Дружба с итальянскими вулканологами, завязавшаяся на Ассамблее, нашла продолжение, когда наша делегация (С. А. Федотов, В.М. Сугробов и я) позже приехала в Италию. Наши новые друзья - Энсо Локарди и Франческа Кугуси (или попросту Чичи), технический секретарь П. Эврара, - прекрасно знали все порядки итальянской бюрократии. Они знали, что надо сделать, чтобы решение о нашем приеме по обмену было проведено в жизнь, и в буквальном смысле «протолкнули» его через ЧНР (Совет по научным исследованиям, ведавший научными обменами). В ходе нашей поездки по стране, стоило нам только пожелать модифицировать маршрут, это тут же делалось. Нам повезло. После года интенсивной работы том был закончен и, благополучно пройдя через все формальности, отправлен Чичи. Ко времени принятия Федотовым директорского поста работа была в редакции и, тем самым, мы были избавлены от опасения, что монографию загубят под благовидным формальным предлогом. Сборник был своего рода завершением того процесса пересмотра материала по геологии вулканических поясов, которая была впервые заявлена на проведенном еще при жизни Б. И. Пийпа Втором вулканологическом совещании. Я строил его как проверку на камчатском материале комплекса идей, развитых в моей монографии по современной структуре и четвертичному вулканизму западной части Тихоокеанского кольца. Он, сборник этот, не выходил за рамки традиционных представлений вулканической геологии, но, наверное, впервые в мире представлял полную картину развития молодого вулканического пояса. Было совершенно очевидно, что на существовавшем тогда аналитическом и идейном уровне исследования с этим материалом больше делать нечего. Надо было либо менять районы исследований, либо менять аналитическую и идейную базу исследований. Написание монографии заняло годы, необходимые для утряски авторского коллектива, подбора материала, написания текста, перевода на английский. Удовольствие от этой работы было во многом отравлено необходимостью разного рода "дипломатических" маневров, и преодоления административных барьеров. Для избежания всякого рода коллизий мы просто включили имя Г. С. Горшкова в редакторы сборника. В итоге книга вышла из печати, стала своего рода памятником годам нашей работы, и я немало горжусь этим. К выполнению подобной работы мы были подготовлены в процессе почти стихийного участия в написании нескольких коллективных монографий, освещавших разные стороны вулканической геологии Камчатки. В них мы в разных комбинациях выступали как авторский коллектив, а именитые редакторы фактически лишь формально просматривали и визировали готовые тексты. Все делалось само собой, без нашего участия. Профессор Эврар просто продиктовал своей секретарше Франческе (“Чичи”) письмо в дирекцию Института с предложением представить для публикации наши материалы в качестве тома Бюллетеня Вулканологии, посвященного Камчатке. Для того чтобы дать нам возможность составить действенный авторский коллектив, я лишь просил Эврара указать в письме фамилии потенциальных участников, что он тут же и сделал. Что очень важно был изначально указан заголовок тома “Четвертичный вулканизм и тектоника Камчатки”, что определило ориентировку содержания на вулканическую геологию, структуру вулканических районов и эволюцию четвертичного вулканизма. Более того, та же Чичи, опытная в общении с поступающими от советских авторов публикациями, сразу сказала, что надо попросить английского вулканолога П. Бэйкера привести в порядок английский язык будущей рукописи. В 1973 году я вернулся в Институт геологии Арктики. В качестве главного геолога руководил работами, которые привели к открытию крупнейшего в мире редкометального и редкоземельного месторождения на массиве Томтор, моём старом знакомце с 1959 года. Оценка перспективности Томтора 1974-1975 Крупнейшим достижением года съемки было то, что обнаружилось, что весь Уджа-Чымааринский водораздел в верховьях реки Онгкучах покрыт развалами совершенно неокатанных элювиальных обломков крупнозернистых нефелиновых сиенитов размером 0.2-0.5 м, аналогичных тем, о которых говорилось выше. При внимательном рассмотрении особенностей рельефа этого участка оказалось, что здесь располагается серия пологих невысоких дугообразных холмов, образующих окружность диаметром около 20 км. Учитывая, что дугообразное концентрическое строение характерно для центральных массивов щелочного и ультраосновного-щелочного состава, я высказал гипотезу о том, что концентрическая система дугообразных холмов отвечает массиву такого рода. По названию одной из высот в пределах этой системы Томтор-Тааса (каменный бугор, якут.) я назвал этот массив Томтор. Это был, напомню, 1959ый год. Открытие массива, сложенного породами хибинского типа и мало уступающего по размерам Хибинам произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Ведь было очевидно, что здесь есть все шансы обнаружить оруденение того же типа и не меньшего размера,что и в Хибинах. Уж на что нищая, как церковная крыса организация – НИИГА, над дирекцией которой висел призрак пропущенной кимберлитовой трубки Ленинград, тут же выделила средства на проведение в том же году на междуречье Уджа-Чымаара двухканальной аэромагнитной съемки масштаба 1:50,000 [ Erlich, Karasik, Schilovnov 1961, - год сдачи отчета, полевые работы были проведены в 1959 году]. А. М. Карасик, руководитель этих работ и прекрасный организатор, организовал первичную обработку полевых материалов прямо в поле и магниторазведчики сбрасывали нам вымпелы, чтобы отметить положение самых интересных для заверки аномалий. Тогда-то мы на самой крупной аномалии в северной части Томтора вбили здоровенный деревянный кол. На его-то месте и была задана пробуренная нами в 1975 году победная скважина, прошедшая по почти чистым магнетитам. Сейчас мне в главную заслугу работ на Удже ставят подтверждение гипотезы о наличии у Томтора крупнейшего в мире карбонатитового ядра. Я высоко ценю высказывание Льва C тепанова о том, что мне лично принадлежит заслуга открытия карбонатитов Томтора, тем более, что этому непосредственно предшествовало его же, Степанова, описание ситуации –«никто не понимал что, собственно, происходит» [ Stepanov, 2002]. Если это было бы так, меня надо было бы уволить с должности главного геолога за профессиональное несоответствие. Но, как я сейчас это вижу, наиболее трудным для меня был период предшествующий началу работ, когда я пытался сформулировать возможные их результаты по всем поставленным перед нами задачам и, более того, что эти результаты должны дать для фундаментальных основ наук о Земле (ни больше, ни меньше!). Коренной проблемой в вопросе о структуре массива Томтор является сотношение центральной кольцевой структуры, откартированной в ходе аэромагнитной съемки [Erlich, Karasik, Stepanenko et al., 1961], и предполагаемого эруптивного центра высоты Томтор-Тааса. Оно изображено на рисунке (фиг.12). Видно, что высота Томтор-Тааса расположена на расстоянии несколько десятков километров от центральной кольцевой структуры и именно эта высота является центром дуговых систем даек, выраженных дугами пологих высот рельефа, покрытых элювиальными развалами неокатанных обломков рисчорритов, в отличие от кольцевых ийолит-уртит-мельтейгитовых даек с карбонатитами и апатитолитами центральной кольцевой структуры. Для того, чтобы работы первого года на Томторе могли начаться, надо было завезти на Томтор буровой станок, горючку и буровые бригады. Пока наши рабочие приходили в себя на весновке от беспробудной ленинградской пьяни, руководитель наших буровых работ П. И. Ромашко строил сани в Урюнг Хае ниже по течению от Саскылаха и, погрузив на них буровое оборудование, горючку и буровую бригаду повел караван за более чем 200 км в район работ. Учитывая состояние тракторов, он мог стать в любой точке пути. На этот случай наш начальник Л. Л. Степанов заготовил команду «Бурите где стоите!». Это обеспечивало выполнение хоть какого-то объема буровых работ, но ставило крест, на заготовленных мной решениях задач, поставленных нам в тех. задании. К счастью, команда эта не потребовалась. Караван дошел и стал на отмеченном колом месте максимума магнитной аномалии в северной части Томтора. Так-что стало ясным которую из многочисленных поставленных нам задач мы будем решать. Но бурение не задавалось. Аварии следовали одна за другой пока, наконец, не была подняти колонка керна состоящего из сплошного массивного магнетита. Апатит присутствовал в виде единичных зерен и тонких прожилков. На этой базе, исходя из того, что количества выделенного магнетита и карбонатита должны быть пропорциональны (что неверно!), я предложил гипотезу о том, что центральное ядро кольцевой структуры Томтора должно быть сложено карбонататитами. Исходная посылка, как сказано выше была неверна. Но, если гипотеза была верна, мы имели дело на Томторе с крупнейшим в мире карбонатитовом телом. Это резко повышало перспективность Томтора на редкоземельную и редкометалльную минерализацию. Самих карбонатитов немагнитного ядра мы не вскрыли. Там была развита мощная кора выветривания, пронизанная прожилками льда. Вот такую болванку сплошь состоящего из магнетита керна я и взял с собой в Амакинскую экспедицию, когда поехал туда с отчетом о договорных работах первого года. Ни геологической карты, ни буровых профилей у меня не было. До доклада о результатах я встретился с главным геологом Амакинки Е. Черным и изложил все ему. Он понял меня. Я попросил выдать мне письмо от руководства экспедиции к дирекции НИИГА, дающее добро на договорные работы второго года при условии оснащения партии буровой техникой. Я составил проект этого письма в резких выражениях и получил письмо, а позже и «добро» от своего начальства. Главной задачей второго года бурения была проходка бурового профиля вкрест кольцевой структуры массива. Эта серия скважин должна была перевести на геологическую терминологию язык геофизических аномалий, образующих кольцевую структуру Томтора. Аварии продолжались, но они не были так страшны, как в первый год, когда мы вообще не знали с чем имеем дело. Теперь буровые скважины вскрыли пояс кольцевых даек ийолит-уртитового состава, окружающих карбонатитовое ядро и был подтвержден предполагаемый карбонатитовый состав последнего и главное было установлено наличие крупных тел, сложенных чистым апатитом. Для обеспечения бурения Лев отдал распоряжение разбить профиля нового участка детальных работ. «И сделайте их достаточно широкими, чтобы все понимали что это такое!». И мы, все как один, пошли рубить просеки, называя их в честь Степанова «фюрерштрассе». Когда рубка уже шла к концу, я вышел из балка и упал. Моя левая половина была парализована и меня увезли в Саскылах. Но врач в Саскылахе имел дело только с одной болезнью - алкоголизмом. Все вернулись на базу, и Степанов вызвал санрейс, который доставил меня в районную больницу в Тикси. Меня упрекали в том, что я слишком много писал о деталях открытия Томтора. Но мы с А. В. Толстовым после интенсивной переписки относительно быстро нашли правильную характеристику того, что происходило на разных этапах открытия: Мне страстно хотелось признания экономической значимости Томтора. Впервые я прочел такую оценку в работе А. В. Толстова, прямо приравнивавшего экономическую значимость минерализации Томтора к открытию кимберлитов Сибири. Он добивался того же, что и я. Это, увы, было ложное стремление. Российская промышленность не нуждалась в больших количествах редких земель, и не имела опыта использования рыночного преимущества, даваемого рудами Буранного. Так-что видение города, который неизбежно должен вырасти на Томторе, у меня заменилось образом тракторов, тянущих на буксире буровые станки Мало-Ботуобинской партии правильными линиями просек вдоль буровых профилей (фиг. 13).
В своих поисках работ на Томторе А. В. Толстов нашел естественного союзника в лице директора Института геологии и минералогии СО РАН академика Н. П. Похиленко, который оценил значимость использования А. В. Толстова для «пробивания» проекта освоения Томторских месторождений у якутского начальства. Он взял А.В.Толстова в штат института и А. В. Толстов переехал в Новосибирский Академгородок. Я был рад за то, что он получил возможность жить в цивилизованных условиях и работать над тем проектом, над которым хотел. Главной задачей второго года бурения была проходка бурового профиля вкрест кольцевой структуры массива. Эта серия скважин должна была перевести на геологическую терминологию язык геофизических аномалий, образующих кольцевую структуру Томтора. Аварии продолжались, но они не были так страшны, как в первый год, когда мы вообще не знали с чем имеем дело. Теперь буровые скважины вскрыли пояс кольцевых даек ийолит-уртит-мельтейгитового состава, окружающих карбонатитовое ядро, и был подтвержден предполагаемый карбонатитовый состав последнего и главное было установлено наличие крупных тел, сложенных чистым апатитом. Для обеспечения бурения Лев отдал распоряжение разбить профиля нового участка детальных работ. « И сделайте их достаточно широкими, чтобы все понимали что это такое!». И мы все как один пошли рубить просеки, называя их в честь Степанова «фюрерштрассе». Когда рубка уже шла к концу, я вышел из балка и упал. Это был инсульт. Моя левая половина была парализована и меня увезли в Саскылах. Но врач в Саскылахе знал только одну болезнь – алкоголизм. Все вернулись на базу, и Степанов вызвал санрейс, который доставил меня в районную больницу в Тикси. Сюда прилетела моя жена Роза (Степанов был видимо так обеспокоен, что в телеграмме на имя Розы дал только сообщение «Эдик серьезно болен, вызываем санрейс». Ни слова что случилось, куда везут. И в Институте ничего не знают. Роза полетела в полярную неизвестность «на авось», просто прикинув, что вероятнее всего я в Тикси. В больнице она узнала: диагноз – инсульт, врач – только терапевт. Я лежал один в изоляторе. Роза сразу связалась с родными в Ленинграде, среди них были серьезные медики, которые проконсультировались у специалистов, прислали с летчиками необходимые лекарства и организовали прилет в Тикси врача-невропатолога из Якутска. У профессора Л. И. Бабенко помимо меня в Тикси нашлось много пациентов, ожидавших внимания и помощи. Нам она внушила надежду, что не все потеряно и сказала, что будет ждать меня для лечения в Якутской республиканской больнице. Но дело было сделано. Томтор поступил под разведку. Амакинка бросила сюда тяжелую буровую технику и их партия начала бурение по профилям на участке Буранный. Результаты бурения, защищенные в известном своей придирчивостью Всесоюзном комитете по запасам, показали, что только в пределах одного участка Буранный запасы суммы редких земель и ниобия превышают все мировые запасы этих компонентов и обеспечивают мировую потребность в них на сегодняшнем уровне на сто лет вперед. В сентябре мои коллеги начали возвращаться из поля через Якутск. Они помогли нам улететь домой в Ленинград. Потребовалось еще немало усилий родных, врачей и друзей, чтобы два месяца спустя я смог предстать перед медицинской комиссией, отказаться от инвалидности, явиться в НИИГА на защиту полевых материалов и даже выступить с кратким докладом о результатах второго года. В первых рядах на защите сидел, прижав ладонь к уху, чтобы лучше слышать, легендарный первооткрыватель Норильска Н. Н. Урванцев. Я был счастлив, прочтя в брошюре, посвященной пятидесятилетию ниига [ G ramberg, ed., 1988], что наши открытия на Томторе составляют лучшее достижение института за время его существования. Теперь, когда я уже был в США, начальство хотело как-то отыграть это и появилась статья [ Dodin, Ivanov, Kaminsky, 2008]. Одного не учитывала эта статья, что отличием Богдо от Томтора является полное отсутствие карбонатитов. Я это прекрасно знал, поскольку писал объяснительную записку к листу государственной геологической карты R -50- IX, X. Карбонатиты, по всей видимости, связаны с зонами линейных разломов, следующих вдоль оси Уджинской антиклинали, что хорошо видно на листе государственной геологической карты масштаба 1:200 000 [ Erlich, Stepanenko, 1961]. Сегодня я пришел к выводу о том, что не центральное карбонатитовое ядро является генератором редкоземельной минерализации. Оно лишь использовало структурную ловушку, созданную кольцевой структурой массива (подобно тому как кальдеры не генерируют оруденение, а создают структурные условия для локализации оруденения).
Автор в последний период работы на Томторе, прямо перед инсультом. Фото предоставлено нашим тогдашним техником-геофизиком Л. Я. Харитоновой. Карбонатиты, по всей видимости, связаны с зонами линейных разломов, следующих вдоль оси Уджинской антиклинали, что хорошо видно на листе государственной геологической карты масштаба 1:200 000 [ Erlich, Stepanenko, 1961]. Эта модель описана в [ Erlich, 2018]. Мне страстно хотелось признания экономической значимости Томтора. Впервые я прочел такую оценку в работе А. В. Толстова, прямо приравнивавшего экономическую значимость минерализации Томтора к открытию кимберлитов Сибири. Он добивался того же, что и я. Это, увы, было ложное стремление. Российская промышленность не нуждалась в больших количествах редких земель, и не имела опыта использования рыночного преимущества, даваемого рудами Буранного. Так-что видение города, который неизбежно должен вырасти на Томторе, у меня заменилось образом просек, по которым прошли буровые профиля и, конечно же – образ буровой Мне страстно хотелось признания экономической значимости Томтора. Впервые я прочел такую оценку в работе А. В. Толстова, прямо приравнивавшего экономическую значимость минерализации Томтора к открытию кимберлитов Сибири. Он добивался того же, что и я. Это, увы, было ложное стремление. Российская промышленность не нуждалась в больших количествах редких земель, и не имела опыта использования рыночного преимущества, даваемого рудами Буранного. Так-что видение города, который неизбежно должен вырасти на Томторе, у меня заменилось образом просек, по которым прошли буровые профиля и, конечно же – образ буровой техники, идущей на Томтор (фиг.15).
Пришла Большая техника. Трактора волокут буровые и поставленные на сани жилые балки буровых бригад. Фото предоставлено А. В. Толстовым, из архива Э. Эрлиха В своих поисках организации работ на Томторе А. В. Толстов нашел естественного союзника в лице директора Института геологии и минералогии СО РАН академика Н. П. Похиленко, который оценил значимость использования А. В. Толстова для «пробивания» проекта освоения Томторских месторождений у якутского начальства. Он взял его в штат института и Саша переехал в Новосибирский Академгородок. Я был рад за него, получившего возможность жить в цивилизованных условиях и работать над тем проектом, над которым он хотел. Коренной проблемой в вопросе о структуре массива Томтор является сотношение ценитральной кольцевой структуры, откартированной в ходе аэромагнитной съемки [ Erlich, Karasik, Stepanenko et al., 1961], и предполагаемого эруптивного центра высоты Томтор-Тааса. Оно изображено на рисунке (фиг.16). Видно, что высота Томтор-Тааса расположена на расстоянии несколько десятков километров от центральной кольцевой структуры и именно эта высота является центром дуговых систем даек, выраженных дугами пологих высот рельефа, покрытых элювиальными развалами неокатанных обломков рисчорритов, в отличие от кольцевых ийолит-уртит-мельтейгитовых даек с карбонатитами и апатитолитами центральной кольцевой структуры.
Из [ Erlich, 20018]. Карта составлена на топооснове масштаба 1:200,000. С самого начала исследования Томтора состав его магматических пород характеризовался, как принадлежащий к формации ультраосновных-щелочных пород [ Erlich, 1964 a ]. Строго говоря, это не так. Сбственно тела, сложенные ультраосновными породами на самомТомторе отсутствуют. Небольшие дайки и силлы этих пород описаны в долине р. Чымаара и на линейной гряде к югу от Томтора, образующей ось Уджинской антиклинали. Небольшие тела типа некков на Томторе сложены габброидами с повышенным содержанием щелочей. Тот же состав обнаруживают и покровы пирокластических пород, описанные Б. Р. Шпунтом в стороне от Томтора[ Shpount et al., 1991]. Л. С. Егоров [ Yegorov, Surina et al., 1985] с учетом этого и сравнения Томтора с пордами Маймеча-Котуйской провинции говорит о том, что слагающий Томтор комплекс пород принадлежит к ийолит-карбонатитовой формации. Характерна разница в составе пород, слагающих Томтор и второй крупный массив Уджинской провинции – Богдо. Для пород Богдо характерно полное отсутствие карбонатитов и постоянное присутствие в преобладающих в его составе ювитов граната [ Erlich, Porshnev, Rybakov, 1959]. Последнее отчетливо свидетельствует о том, что пророды Богдо, кристаллизовались при повышенном давлении сравнительно с породами Томтора. Отстоять себя
Для меня после инсульта возможность изучения Томторского материала представлялась единственным вариантом исследовательской работы в Институте. Но она была «выбита» из-под меня, как табуретка из-под ног приговоренного к повешению, Л. С. Егоровым. После того, как он опубликовал статью о перспективах Томтора с новым главным геологом партии Г. И. Поршневым, он как бы закрепил за собой право участия в первооткрывательстве. Льву Степанову это было на руку, поскольку авторитет Егорова в Институте был неизмеримо выше моего. Сейчас, глядя назад, трудно даже вообразить степень моего непонимания ситуации в стране в которую я ехал. Я совершенно не знал что требуется от геолога-поисковика на Западе, не знал требований к преподавателям университетов (главные организации, в которых я собирался работать). Я знал, зачем я еду – работать над фундаментальными проблемами геологических наук. Поэтому первый выбор, который я должен был сделать – страна пребывания. По всем параметрам мне более всего подходили США. Это были счастливые времена президентства Р. Рейгана, когда эмигрантов из СССР в Америке приветствовали. У меня были с собой две вещи, которые должны были, по моему представлению, помочь мне найти место в новой жизни: специальный выпуск Bulletin Volcanologique, посвященный Камчатке, где я был одновременно главным автором и редактором, и личное письмо от Энсо Локарди к директору геологической службы США ( USGS ), с просьбой помочь мне устроиться на работу. Для меня лично важнейшим итогом публикации сборника явилось то, что его прочитал Энсо Локарди. Под впечатлением этого он без просьбы с моей стороны написал и отдал мне рекомендательное письмо к Директору Геологической службы США ( USGS ). Вручая его мне он сказал: «Заметь, что я пишу ему как личному другу, обращаясь по имени ( first name ) и без чинов». Я не видел, что он писал, но результатом было то, что я был принят в USGS по первому разряду. Они не могли зачислить мня в штат, поскольку я не был тогда гражданином США, но дали мне контракт на один год. Самостоятельной, без каких-либо рекомендательных писем, такой же была реакция на чтение сборника и Питера Липмана – неформального лидера вулканологической группы USGS. В контракт были включены, как часть проекта, мои доклады о четвертичном вулканизме Камчатки во всех оффисах Геологической службы - В Рестоне, Вирджиния, Денвере, Колорадо, Флагстаффе, Аризона, Аляске, Менло Парке, Калифорния, на Гавайях. Мне объяснили, что это делается, чтобы дать мне возможность познакомиться с работами, ведущимися геологической службой и дать возможность своим работникам познакомиться со мной. Раз в неделю я делал сообщение на заседании (во время ланча) вулканологической группе Денвера докладывая о прогрессе в моей работе. Они же подсказали мне правильный путь использования средств гранта. Это было время, когда американские правительственные организации, в том числе и геологическая служба, перешли на использование компьютерной техники. Так у меня появился дома первый в моей жизни компьютер и я по сей день ежедневно пользуюсь приобретенными за счет гранта прекрасным Атласом мира, [ Times Atlas of the World ] и только-что вышедшим геологическим словником - незаменимым пособием по англоязычной геологической терминологии [ Bates & Johnson, 1979]. Я испытывал искреннюю зависть и огромный интерес к тому, как геологическая служба США организовала наблюдения на Маунт Сейнт Хеленс, аналоге нашей Безымянной сопки на Камчатке. На Безымянке дело ограничивалось парой поездок в год с полным отсутствием инструментальных наблюдений. На Маунт Сейнт Хеленс проводились систематические облеты с аэрофотосъемкой и инструментальной оценкой изменений рельефа в случае, если между облетами имело место извержение. Одновременно велось дистанционное измерение температур на растущем куполе в кратере вулкана. Я восхищался местным патриотизмом работников геологической службы искренне преданных своей организации, всегда с восторгом рассказывающих о ней, ее устройстве, техническом оснащении. Переход к использованию компьютерной техники для создания базы данных по активным извержениям и попыткам прогноза извержений по оценке их вероятности на статистической основе. В этом контексте мне была поставлена задача составления каталога кальдер Камчатки и Курил как подсобной работы для сводки К. Ньюхолла и Д. Дзуризина [ Newhall and Dzurizin, 1988]. Так появилась моя работа – каталог кальдер Камчатки и Курил [ Erlich, 1984]. Вот последнее и сыграло решающую роль в моей судьбе. Взять меня на работу в федеральную организацию не могли – я не был гражданином США. Но мои коллеги из группы вулканологов Геологической службы в Денвере сделали все от них зависящее, чтобы я мог акклиматизироваться в стране. Я получил два контракта – один с USGS, где меня опекал главный специалист по кальдерам Запада страны Питер Липпман, и второй - со Смитсоновским институтом, где я попал под крыло к Тому Симкину. Срок контрактов был минимальный – год, деньги - на пределе возможности существования. Но атмосфера была самая дружеская. Чтобы оградить контракт от возможных претендентов в него вставили условие, что контракт предполагает, что исполнителем будет человек, имеющий десятилетний опыт работы на Камчатке. Но это же Соединеные Штаты – страна, где есть всё. Нашелся и геолог с десятилетним опытом работы на Камчатке – Эдик Блюмштейн. А ко мне навязался Я. Красон хозяин фирмы, подвизавшейся на контрактах с государственными организациями. Он предложил мне выступить от имени его компании, пригрозив в случае моего отказа взять того же Э. Блюмштейна. Я подумавши согласился. Создавать угрозу этому гранту я никак не хотел. Так все деньги, идущие по статье «накладные расходы» пошли Красону. Мне осталась одна зарплата и помощь со стороны дочки Красона, выполнившей некоторые иллюстрации. Но я был под дружеской опекой геологической службы. П. Липман обязал работников вулканологической группы редактировать мой текст и машинистка этой группы печатала отредактированный готовый текст отчета. Прежде всего предстояло понять, кто вообще заинтересован в работе геолога и что от него ждут. Здесь кроме государственных геологических служб, проводивших полевые работы дававшие дававшие общую геологическую основу, существовала большая группа людей, имевших возможность «клеймить» территории, приобретать право на минеральные ресурсы тех или иных районов. Люди это были разные, но их объединяло желание попробовать счастья в горном деле. Денег на клеймение минеральных прав у них хватало, но денег на серьезные работы по оценке перспектив района не было. Геологии они не знали вообще, для этого они нанимали экспертов-геологов, вроде меня, которые должны были дать общую металлогеническую оценку площадей, выделяя перспективные участки на золото, серебро, драгоценные камни, в первую очередь алмазы. При этом эти инвесторы требовали составления проекта оценочных работ и оценки предполагаемой их стоимости. После этого инвесторы первого этапа или просто продавали права на минеральные ресурсы крупным горнорудным компаниям или начинали оценочные работы. Перечень моих проектов дает представление о том, с какими инвесторами я имел дело и каковы были задачи, поставленные мне. Первым среди них надо назвть Марка Э. Джонса, III го. Он был исполнительным директором двух компаний, используемых им как крыша: Crown Resources, занимавшаяся поисками и оценкой золоторудного оруденения, и Texas Star Resources, занимавшаяся поисками и оценкой алмазоносных месторождений. У самого Марка денег не было, но были связи с людьми, доверявшими его чутью и знанию бизнеса. Мое знакомство с ним состоялось на гребне алмазной лихорадки, связанной с открытием кимберлитов Канады в провинциях Бритиш Колумбия и Северо-западные территории, пошатнувшими монополию Де Бирса. Марк клеймил большие территории, получив права на их минеральные ресурсы. На этом фоне ему показался выгоден представленный мной проект создания совместного предприятия с Архангельскгеологией по разведке алмазных месторождений района Архангельска. В связи с оценкой алмазоносности Канады для меня встал вопрос о возможной кимберлитоносности Аляски. Здесь только-что были описаны выходы туфов ультраосновного состава. Участок принадлежал женщине, фамилии которой я, к сожалению, не помню. Денег у нее не было вообще, а знаний геологии того меньше. Она рассчитывала исключительно на свои политические связи. Поэтому даже обеспечить закрепления за собой минеральных прав она не могла. Влиятельный в штате Сонора (Мексика) адвокат Рауль Энсинас Алькантар, с которым меня познакомил Л. Смирнов, очень влиятельный и образованный человек, был впечатлен монтажем спутниковых снимков Соноры, полученным мной в Геологической службе США. Это давало ему внутреннее право показать как он ценит истинно научные знания, основанные на самых передовых технических данных. Он был не прочь заработать на золоторудных рудопроявлениях этого штата. Сходным по типу был и американец итальянского происхождения, чье имя я, к сожалению, тоже забыл, заказавший мне оценку золоторудных месторождений Эквадора. Здесь я познакомился и подружился с прекрасными местными геологами, знатоками всех деталей здешней ситуации, как геологической, так и общественной, такими как Гильберто Андраде и Вивиана Альварес. Сотрудничество с Крисом Харальдом, президентом одной из компаний Марка Джонса Краун Ресорсес, доставило мне искреннее человеческое удовольствие. С ним я ездил на золоторудные месторождения Кыргызстана, на Дальний Восток, в устье Амура и на Колыму, в район Сеймчана. И на обратном пути с Дальнего Востока в Штаты мы залетели в Японию и я служил моим спутникам гидом по Токио (неожиданно для себя, припомнив на месте свои впечатления от первой поездки 1966го года в эту замечательную страну). В глазах всех инвесторов этого типа я имел большое преимущество – за мной стоял авторитет российской геологической службы на счету которой были блестящие открытия кимберлитов Сибири и Архангельска и огромные успехи в поисках золоторудных месторождений. Моя личная профессиональная репутация также была высока, благодаря грантам и контрактам с наиболее престижными геологическим организациями в США. Контакты с президентом компании Texas Star Э. Эдвардсом дали мне возможность единственный раз побывать в Африке – в столице Ганы Аккре и ознакомиться с материалами по закономерностям пространственной локализации тамошних кимберлитов. К сожалению, ни один из этих проектов не воплотился в жизнь. На том или ином этапе инвесторы понимали, что их средств недостаточно для продолжения проекта. Самым показательным был в этом отношении проект с Crown Resources. Одним из самых ярких было одно из месторождений района Сеймчана на Колыме. Крис поставил условие владельцам месторождения при котором он готов заключить договор о создании совместного предприятия. И оно было принято! Но тут, в конце пути, Крис обнаружил то, что он должен был знать изначально: налоговое законодательство России об иностранных инвестициях составлено так, что не оставляло потенциальным инвесторам ни малейшего шанса на сохранность начального капитала, не говоря о вывозе прибылей – полная противоположность аналогичному законодательству Казакстана. Обращение к истокам 2010-2018 Этот период знаменовался резким изменением условий моей работы. Прежде всего, появился интернет, резко облегчивший составление разного рода сводок и редактирование научных работ. Доступ к интернету мне обеспечил мой друг и коллега В. И.Белоусов. Примерно ко времени официального выхода на пенсию (2000 год), я близко сошелся с ним. Мы сработались. Благодаря ему я получил возможность свободной публикации на интернете. Так-что за мной оставались только немалые заботы о переводе на английский и публикации «в бумаге». Начало нашему сотрудничеству положила работа, рассматривающая современное состояние идей о тепловом потоке Земли [ Belousov, Erlich, 2010]. Мы показали невозможность генерации теплового потока за счет радиоактивного разогрева, связанного с акцессорными минералами вулканических пород и преобладание тепла, поступающего из глубинных источников, где летучие компоненты были законсервированы на начальных стадиях образования нашей планеты. Продолжением ее была статья о природе скарнов. В этот период я стал относительно финансово независим и не надо было тратить много времени, чтобы обеспечить средства к существованию. Это дало мне возможность заново пересмотреть обобщающие работы о структуре и магматизме подвижных поясов островных дуг и связанных с ними геотектонических систем типа Камчатки и Тайваня [ Erlich, 2010]. И позже о геодинамике стабильных плит – платформ и срединных массивов [ Erlich, 2017], развивая идеи важнейшей роли геодинамики в создании структур и проявлении тех или иных формаций магматических пород. В то же время я вернулся к рассмотрению основных принципов, лежащих в основе наук о Земле, таких как принцип актуализма, канон Штилле и попытки проследитьзакономерности пространственного распределения мобильных поясов [ Stovas, 1963, Lychkov, 1965, Chebanenko, 1964] и пытался разрешить некоторые крупнейшие противоречия теории плит, намечая пути к созданию новой универсальной теории геодинамики и магматизма Земли. В целом этот период ознаменовался обращением к основам наук о Земле. Это делалось на базе геодинамического подхода. Так при рассмотрении островных дуг упор делался на то, что движения по сейсмофокальным зонам имеют, в основном, сдвиговую, а не надвиговую природу. При рассмотрении геодинамики платформ были полностью учтены материалы геологических съемок, показывающие большое распространение в этих геодинамичесеких системах горизонтальных смещений [ Mezhvilk, 1984, Voronov, Erlich,1962] Анализ мощностей отложений осадочного чехла, рассматривавшийся как единственный метод анализа истории формирования структур, затемнял анализ образования структур поднятия. Понимание значимости Истории для повседневной жизни выросло во мне не на пустом месте. Оно укреплялось тем, что я рос в городах, прямо-таки насыщенных ею. Мне выпало счастье родиться в Ленинграде, где все дышало историей и не только историей имперской России, его уникальные музеи давали нам наглядные уроки мировой истории. Я с моим товрищем Гариком Шпигелем каждую неделю ходили в Эрмитаж и наизусть знали его гордость - «маленьких голландцев» и коллекцию фламандской живопииси. При первой же возможности я записался в кружок истории при Дворце пионеров. То, что нам там давали, правильнее было бы назвать историей архитектуры Ленинграда. Но спасибо большое Юрию Павловичу Суздальскому, профессору истории Лен. Педагогического Института им. Герцена, что он по ходу рассказывал нам о битве при Фермопилах о которой вспоминал, защищая Ленинград, и давал уроки латыни, используя латинские пословицы и фразы из «Записок о Галльской войне» Юлия Цезаря. Другим городом был Петропавловск на Камчатке, где я провел более десяти лет. Этот заштатный город прямо-таки дышал историей. Петропавловск восемнадцатого века был одной из важнейших мировых баз географических открытий в северной части Тихого океана. Отсюда шли на Аляску корабли Шелехова, здесь прямо перед зданием обкома партии лежит могильная плита памяти моряков экспедиции Кука, а рядом в сквере стоит огромный валун, к которому прикреплен огромный старинный корабельный якорь, а на самом валуне надпись известью «Памяти Лаперуза». Я уже упоминал в начале этого очерка, что начиная работы на Камчатке мы, партия Миши Голубовского, буквально шли по стопам пионера камчатской геологии К.И.Богдановича. И не случайно, что в один из последних полевых сезонов сделанных из Петропавловска я был на Командорах. На обоих островах и на Беринга и на Медном, где мы имели счастье посетить могилу Командора Витуса Беринга и это усилиями сотрудников, Института вулканологии, на ней был установлен крест. Сейчас среди правителей России возведение памятников стало манией. Этим правители страны хотят увековечить память о себе и утвердить себя, как преемников правителей прошлого. Но кому и какие памятники они ставят? В Петропавловске, одержимые манией возрождения православия, они поставили памятник апостолам Петру и Павлу. А ведь здесь, точнее в Паратунке, жил первый православный, глубоко чтимый епископ Иннокентий (Вениаминов) в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов, много сделавший для распространения православия на Камчатке и на Аляске, о которой только и поминают, что она русская, до сих пор жива память о первых русских миссионерах православия. Он был первым правословным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, сподвижником Муравьева-Амурского, первого генерал-губернатора края. В 1977 году он был прославлен в лик святых Русской православной церковью Америки и прославлен как апостол Сибири и Америки, в 1994 году прославлен в лик святых Русской православной церковью за границей. Естественно, одного этого было достаточно, чтобы предать его забвению на родине. Но не это были истинные герои Истории в понимании нынешних правителей страны. В Петербурге не нашли ничего лучшего как поставить памятник «чижику-пыжику», герою мещанской песенки и отдельно – ежику (!!!). Это воистину памятники кругозору тогдашней градоначальницы В.И. Матвеенко. И, в припадке поклонения «серебряному веку» (он наш!), ставятся три (!!!) памятника А. А. Ахматовой и, естественно, ни одного Гумилеву, расстрелянному ЧК. Я обрел возможность продолжить свои исторические изыскания и испытывал искреннее удовольствие получая из первых рук (от В. И. Белоусова) материалы по истории геотермических исследований в СССР и геотермальной энергетики. Они, в очищенном от личностных мотивов виде, начались вне науки, которая, казалось бы, существовала для этого. Просто сотрудник заштатной организации Главсахалинрыбпромпроект А.А. Гавронский был так впечатлен чтением популярных книг А.Е.Ферсмана, рассказывающих, помимо всего прочего, об огромных запасах энергии в недрах планеты, что написал письмо И.В. Сталину о необходимости использования геотермальной энергии на Камчатке. С положительной резолюции Сталина и позже В.М. Молотова на этом письме началась академическая комиссия по оценке возможности строительства опытной геотермальной электростанции на Паужетке. Конечно же дело было новое и было много технических и теоретических трудностей, но фактически все упиралось в отсутствие нужных буровых станков. Но, даже при наличии всемогущих резолюций И.В. Сталина и В.М. Молотова, Госплан тянул начало строительства несколько лет. Госплан привык к тому, что решения саботируются и чего-чего, а гибкости даже в простейшем вопросе о распределении буровых станков он проявить ее не мог по самой своей природе [ Belousov, Erlich, 2014]. Не беда, что в Петропавловске весь город отапливался кочегарками с горько пьющими кочегарами, горючка для них завозилась танкерами и, соотвественно, была дороже золота. Наконец В. Ренне посоветовал посланным в Москву за станками ходатаям «Да вы сводите их (мое начальство, нужных людей) в Узбекистон (самый модный тогда ресторан в Москве) и все у вас будет». И это безотказно сработало. Так были получены станки и в итоге их работы были резко увеличены запасы тепла на Паужетке и проведено бурение на Мутновке. Не могу не вспомнить, что выделенный нам, Уджинской партии, решением Госплана буровой станок для бурения на Удже был получен только потому, что наш начальник Л.Л.Степанов был послан за ним, сопровождаемый матом зам. директора по науке НИИГА М.Г.Равича, и правдами и неправдами выбил его. Так мы смогли выполнить договорные работы с Амакинкой, в итоге которых были подтверждены гигантские запасы редкоземельных руд на участке Буранный на Томторе. Вторая сторона истории науки, к которой я обратился, была потерянная, не данная нам в Институте история геологии. Это принципиальная потеря. Открытие месторождений для меня было не просто результатом суммы технических работ, то есть простым перечнем кто, где и когда работал, а история ИДЕЙ. Так типичная история Н.Н. Сарсадских и ее аспирантки Л.А. Попугаевой в итоге работ которых была открыта первая в Сибири кимберлитовая трубка Зарница, толкнула меня поднять, вместе со всеми имющимися материалами на эту тему, историю открытия алмазов России, в которой отражена борьба идей вокруг этого, казалось бы решенного много лет назад вопроса. Так родилась идея книги «Месторождения и История». Она была издана в двух версиях: первоначальной, краткой [ Erlich, 2005] и полноформатной, [ Erlich, 2016]. Я никогда не был специалистом в области геологии месторождений полезных ископаемых, но оторваться не мог от этого материала. Тем более, что в это время исполнилось стопятидесятилетие К.И.Богдановича, основателя российской школы геологов работающих в области геологии рудных месторождений. Прямо по следам этого замечательного исследователя я работал в 1956-1957 годах на Камчатке и мне казалось, что я обязан воздать должное этому храброму человеку и выдающемуся ученому. Но не только К. И. Богданович, поляк и эмигрант, был вычеркнут из нашей памяти В той же мере мы не знали даже имен Дж. Хаттона, Ч. Ляйеля, Г. Штилле, чьи идеи легли в основу наук о Земле. Отсюда, из стремления воссоздать истину и воздать должное пионерам геологической науки, родились мои работы о каноне Штилле и методе актуализма [ Erlich, 2010, Belousov, Erlich, 2010]. Актуализму доставалось меньше, главный удар приходился на канон Штилле. Примером оценки работ Г. Штилле может служить нижеприводимая цитата из справки об этом замечательном человеке из [ Varentsov, 1939]: «Мы считаем важным со всей силой подчеркнуть необходимость подвергнуть самой резкой и сокрушительной критике взгляды фашистского геолога Штилле и его поклонников, опошляющих и извращающих понятие «революция». С ними надо вести борьбу так же, как ведется борьба против искажения понятия революции в историческом материализме врагами социализма, врагами марксизма. Ленин и Сталин учат нас, что революция— это очень сложный процесс, процесс борьбы нарождающегося и неодолимо развивающегося нового с отживающим старым. Надо бороться решительно со Штилле потому, что он действительно опошляет и извращает самые основные и великие принципы диалектического материализма. Как Штилле и его поклонники понимают революцию или орогенные фазы, «орогенный закон времени»? Они понимают их, как мгновенные сугубо катастрофические явления всемирного масштаба как мгновенные и катастрофические движения, совершающиеся одновременно во всем мире. Известно, что Штилле является самым махровым фашистом в геологии. Давно назрела необходимость разоблачить все его лженаучные, реакционные взгляды и теории». Комментарии здесь излишни – по тем временам прямой политический донос. В угоду идеологическим течениям идеи Штилле замалчивались, искажались и отрицались. Спор, дискуссия о них, если можно назвать это одностроннее охаивание спором и дискуссией, отсутствовали. Единицы нашли в себе силы правильно оценить их значение. Выдающийся советский тектонист Л.И. Красный прямо назвал «гениальным» Х. Штилле, автора канона распределения орогенических фаз во времени. Р. Г. Гастил [ Gastil, 1960], и позже М. М. Рабинович [ Rabinovich, 1967] подтвердили реальность канона, используя радиометрические датировки и тем сократили, в соответствии с разрешающей способностью метода, продолжительность орогенических фаз до первых миллионов лет (оригинальный канон использовал биостратиграфические методы датировки и, соответственно, продолжительность фаз определялась в десятки миллионов лет). Нас с И. В. Мелекесцевым за сводку данных по стратиграфии четертичных вулканических толщ стран обрамления Тихого океана [ Erlich, Melekestsev, 1972], показавшую синхронность вулканических импульсов единого состава в масштабе всего сотен тысяч лет на огромных просторах планетарного масштаба, клеймили как «ультраштиллеанцев». Сам список моих соавторов показывает, что все они были из лучших специалистов каждый в своей области: В. И. Белоусов в области геотермии Камчатки, Ю. Д. Кузьмин – в сейсмологии Камчатки, И. В. Мелекесцев в стратиграфии четвертичных вулканогенных толщ, W. D. Hausel - в проявлениях кимберлитового вулканизма в Северной Америке. Все они были соавторами по праву и сотрудничество с ними многому меня научило. Распределение работы между соавторами наглядно иллюстрируется на примере моего сотрудни ч ества с И. В. Мелекесцевым [ Erlich, Melekestsev, 1972]. Итогом работы по сопоставлению стратиграфии толщ четвертичных вулканитов явилась сводка англоязычной литературы. Но Иван Васильевич совершенно не знал английского, что ясно показывает, что синхронизация и вывод об одновременном проявлении вспышек четвертичного вулканизма на всей огромной периферии Тихого океана был сделаны мной. И. В. Мелекесцев был одним из главных авторов стратиграфической схемы четвертичных вулканогенных толщ в сопоставлении с рыхлыми четвертичными отложениями Центральной Камчатской депрессии [ Melekestsev, Braitseva, Geptner 1969]. Одновременно я написал статью «Уроки Голландии» [ Erlich,200 ], воздав должное народу этой страны, выстоявшему в почти восьмидесятилетней войне с одной из самых могущественных стран Европы, Испанией, отстоявшим свое право свободы вероисповедания и ставшей одной из самых промышленно-развитых стран мира. Это была первая в мире буржуазно-демократическая революция за которой последовали английская и американская. Так возникла первая в Европе республика и на ее почве расцвело искусство «Северного возрождения», давшее миру таких гигантов как Рембрандт, Рубенс и художники фламандской школы. Одновременно я написал статью «Уроки Голландии» [ Erlich,200 ], воздав должное народу этой страны, выстоявшему в почти восьмидесятилетней войне с одной из самых могущественных стран Европы, Испанией, отстоявшим свое право свободы вероисповедания и ставшей одной из самых промышленно-развитых стран мира. Это была первая в мире буржуазно-демократическая революция за которой последовали английская и американская. Так возникла первая в Европе республика и на ее почве расцвело искусство «Северного возрождения», давшее миру таких гигантов как Рембрандт, Рубенс и художники фламандской школы. Ну конечно же я был честолюбив не менее других моих сверстников. Просто мое честолюбие было «другого типа». Я считал главным для себя доведение до конца анализа материала по выбранной теме, и публикацию его в наиболее читаемых изданиях. Защиту диссертаций я считал естественным итогом работы, не более того. Мне ставили в вину то, что я был членом партии –“очевидное доказательство” карьеризма. Но это произошло от желания защититься от ограничений «по пятому пункту» и главное от желания активно участвовать в общественной жизни. По той же причине в США я стал писать по разным вопросам Президенту (нимало не заботясь совпадают ли моя и его точки зрения). В итоге мы с Розой неожиданно для себя стали членами Национального комитета Республиканской партии (Говоря советскими терминами – членами её ЦК), а я –членом группы специальных советников Президента Трамп а. Барабаны судьбы 1955-2018 С удьба Онегина хранила А. Пушкин Ну вот, все уже сказано. Теперь попробуем разобраться в движущих силах событий. Все началось с серии чисто случайных совпадений, событий, которые произошли вне моей воли. Чисто случайно именно Пятое геологическое управление, с которым я был связан через Октавия Несторовича Толстихина, проводило геологическую съемку миллионного масштаба, закрывая последние белые пятна на карте Союза, – на Камчатке. И я, по чистому случаю, попал на Срединный хребет и оказался в роли главного (правильнее сказать, единственного) геолога в партии Пятого геологического управления Миши Голубовского, работавшей прямо по следам зачинателя камчатской геологии К.И. Богдановича. Стоило мне пораработать в этом районе еще пару лет, и я бы стал автором сводной картины четвертичного вулканизма Срединного хребта, готовая диссертация, которую я кончил только в 1962 году [ Erlich, 2014]. Но Судьба, иначе не скажешь, в лице руководства Управления, решила по своему. Ничто иное, как случайность, привело меня в НИИГА в то самое время, когда Сережка Гулин описал Уджинскую аниклиналь, открыл богатейшую редкоземельную минерализацию, и, главное, «по семейным обстоятельствам», уехал на Чукотку. Я был вынужден кончать за него отчет и, невольно, стал первым, кто официально описал эту уникальную структуру. По чистому случаю, когда Уджинский лист делили между тремя партиями под двухсоттысячную съемку, мне дали центральную полосу. Так я, вне моей воли, оказался первооткрывателем Томтора и правильно определил его структуру, формационную принадлежность и наиболее вероятный тип развитого здесь оруденения [ Gulin, Gorin, Erlich et al., 1962]. Ну, раз уж мне так повезло, упустить знак судьбы я не мог. Все, чему меня учили в Ленинградском Горном, привело меня к созданию геодинамической схемы развития структуры и магматизма северовосточной части Сибирской платформы [ Erlich, 1985]. Еще бы год-два спокойной работы и можно было бы еще тогда сделать общую картину геодинамики и магматизма платформ, которую я окончил почти 50 лет спустя [ Erlich, 2017]. Ну, что, кроме чистой случайности, привело к тому, что, когда в 1975 году меня, по сути, выкинули из Института вулканологии, в НИИГА создавалась договорная партия, главной задачей которой были буровые работы на Томторе, то есть то, чего нам не хватало в 1959 году. И я главный геолог этой геологической партии. И чистый случай, что караван с буровой техникой и горючкой дошел до Томтора и нашел в тайге кол, поставленный в 1959 году нами на максимуме магнитной аномалии на севере массива. В итоге родилась гипотеза о том, что у Томтора есть карбонатитовое ядро, крупнейшее в мире тело карбонатитов. Это полностью меняло оценку перспективности массива. Что вело меня и давало мне силы на всех этих крутых поворотах– стремление к познанию Природы и желание довести до конца анализ того материала, который в силу судеб оказался в моих руках. Болезнь и возраст лишили меня возможности принимать в дальнейшем участие в полевых работах. Спасибо начальству и Л.С. Егорову, дорога к официально-признанной «науке», то есть возможность числиться по статье «наука», была для меня закрыта. Оставалась надежда испытать свои силы в решении фундаментальных проблем наук о Земле. Порукой тому явился выход из печати специального выпуска международного вулканологического бюллетеня, посвященного вулканизму Камчатки, главным автором и редактором которого был я. Началась эпопея выезда в США. И, главное, мне глубоко жаль, что в конце жизни я лишен возможности прямого общения с молодым поколением геологов и могу передать свой опыт только через литературу. Моей самой большой заслугой за годы работе на Томторе считают гипотезу, ныне подтвержденную, о том, что ядро центральной кольцевой структуры образует самое крупное в мире карбонатитовое тело. Но я считаю, что главной моей победой явилась гипотеза о существовании самого Томтора, его размере и формационной принадлежности [ Erlich, 1964 a ]. С этой статьи, с самого её названия, началось отстаивание своеобразия, совершенно очевидного, Уджинской провинции от нападок Л. С. Егорова. Он почувствовал в признании своеобразия и самостоятельности этой провинции угрозу всему, что он делал и тут же заявил, что конечно же проявления ультаосновного-щелочного магматизма Уджинского района составляют не более чем часть Маймеча-Котуйской провинции. Ясное указание на своеобразие возраста уджинских пород, даваемое единственной в то время калий-аргоновой датировкой по флогопиту в щелочных сиенитах, чуть более 400 Ма, при обычном для Маймеча-Котуйских калий-аргоновых датировках 250 миллионов лет, он объяснил ни больше ни меньше как полной недостоверностью калий-аргоновых датировок как таковых и вообще как это могли что-то открывать касающееся такого рода магматизма и апатитоносности без его, Лени, руководства и прогнозов. Спорить было бесполезно. Он боролся за свой авторитет.Кончилось это тогда, когда в сборнике под редакцией Л. С. Егорова, посвященной апатитоносности северной Сибири, была опубликована его статья в соавторстве с П. Г. Рысиным, заменившим меня после инсульта на должности главного геолога Уджинский партии [ Yegorov et al., 1985]. Я описал всю эту историю в статье [ Erlich, 2000]. Тем самым была закреплена заявка Л. С. Егорова на участие в первооткрывательстве апатитовой минерализации Томтора и Уджи. Меня практически лишили доступа к материалам Уджинской партии, передав научное руководство ею Л. С. Егорову. С учетом невозможности для меня ездить в поле после инсульта, меня тем самым вышвырнули из «науки» в ее административно-финансовом понимании в НИИГА. Осталось, как утешение, признание Л. Л. Степанова в его статье об открытии минерализации Томтора, что «если кто и открыл карбонатиты Томтора, так это Эрлих» [ Stepanov, 2002]. В дискуссиях с моим другом Г. Гинзбургом я сформулировал свое понимание судьбы: «Судьба это взамодействие объективных событий и особенностей личного характера». Мне кажется, что моя биография полностью подтверждает это определение. Обстановка на сегодняшнем (видимо последнем) этапе профессиональной жизни резко изменилась почти во всех отношениях. Прежде всего это связано с появлением интернета, создавшим обстановку невиданной дотоле свободы творчества и возможностей публикации. Во-вторых, я стал получать пенсию, обеспечившую мне минимальную материальную обеспеченность. И, наконец, я стал профессионально взрослее. Все это обеспечило свободу выбора тем исследования и, хоть и не в полной мере, обеспечило свободу творческой работы. Следующий ниже перечень тематики, которой я занимался на этом этапе дает достаточно полное представление и моих профессиональных интересах. Здесь надо назвать следующие группы работ:- Группа работ об островных дугах и сходных с ними геотектонических системах раннеорогеного и орогенного типа и более поздняя работа того же типа о платформах; Статьи, посвященные основам наук о Земле (о каноне Штилле, методе актуализма), опубликованные в Известиях ВУЗов, серия геология и разведка:- Статьи о кальдерах и вулкано-тектонических депрессиях в связи с проблемами теплового режима опубликованы в интернете; Все они основаны на обобщении литературного материала и попытке тщательного анализа фактов, собранных в ходе предшествующих исследований Л. С. Егорова. Важной особенностью подхода К. И. Богдановича к геологии рудных месторождений было то, что он считал, что оценка потенций рудных месторождений должна не просто фиксировать имеющиеся запасы, но создавать перспективу освоения ресурсов в будущем. Моя оценка перспектив редкоземельной минерализации Томтора буквально следует такому подходу. Разведанные запасы редкоземельных элементов в пределах одного только участка Буранный по оценке А. В. Толстова обеспечивают мировой спрос на эти компоненты на 100 лет вперед. Сегодня эти элементы не востребованы российской промышленностью. Так что это резерв всего человечества и нет ни малейшего сомнения в том, что в будущем они будут освоены. На этом «последнем перегоне» особо значительное место заняли работы, посвященные истории геологических наук. Естественным окончанием этого этапа был мой доклад по дороге из поля домой, в Ленинград в Лаборатории вулканологии АН СССР и статьи о восхождении на Ичинский вулкан, масштабах базальтового вулканизма в районе Анауна, опубликованные в изданиях Лаборатории и ститья в Известиях АН СССР об этапах четвертичного вулканизма в зоне Срединного хребта. Естественным завершением серии работ, посвященных истории геологических исследований, были совместные с В. И. Белоусовым статьи об истории геотермических исследований и строительства геотермальных электростанций на Камчатке. Меня просто поразили рассказы Володи об этих событиях, ярко иллюстрирующие полную недееспособность советской науки и плановой экономики вообще. Развитие геотермических исследований было прямой задачей Лаборатории вулканологии АН СССР, но началось все совсем не с Ученых, а с письма работника заштатной организации Сахалинрыбпрома А. А. Гавронского на имя И. В. Сталина с призывом освоить гигантские источники тепла недр Земли. На новом повороте, когда считались запасы тепла на Паужетке, и надо было начинать бурение на Мутновском вулкане, от чего зависело обеспечение теплом Петропавловска-Камчатского, дело уперлось в отсутствие буровой техники. Казалось бы простой вопрос о выделении дополнительных одного-двух буровых станков, несмотря на указания Госплана и всемогущих вождей партии и правительства (И. В. Сталина и В. М. Молотова) было невозможно решить без прямой взятки – выпивки для заинтересованных лиц в модном тогда ресторане Узбекистон [ Belousov, Erlich, 2013]. Конечно же первыми, как это и должно было быть на Камчатке, были работы, посвященные вулканизму. Они были выполнены вместе с В.И. Белоусовым. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к геологической съемке, в основе их лежала связь со структурами, контролирующими положение вулканических поясов. Мы оба с Володей не были петрологами, но старались обсудить общие проблемы базальтового и кислого вулканизма и, в соответствии с традициями и требованиями геологической съемки, соотношение вулканических и тектонических процессов, последних – с уклоном в реконструкцию геодинамики событий. Прямым продолжением нашего сотрудничества с В.И. Белоусовым явилась статья о Тепле Земли [ Belousov, Erlich, 2009] и общих проблемах геотермии. Все эти статьи, благодаря Володе были опубликованы на интернете. Общий недостаток этих очерков был связан с отсутствием разработанной стратиграфической схемы вулканогенных толщ. Она пришла позже с работами созданной Б. И. Пийпом геоморфологической группы Института вулканологии – И. В. Мелекесцева, О. А. Брайцевой и др., проводившая изучение стратиграфии рыхлых четвертичных отложений Центральной Камчатской депрессии и синхронизацию вулканогенных тощ и ледниковых отложений четвертичного времени [ Luchitsky, 1974]. Логическим завершением этой серии работ явилась публикация двух одноименных исследований [ Erlich, 2005, Erlich, 2016]. Одновременно я опубликовал серию статей, посвященных истории открытия крупнейших месторождений минерального сырья – алмазных месторождений Сибири, Талнаха, Попигая. В них я отстаивал идею о том, что решающим элементом успеха поиска является создание правильной модели формирования месторождений. Я старался восстановить имена истинных их первооткрывателей и публиковал работы на эту тему в самых разных журналах (Звезда, Страна и мир, труды ассоциации горняков Аляски).
Генрих Мореплаватель для меня является воплощением Эры Великих геграфических открытий. Сам он лишь трижды ступил на борт корабля, совершавшего каботажное плавание, но это он раз за разом организовывал морские экспедиции вдоль западного берега Африки в поисках морского прохода в Индию. Следуя его приказу, Эанеш обогнул считавшийся заколдованным мыс Бохадор. Именно он послал Бартоломеу Диаша, открывшего мыс Доброй Надежды, что и обеспечило успех экспедиции Васко де Гамы. До сих пор я употреблял в отношении себя и своих товрищей общий термин «геолог». Приведенный текст дает возможность более точно определить мою специализацию. В период геологической съемки и во время работы на Камчатке я выступал в роли специалиста по региональной геологии. При этом я в равной степени занимался и структурной геологией и петрологией. Но после открытия Томтора моим основым занятием стали поиски и геология мемсторождений полезных ископаемых. Организационно эти работы проводились НИИГА. Выход из печати всей этой серии работ означал признание меня частью Института и, более того мою востребованность. Это было закреплено результатами участия в московской ассамблее МГГК и предложением составить сборник о современной структуре и вулканизме Камчатки, который должен был быть издан как отдельный выпуск Международного бюллетеня вулканологии. Можно ли было мечтать о большем? И тут я потерял осторожность и подал свою монографию 1973 года в Ученый совет Института геологии СО АН СССР с просьбой рассмотреть возможность ее защиты как докторской диссертации. Заключение После завершения двухсотысячной съемки без бурения делать на Уджинском поднятии и Томторе было нечего. То же касается продолжения работы в Институте вулканологии после окончания работы над текстом специального выпуска международного бюллетеня вулканологии. Подводя итоги своей рабочей деятельности, могу сказать, что я выиграл везде, где дело зависело от меня, и полностью поиграл во всех случаях, когда результат зависел от системы и я пытался преодолеть ее сопротивление. Нелегким трудом в США я заработал себе на пенсию, и купил дом, написал ряд книг и оплатил их публикацию на русском языке. Но ни один из моих многочисленных довольно перспективных проектов не был реализован. Так, открытые мной гигантские месторождения массива Томтор не были востребованы российской промышленностью, она просто не доросла до этого уровня, а оперировать на мировом рынке этих металлов российские промышленники не умеют, а потому и не хотят. К большому сожалению все мои радужные надежды на сотрудничество с А.В. Толстовым и его командой рухнули. Я считал, что я органически дополню состав его группы как геолог и тектонист, знаток геологии Уджинской антиклинали. Но им было более чем достаточно Саши с его опытом разведки Буранного участка. Они (и, увы, Саша в первую очередь) смотрели на меня как на не более чем потенциальный источник получения американского гранта на проведение фундаментальных исследований о чем, как они хорошо знали, бесполезно просить российские фонды. Я, по наивности, старался доказать им свою потенциальную полезность посылая по электронной почте буквально все что писал по геологии платформ. Умственная деградация, увы, прогрессирует. Книги в стране, ранее считавшейся самой читающей страной мира, публикуются, но не читаются. Рядовой российский читатель смотрит на них как на развлекательное чтиво, не более. Издатели повышают цены и тем еще более снижают спрос. Они рассчитывают исключительно на деньги автора и ограничиваются рекламой книги на интернете. Цены на золото на рынке достигли невиданного уровня, но российское налоговое законодательство делает разработку золоторудных месторождений невыгодной даже для отечественных компаний, не говоря уже об иностранных, о чем говорилось выше. Оно не гарантирует сохранности основного капитала, не говоря о возможности вывезти прибыль. Поскольку я не смог установить связь с американскими университетами, я лишен контактов с будущими поколениями геологов. Так что вся моя огромная работа была подобна вхолостую вращающемуся маховику, или сражению с ветряными мельницами. И я могу только надеяться, что когда-нибудь будущий читатель заинтересуется идеями, изложенными в моих книгах. При этом надо учесть, что самый большой круг читателей (англоязычная аудитория) для меня практически недоступен в силу недостаточного владения мной реальным, живым английским языком, (а не нашим, школьным и институтским). На заре попыток организации совместных американо-советских горнорудных предприятий П. Миллер подал Марку идею о том, что надо бы рассмотреть возможность приобретения лицензии на перспективные рудопроявления, предположительно норильского типа в районе Воронежа. Желание было взаимным, но никто еще толком не знал как это делать. Движение в этом направлении совпало с моими попытками получить заказ на составление сводки по советским рудопроявлениям кобальта для Бюро Минеральных ресурсов. В Воронеже я познакомился с замечательным геологом, интерпретировавшим тамошние геофизические аномалии, профессором Воронежского университета Ф. Н. Чернышевым, и коллективом высоко-профессиональных геологов тамошнего геологического управления. Они были хорошо технически вооружены и имели все возможности выполнить любые задачи. На аэродроме меня встретил молодой мужчина с военной выправкой, как впоследствии выяснилось, куратор КГБ по минеральным ресурсам, который приветствовал меня на хорошем немецком (по моей фамилии они решили, что я – немец). И тоже сорвалось: русские исключили из рассмотрения крупнейшую и самую перспективную магнитную аномалию, как стратегический объект. За Воронежем последовал блестящий проект разработки хвостохранилищ Норильского комбината. Это техногенное месторождение было особенно привлекательно тем, что не требовало вскрышных работ и опробования. Бери бульдозер и вскрывай слой за слоем. Лучше ничего и придумать нельзя было. Мы летали в Норильск трижды. Один раз на личном самолете П. Миллера. Это он наглядно показывал норильчанам свои финансовые возможности. И – дело было сделано. Крупный немецкий банк согласился финансировать проект к восторгу Марка. Но и на этот раз дело до производства не дошло. Русские объявили, что хвосты содержат стратегические компоненты и вывозить их нельзя. Проект закрыли. Мы в Ленинградском Горном получили лучшее из тогда возможных профессиональное образование. Но, когда дело доходило до применения общих дисциплин, мы были беспомощны. Это в равной мере касалось физической химии, применения математических методов обработки данных, в частности статистики и сопротивления материалов и современных методов моделирования. Увлекаясь преподаванием основ своих наук, нам не показывали как применять эти универсальные научные методы в нашей профессии. В итоге лишь немногие из нас обладали способностью видеть горные породы как физико-химические диаграммы и применять законы сопромата к процессам формирования структур. Считалось, что мы сами дойдем до применения этих методов, что было практически невозможно. Чего мне очень не хватало, так это хорошего знания физической химии. Без нее все петрологические построения были неглубокими. Этот недостаток был всеобщим у геологов моего поколения. Недаром именно в это время появился Ю. С. Геншафт, ставший одним из ведущих петрологов-экспериментаторов страны. Он и его группа занимались экспериментами в родственных мне областях петрологии кимберлитов и известково-щелочных пород, В противоположность мне ему остро не хватало опыта полевой работы и я рад, что мы нашли друг-друга. Я брал в поле на Камчатку его и людей его группы. К сожалению, текучка каждодневной работы не дала нам возможность по настоящему спланировать и провести совместные исследования. Моя профессиональная биография доведена до сегодняшнего дня. Странно думать о том, что позади у меня более 60 лет профессиональной жизни. Я уже перешагнул и рекордно-низкую продолжительность жизни в России, и высокую продолжительность жизни в США. Мы с Розой прожили более чем шестидесятилетнюю совместную жизнь. Теперь она продолжается в жизни нашей дочки Оли, внучки Саши и наших правнуков Ари и Тони. И остается после нас то, что было сделано. Для меня это, прежде всего, опубликованные работы и, надеюсь, когда-нибудь у человечества дойдут руки до использования богатств открытого мною Томтора. Залогом продолжения жизни в трудах я вижу в приглашении на работу геологом-консультантом на золоторудных месторождениях Эквадора (район Портовельо), полученном более десяти лет спустя после моего посещения этой страны от владельца одного из месторождений с просьбой составить проект детальных поисковых работ и гарантией оплаты. Добрым знаком явился и выход из печати моей статьи [ Erlich, 2018], в которой я на основе анализа существующих данных о редкоземельной минерализации Уджинского района предложил новую концепцию возраста и генезиса ее и в связи с этим дал оценку перспектив обнаружения крупных меднорудных рудопроявлений. В Штатах я продолжил свою работу по представлению международной общественности результатов наших работ на Камчатке. Я пришелся очень кстати и меня тут же приспособили поставлять новейшие российские материалы для сводок, которые готовила геологическая служба США. Так появилась сводка материалов по четвертичным кальдерам Камчатки и Курил все содержание которой полностью вошло в работу К. Ньюхолла и Д. Дзуризина [ Newhall, Dzurizin,1988] о кальдерах мира. Одновременно мои спонсоры построили контракт так, чтобы я сделал доклады в оффисах геологической службы в Рестоне, Вирджиния, Менло Парке, Калифорния, на Аляске и Гавайях. Работа в геологических партиях или отрядах на поисковых и геолого-съемочных работах, протекающая в условиях маленького коллектива, требует всеобъемлющей отдачи сил и протекает в прямом противостоянии природе. Мне всегда хотелось, чтобы мои коллеги любого уровня адмиистративного положения осознали романтику решения загадок природы. Надо ли говорить, сколь приятно мне было слышать много лет спустя что тот или иной наш общий поисковый сезон самыми разными по положению людьми, геологами, студентами-практикантами, сезонными рабочими воспринимался как лучшее воспоминание об экспедиционных работах. Мы делали различное по значимости дело, но общий успех зависел от нашей слаженности. Сейчас, более 40 лет после нашей работы на Томторе, работавшая с нами тогда техник-геофизик Люба Харитонова прислала мне единственную сохранившуюся мою фотографию той поры (фиг. 13), оказала бесценную помощь в подборке библиографического материала. Мой соученик по десятому б классу 210й школы и Горному институту Игорь Любич с которым мы вместе работали один сезон на Хатырке в Корякском нагорье вспоминает о нем, как о лучшем в своей профессиональной жизни. Студент-практикант Валя Кретов, романтик, вечно бренчавший на гитаре «если я заболею, к врачам обращаться не стану», которого его антипод забулдыга-работяга Лимонов спрашивал:«Что, Валька, говоришь заболеешь - хрен к врачам пойдешь?», вырос в известного профессионала но всегда вспоминает этот наш общий сезон как начало своей профессиональной работы. Наши работяги,которым вся геология была, что называется «до фени» и которые рассматривали свое пребывание в поле как «затянувшуюся новеллу Джека Лондона» вернувшись домой всегда по их же словам с теплом вспоминали о своей работе у нас. Кончая свою профессиональную биографию, я прежде всего обращаюсь к нашей «Альма Матер» - Ленинградскому Горному Институту. Это его школа создала из нас профессионалов. В этой колыбели мы получили лучшее из возможных профессиональное образование исключительное, как по фактической нагрузке, так и, наверное, главное, по навыку творческого подхода к анализу данных. Да, конечно, это была до-интернетная эпоха и вся техническая работа делалась нами вручную, отнимая массу сил и времени. Но главное, чему нас учили – не забывать, не оставлять без внимания ни малейшей детали и в процессе анализа переходить от анализа местного материала к глобальным обобщениям. В этом, какую бы специальность они ни преподавали – минералогию (Д. П. Григорьев), геотектонику (М. М. Тетяев) или курс геологии месторождений полезных ископаемых (П. М. Татаринов), был главный урок данный нам нашими Учителями. Одновременно нам в полной мере давали курсы общих технических дисциплин – математики, физической химии, физики, сопротивления материалов. Можно лишь пожалеть, что общие курсы были недостаточно увязаны со специальными предметами. Я остро завидовал тем своим товарищам, которые могли воспринимать горные породы как отражение физ.-химических диаграмм и, естественно, использовать математические методы для обработки исходных данных. И что уж, конечно же было совершенно нетерпимо, у нас не было и подобия курса, посвященного истории наук о Земле. Выйдя в самостоятельную жизнь мы работали под руководством и совместно с такими корифеями наук о Земле как Л. И. Красный, П. С. Воронов. Когда я гляжу на галлерею их фотографий, которую я поместил в [ Erlich, 2016] бросается в глаза ясно выраженный в их облике задор перед лицом загадок природы, готовность принять брошенный им вызов. И, чем бы они ни занимались, они всегда естественно переходили от частных задач к попыткам создания планетарных моделей прежде всего в виде геологических карт регионального или планетарного масштаба. Это Л.И. Красный впервые обратил внимание на важнейшую роль «стабильных блоков» в геодинамике Земли. Это П.С. Воронов был одним из зачинщиков специфического планетарного подхода, увязывающего причины и механизм развития конкретных структур с космическими процессами. Этот подход сейчас называется астрогеологией. Я глубоко признателен судьбе, давшей мне возможность работать с этими людьми и горжусь доверием, которым Л. И. Красный одарил меня, пригласив к участию в составлении первой в истории геологической карты Тихого океана и стран его обрамления и обсуждению роли горизонтальных напряжений в создании структур стабильных блоков. Вооруженное этим опытом, мы, наше поколение, достаточно оплатили наш долг перед предшественнками. Это существенно нами было проведено геологическое картирование одной шестой части поверхности планеты в масштабе 1:1,000,000 и 1:200,000, давшее огромный материал по геологическому строению и опись природных богатств за счет которых жила наша страна. На счету одного только нашего выпуска Горного института такие заслуги как открытие в рядах советской геологической службы газ-гидратных месторождений, давших тепло и энергию Норильску и, попутно, обсуждение нового типа углеводородного топлива – газ-гидратов, открытие Оленекской кимберлитовой провинции на севере Сибирской платфрмы и Архангельского месторождения алмазов на Русской платформе. Открытие и оценка геотермальных месторождений Камчатки, давших дешевую энергию полуострову и, в частности, Петропавловску Камчатскому, отрытие принципиально нового типа золоторудных месторождений на Чукотке, исследование Маймеча-Котуйской и Уджинской провинций ультраосновных-щелочных пород Сибирской платформы и параллельно с этим новых типов месторождений связанных с нельсонитами, магнетитолитами, апатитолитами, урановой минерализации Казахстана, полиметаллов Средней Азии и месторождений пьезокварца и цветных камней Памира. Я не говорю уже об инженерно-геологическом обеспечении строительства гигантских гидроэлектростанций, аэродромов, трубопроводов и железных дорог. Я сознательно не привожу здесь конкретных имен первооткрывателей всех этих богатств. Для этого текста это коллективное имя групп нашего выпуска геологоразведочного факультета Ленинградского Горного - ГСПС-52 и РМ-52. Сходное положение было и с отношением к науке. Институт числился научно-исследовательским но принадлежал Министерству геологии, то-есть был второразрядным по определению. Перворазрядными считались институты Академии наук СССР. Но и тут он не числился первороразрядным, Всесоюзным (как ВСЕГЕИ). По этому случаю мы получали зарплату на 20% меньше наших коллег занимавших те же должности во ВСЕГЕИ и все это продолжалось до тех пор, когда И. С. Грамберг не превратил его во ВНИИОкеангеологии. Желанная первая буква аббревиатуры В (всесоюзный) дала нам желанную прибавку. Научные возможности существовавшие в СССР к 50м годам XX века были практически исчерпаны. А администрироание науки привело к ее полному застою Примеры запрета ктбернетики, как «буржуазной» науки и генетики достаточно показательны. Игорю Сергеевичу нужны были люди лично ему преданные и в то же время вхожие в министерство (таких в народе называли «инвалидами», поскольку у них «рука в Москве», то есть гарантируюшие успех, в первую очередь получение денег. Среди геофизиков таким человеком была Раиса Михайловна Деменицкая, предложившая военным провести гравиметрическую съемку Полярного бассейна. Это потенциально обеспечивало точность рассчетов траекторий баллистических ракет. Так Институт получил источник ассгнованицй и одновременно оправдал новое громкое имя ВНИИОКЕАНГЕОЛОГИЯ. Ну, а Раиса Михайловна получила за это под свою руку всех работавших на земле геофизиков, в том числе и В. А. Литинского. Этим она широко пользовалась в соответствии с негласным (конечно же!) правилом, дающим администраторам право соавторства в любых работах их продчиненных. Этим была определена судьба Вадима на долгие годы вперед [ Litinsky, 200 ]. Я столкнулся с аналогичным положением, когда Игорь Сергеевич «назначил» первооткрывателем Томтора Е. М. Эпштейна. Он был «свой» близкий к И. С. Грамбергу и преданный ему человек, был вхож в ВИМСе министерском Институте, дававшим рекомендации об освоении новых месторождений, имел связи в Министерстве и, казалось, был в силах закрепить за Институтом перввоткрывательство Томтора, работал в Маймеча Котуйской провинции, отстаивая осадочный генезис тамошних карбонатитов и на этом столкнуашимся с Л. С. Егоровым и А. И. Гинзбургом. Не было у него «заведомо вредных бредней» о магматическом генезисе карбонатитов, знал наизусть работы Д. С. Коржинского, ссылками на которые обосновывал все свои построения. Но тут он дал промашку. Все данные о геологии карбонатитов мира говорили о их кристаллизации из расплава. Эта точка зрения уже утвердиласьв мировой литературе. Для Томтора она была подтверждена данными об изотопах гелия [ Tolstikhin, Erlich, 1975]. Ниже я привожу две вставки, написанные В. А. Литинским для этой моей работы и разрешившим использовать их как добавление к цитированному тексту: «У сейсмика Люси Самуиловны Вейцман, жены академика Гамбурцева, директора ВНИИГеофизика, она в буквальном смысле украла материал для своей докторской диссертации - данные о глубинах земной коры в 200х точках (тайно скопировала эти данные, как рассказала мне её приближённая чертёжница). «Ни в зуб ногой» в математике (кроме таблицы умножения), Райка обратилась к старичку, бывшему до неё начальнику отдела геофизики НИИГА Николаю Николаевичу Михайлову, прекрасному математику, с просьбой установить связь между гравитационным полем, высотой рельефа и мощностью земной коры в этих 200 точках, украденных ею у Вейцман. На следующий день НикНик принёс хорошую простую формулу зависимости мощности земной коры от этих параметров и сказал ей (дело происходило при моём присутствии): "Ра-иса Ми-хай-ловна, Вы можете на-писать хоро-шую ста-тью об этом..." Райка взвыла, схватила лист с формулой, разорвала его в клочки, и швырнула их на стол под нос испуганному НикНику: "Вот вам Ваша статья!" (Она, видимо, подумала, что НикНик претендует на соавторство).» “В отделе геофизики работала техником сомпатичная молодая девушка, брат которой, окончив Физико-матаматический факультет нашего университета, обладая прекрасным голосом, работал певцом в Ленинградском оперном театре. Вот ему, как лицу совершенно незаинтересованному, и передала Деменицкая через его сестру таблицы данных, естественно, не говоря, что это за точки. Хотя это предостережение было излишним - певцу было "по барабану" - земная кора эта или апельсины, как сказала мне эта симпатичная сотрудница (с которой я потом встречался в Нью Йорке). Так появились неуклюжие формулы с гиперболическим тангенсом (! Я и 99% геофизиков никогда не слышали о таком тангенсе!), связывающие толщину земной коры с гравитационным полем и рельефом. Формулы легли в основу докторской диссертации Деменицкой и её главной книги "Кора и мантия Земли". Геофизики и геологи, читающие эту байку, посмотрите в книге Деменицкой на страницах 30 и 32 графики зависимости толщины земной коры и гравитационного поля и рельефа Земли. Ссылки на источник, откуда взяты эти важнейшие данные о толщине земной коры, вы не найдёте. Потому что они спёрты у Л.С. Вейцман. Для любых выводов о связи чего угодно с толщиной коры важны именно эти данные и координаты точек, в которых эта толщина измерена сложным и трудоёмким методом ГСЗ. Снять с карт высоту рельефа и величину гравитационной аномалии в этих точках - несложная операция для любого техника. А вы говорите: "научная этика, научная этика!" На основе обобщения новейших геолого-геофизических данных мы, следуя традиции наших учителей и предшественников, представили новый подход к созданию гединамической модели земных процессов и для островных дуг и сходных с ними геотектонических систем, продолжая замечательные исследования голландских и японских геологов и геофизиков, и в, традициях российской геологической школы, для платформ и срединных массивов. Наконец, практически исчерпав свои потенции на суше, НИИГА смогло свершить небывалое - исследовать во всей полноте рельеф северного Полярного бассейна, провести его гравиметрическую съемку и тем создать предпосылки для анализа его структуры. На этой основе и возникла оценка потенциала запасов углеводородов в разных районах полярной шапки Земли. Было бы слишком дешевым критиковать эти работы, говорить о неполноте и односторонности их. На сегодня это лучшее, что у нас есть. Тем временем, в ходе их были созданы предпосылки для создания новых методов интерпретации гравиметрических данных. Картина воплощающая отношение в НИИГА ко всевозможным техническим усовершенствованиям для меня воплощена в стоящих по колено в воде в канаве проходчикам, бьющих кайлом под воду, залившую дно канавы. Зредище посище «проклятой царскоц каторги». Эта картина поразила увидевшего ее А. В. Толстова. Производительность близка к нулю. А, между тем, документирующий канаву начальник горного отряда для того,чтобы дать проходчикам хоть немного заработать,документировал перевыполнение нормы В итоге норму повышали и она, естественно же, опять перевыполнялась. Если верить цифрам, производительность проходки достигала уровня работы экскаватора. Можно ли было изменить это положение? КОНЕЧНО ДА! – но для этого надо было перейти на проходку через буро-взрывные работы. А вот именно этого-то категорически не хотело руководство экспедиции, особенно ее начальник, всеми любимый Ефим Яковлевич Радин. Переход на буро-взрывные работы требовал резкого усиления надзора над техникой безопасности и налагал на руководство экспедицией судебную ответственность за любые несчастные случаи (почти неизбежные) при взрывных работах. В этом отношении НИИГА в точности выполняло роль территориальных геологических управлений, только условия работы в приполярных районах были куда тяжелее. Учитывая нам выделялись повышенные нормы питания. Начальство из кожи лезло вон. Чтобы получить новые ассигнования на геологические работы. Но после геологической съемки сдедующим этапом былв разведка, а квалифицированных разведчиков в НИИГА не было. Идеальным в этих условиях оказалось соглашение между зав. отделом металлогении НИИГА М. Ф.Лобановым и министерством геологии СССР о проведении разграничительной линии между территорией съемок НИИГА и ВАГТ (Всесоюзный аэрогеологическй трест) по меридиану 1190 с.ш., дававшее нам новые территории под съемку. Этот меридиан с тех пор заслуженно стал называться в НИИГА меридианом Лобанова. Ясно что учитывая это все, кто давал положительные прогнозы обнаружения месторождений полезных ископаемых, то-есть геологи-съемщики оказывались в положении лишних людей. Если на съемке и в процессе обработки и осмысления этих материалов я выступал в роли специалиста по региональной геологии, то работая на Томторе я стал вплотную заниматься геологией месторождений минерального сырья, продолжая традиции основателя российской школы специалистов в этой отрасли – К. И. Богдановича, прямо по следам которого я начинал свою работу на Камчатке. Мне очень жаль, что болезнь и идиотическая (иначе не скажешь!) позиция дирекции Института вулканологии не дали мне и моим товарищам возможности поучаствовать в международной экспедиции на Нирагонго с его уникальным лавовым озером, письменное приглашение к участию в которой, с гарантией полной оплаты всех расходов, я получил от легенды современной вулканологии Гаруна Тазиева. Это было бы достойным продолжением международного Бюллетеня вулканологии, посвященного Камчатке, вышедшего в итоге нашего участия в Международной Ассамблее Геодезического и геофизического союза в Москве в 1971 году. Работа в геологических партиях или отрядах на поисковых и геолого-съемочных работах, протекающая в условиях маленького коллектива, требует всеобъемлющей отдачи сил и протекает в прямом противостоянии природе. Мне всегда хотелось, чтобы мои коллеги любого адмиистративного положения осознали романтику решения загадок природы. Надо ли говорить, сколь приятно мне было слышать много лет спустя что тот или иной наш общий поисковый сезон самыми разными по положению людьми, геологами, студентими-практикантами, сезонными рабочими воспринимался как лучшее воспоминание об экспедиционных работах. Мы делали различное по значимости дело, но общий успех зависел от нашей слаженности. Сейчас, более 40 лет после нашей работы на Томторе работавшая с нами тогда техник-геофизик Люба Харитонова прислала мне единственную сохранившуюся мою фотографию той поры (фиг.8), оказала бесценную помощь в подборке библиографического материала. Мой соученик по десятому б классу 210й школы и Горному институту Игорь Любич с которым мы вместе работали один сезон на Хатырке в Корякском нагорье вспоминает о нем, как о лучшем в своей профессиональной жизни. Студент-практикант Валя Кретов, романтик, вечно бренчавший на гитаре «если я заболею, к врачам обращаться не стану», которого его антипод забулдыга-работяга Лимонов спрашивал «Что, Валька, говоришь заболеешь - хрен к врачам пойдешь?» вырос в известного профессионала всегда вспоминает этот наш общий сезон как прекрасное начало своей профессиональной работы. Наши работяги, которым вся геология была, что называется «до фени» и которые рассматривали свое пребывание в поле как «затянувшуюся новеллу Джека Лондона» вернувшись домой всегда по их же словам с теплом вспоминали о своей работе у нас. Кончая свою профессиональную биографию, я прежде всего обращаюсь к нашей «Альма Матер» - Ленинградскому Горному Институту. Это его школа создала из нас профессионалов. В этой колыбели мы получили лучшее из возможных профессиональное обрзование исключительное, как по фактической нагрузке, так и, наверное, главное - по навыку творческого подхода к анализу данных. Да, конечно, это была до-интернетная эпоха и вся техническая работа делалась нами вручную, отнимая массу сил и времени. Но главное, чему нас учили – не забывать, не оставлять без внимания ни малейшей детали и в процессе анализа переходить от анализа местного материала к глобальным обобщениям. В этом, какую бы специальность они ни преподавали – минералогию (Д. П. Григорьев) или геотектонику (М. М. Тетяев) или курс геологии месторождений полезных ископаемых (П. М. Татаринов), был главный урок данный нам нашими Учителями. Одновременно нам в полной мере давали курсы общих технических дисциплин – математики, физической химии, физики, сопротивления материалов. Можно лишь пожалеть, что общие курсы были недостаточно увязаны со специальными предметами. Я так остро завидовал тем своим товарищам, которые могли воспринимать горные породы как отражение физ.-химических диаграмм и, естественно, использовать математические методы для обработки исходных данных. И что уж, конечно же было совершенно нетерпимо, у нас не было и подобия курса, посвященного истории наук о Земле. Выйдя в самостоятельную жизнь мы работали под руководством и совместно с такими корифеями наук о Земле как Л. И. Красный, П. С. Воронов. Когда я гляжу на галлерею их фотографий, которую я поместил в [ Erlich, 2016] бросается в глаза ясно выраженный в их облике задор перед лицом загадок природы, готовность принять брошенный им вызов. И, чем бы они ни занимались, они всегда естественно переходили от частных задач к попыткам создания планетарных моделей прежде всего в виде геологических карт регионального или планетарного масштаба. На счету одного только нашего выпуска Горного института вместе с другими выпусками такие заслуги, как открытие в рядах советской геологической службы газ-гидратных месторождений, давших тепло и энергию Норильску и, попутно, обсуждение нового типа углеводородного топлива – газ-гидратов, открытие Оленекской кимберлитовой провинции на севере Сибирской платфрмы, массива Томтор и огромной по масштабам редкоземельной и редкометальной минерализации, Архангельского месторождения алмазов на Русской платформе. Открытие и оценка геотермальных месторождений Камчатки, давших дешевую энергию полуострову и, в частности, Петропавловску Камчатскому, отрытие принципиально нового типа золоторудных месторождений на Чукотке, исследование Маймеча-Котуйской и Уджинской провинций ультраосновных-щелочных пород Сибирской платформы и параллельно с этим новых типов месторождений связанных с нельсонитами, магнетитолитами, апатитолитами, урановой минерализации Казахстана, полиметаллов Средней Азии и месторождений пьезокварца и цветных камней Памира. Я не говорю уже об инженерно-геологическом обеспечении строительства гигантских гидроэлектростанций, аэродромов, трубопроводов и железных дорог. Я сознательно не привожу здесь конкретных имен первооткрывателей всех этих богатств. Для этого текста это коллективное имя групп нашего выпуска геологоразведочного факультета Ленинградского Горного - ГСПС-52 и РМ-52. Изучение истории открытия крупнейших месторождений Сибири наглядно показало, что все протворечия как правило исчезают в течение пятидесяти лет. За это исторически значимое время стираются все противоречия связанные с оценками личностей и их идей. Мне крайне интересно было посмотреть какие оценки наших работ конца 50х годов прошлого столетия появятся сейчас в печати. Мне, естественно, было крайне интересно прочесть книгу А. А. Лайбы «Золотой век НИИГА» [ Laiba, 2016]. Не обращая внимания на естественное расхождение в оценках некоторых второстепенных событий мне было крайне лестно, что автор ставит меня в один ряд с «мастодонтами» - виднейшими учеными-основателями НИИГА. Другая не менее значимая оценка пришла ко мне от международной общественности а результате моих лекций в американских университетах. Я читал две лекции – одна из них - «о кимберлитах Сибири, истории их открытия, основных идеях которые были развиты советскими геологами (в том числе и мной) в процессе их изучения» и проводил аналогию Уджинской антиклинали с линейной зоной магнитных и гравитационных аномалий “ Mid - continent high ”. В итоге проф. Вольфганг Элстон ( Wolfgang Elston ), почетный профессор ( Professor emeritus ) университета штата Нью Мексико в Альбукерке рекомендовал своему ученику, J. Bristow, составлявшему международный сборник статей для публикации в трудах Геологического общества Южной Африки, включить мою статью в этот более чем престижный сборник, что и было сделано [ Erlich, 1985]. Автор прямо указывает, что мы, выпускники горногеологических ВУЗов 50х годов, были неотъемлемой частью Золотого века НИИГА. Более того мы составляли подавляющую часть начальников съемочных партий, которые сделали важнейшую работу Золотого века, провели государственную геологическую съемку масштаба 1:200,000 всей территории Советской Арктики. И после этого он посвятил мне отдельную главу «Обретение Эрлиха». Он прямо говорит о моем приходе в НИИГА, как об “обретении” Институтом в моем лице по самому смыслу этого слова чего-то крайне ценного для организации. Мог ли я мечтать о большем? Подзаголовок книги Лайбы «Человеческие портреты» и он строго ему следует оставляя практически нетронутыми профессиональные характеристики своих героев. Геологи старшего поколения, такие как Б.Х. Егиазаров, Е. Я. Радин, В. М. Лазуркин, проявили огромные организационные способности, добиваясь в министерстве поручения НИИГА проводить съемочные работы в отдаленнейших районах Советской Арктики, строили палаточные города –экспедиционные базы и завозили туда людей, снаряжение и продукты. Это давало начальникам картировочных партий вроде Гулина и меня, целиком сосредоточиться на задачах съемки в тяжелых условиях Заполярья. Схожий путь признания был повторен и в отношении моих работ по Камчатке и островным дугам. Меня забаллотировали при попытке защиты докторской диссертации на Ученом Совете института геологии Сибирского отделения АН СССР, но моя монография была опубликована [ Erlich, 1973] и основные идеи ее легли в основу посвященного Камчатке специального выпуска международного бюллетеня Вулканологии [ Erlich and Gorshkov, eds., 1979]. Так основные работы по Камчатке получили «двойное признание» в отечественной и международной литературе. Мой друг и коллега В.И. Белоусов открыл мне два интернетных сайта на которых я получил возможность свободной публикации моих работ и сразу же поместил там как отредактированный мною сборник статей об структуре и вулканизму Узон-Гейзерной депрессии, ранее опубликованном под редакцией С. И. Набоко [ Naboko, ed., 1974]. Так мои работы получили полное воздаяние. На основе обобщения новейших геолого-геофизических данных мы, следуя традиции наших учителей и предшественников, представили новый подход к созданию геодинамической модели земных процессов для островных дуг и сходных с ними геотектонических систем, продолжая замечательные исследования голландских и японских геологов и геофизиков, и в, традициях российской геологической школы, для платформ и срединных массивов. Наконец, практически исчерпав свои потенции на суше, НИИГА смогло свершить небывалое - исследовать во всей полноте рельеф северного Полярного бассейна, провести его гравиметрическую съемку и тем создать предпосылки для анализа его структуры. На этой основе и возникла оценка потенциала запасов углеводородов в разных районах полярной шапки Земли. Было бы слишком дешевым критиковать эти работы, говорить о неполноте и односторонности их. На сегодня это лучшее, что у нас есть. Тем временем, в ходе их были созданы предпосылки для создания новых методов интерпретации гравиметрических данных [ Litinsky, 2 ]. Если на съемке и в процессе обработки и осмысления этих материалов я выступал в роли специалиста по региональной геологии, то работая на Томторе я стал вплотную заниматься геологией месторождений минерального сырья, продолжая традиции основателя российской школы специалистов в этой отрасли – К. И. Богдановича, прямо по следам которого я начинал свою работу на Камчатке. Мне очень жаль, что болезнь и идиотическая (иначе не скажешь!) позиция дирекции Института вулканологии не дали мне и моим товарищам возможности поучаствовать в международной экспедиции на Нирагонго с его уникальным лавовым озером, письменное приглашение к участию в которой, с гарантией полной оплаты всех расходов, я получил от легенды современной вулканологии Гаруна Тазиева. Это было бы достойным продолжением международного Бюллетеня вулканологии, посвященного Камчатке, вышедшего в итоге нашего участия в Международной Ассамблее Геодезического и геофизического союза в Москве в 1971 году. Приводимый ниже список литературы не претендует на полноту. В него включены лишь основные работы по рассматриваваемой обширной тематике. В то же время, учитывая означенную в заголовке тематику, список моих работ я сделал по возможности полным. В этом списке впервые приводтся список отчетов, выполненных по территории Томтора производственными партиями. Это делает документальными все заключения о последовательности работ. В приводимой А. А. Ярошевским библиографии работ по Томтору [ Yaroshevsky, 2018] хорошо видно непропорционально-большое число публикаций С. М. Кравченко. Интересно отметить общую черту публикаций Л.С. Егорова и С. М. Кравченко – первыми в списке авторов всегда стоят они сами, на втором месте – их ближайшие коллеги и помощники (Беляков, Сурина) и лишь далее следуют те, кто реально проводил работы и предоставил им материал для статей (Г. И. Поршнев, А. В. Толстов). Этот порядок авторов точно отражает то, для чего, собственно и делались эти статьи – закрепить роль Л.С. Егорова и С. М. Кравченко в первооткрывательстве Томтора. Только сейчас, в этой работе, впервые включены в список опубликованных работ рукописи отчетов, хранящиеся в фондах НИИГА, полученные благодаря помощи Л. Я. Харитоновой, работавшей в 1975 году у нас техником-геофизиком. Сейчас гриф секретности с них снят. И удалось уточнить ссылки на тезисы, представленные на различные научные конгрессы и конференции, благодаря помощи библиотеке геологическойслужбы США в Денвере,через мистера С. Сатли ( Mr. S. Sutley ). ПРИЛОЖЕНИЕ Данное в тексте полное перечисление работ затрудняет видеть картину во всей ее полноте. Поэтому ниже я даю выжимку из нее, выделяя лишь основные этапы. Она позволяет рассказать о специфике отдельных этапов работ и организаций их проводивших. Организационно и по финансированию все интересующие меня работы были сосредоточены в двух организациях – в НИИГА в Ленинграде, и, в Институте вулканологии в Петропавловске. Это определило то, что, при желании продолжать работу по своей тематике, я должен был менять эти организации, каждый раз, когда их технические и лабораторные возможности достигали предела, переезжая туда и обратно через весь Союз. 1958-1959 Геологическая съемка масштаба 1:200 000. Описание структуры Уджинской антиклинали по материалам С. А. Гулина. Открытие массива Томтор, определение самостоятельности Уджинской провинции ультраосновных-щелочных пород. Выпуск листа гос. геол. карты масштаба R -50- IX, X. 1966. Лишенный возможности продолжать исследования четвертичного вулканизма зоны Срединного хребта, составляю сборник химических анализов вулканических пород. Опубликован без указания автора. 1966-1969 Исследование морфоструктуры Камчатки., открытие нового типа вулкано-тектонических структур – вулкано-тектонических депрессий, гипотеза о причинах специфики их вулканизма. Статьи в первых номерах журналов Геотектоника и Pacific geology. 1970. Выпуск листа гос. геологической карты масштаба 1:200 000, лист R -50, 51- IX, X. 1974 Составление сборника по структуре и вулканизму Узон-Гейзерного района. Как редактор сборника указана С. И. Набоко; 1961-1966. Исследование морфоструктуры Камчатки. Описание нового типа вулкано-тектонических депрессий, гипотеза о причинах специфики их вулканизма. 1961-1979 Доклад на сессии генеральной Ассамблеи МГГК. Составление специального выпуска международного бюллетеня Bulletin Volcanologique. В качестве со-редактора указан Г. С. Горшков. 1973 Выход из печати (за взятку) монографии о Современной структуре и четвертичном вулканизме Камчатки. 1971-1979 Участие в сессии Генеральной Ассамблеи МГГК в Москве.Составление специального выпуска Bulletin Volcanologique, повященного Камчатке. В качестве соредактора указан Г. С. Горшков. 1979 Амакинская экспедиция проводит бурение в центральной части массива Томтор (Амакинская экспедиция). Открытие Буранного участка богатых редкоземельных руд и подсчет их запасов. А. В. Толстовпризнан первооткрывателем Томтора и оруденения и защитил докторскую по Томтору. 1975-1976 Бурение на Томторе (по договору с Амакинской экспедицией). Добился постановки детальных аэромагнитных работ в междуречье Уджа-Чымаара. Открытие центральной кольцевой структуры в массива Томтор и наличия карбонатитового ядра, крупнейшего в мире карбонатитового тела. Инсульт. 1983. Эмиграция в США. 1984- 2000 Работа по контрактам с USGS Smithsonian Institution, грант от National Science Foundation, оценка золотоносности Соноры, Мексика, и Портовельо,Эквадор. 2000 – Выход на пенсию 2001-2020 - Серия обощающих работ опубликованных на интернете по петрологии разных типов вулканизма (кислый вулканизм, базальты), кислый вулканизм рассматривается как отражение роста гранитного слоя коры, рассмотрение тепла Земли и его роли в вулканизме и тектонике, разработка геодинамического подхода к формированию структур, обобщение материала о платформах и подвижных поясах. Статьи об истории открытия крупнейших месторождений и судьбе идей лежащих в основе современных наук о Земле (актуализм, канон Штилле). Перечисление, вроде говорит само за себя. У меня попросту не было времени и сил на детальные фундаментальные описания конкретных структур или типов руд и пород и тем более сил и времени и не было нужды для воровства чужого материала. Читатель может сам оценить итоги. Мне же все эти годы видится, говоря гениальными словами Р. Киплинга: «только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне солдату» (Р. Киплинг «Марш пехотных колонн). С той только существенной разницей (не малой!), что «моя пехотная колонна» шла по моим приказам и по выбранному мной пути. И в итоге было приближением к решению загадок природы. Но ни малейшего отдыха не было на этой «войне» солдату (то-есть мне). Надо ли говорить, сколь приятно мне было получить от группы издателей американских научных журналов предложение представить статью в один из издаваемых ими журналов и стать у них рецензентом. Предложение было послано после чтения моей статьи в Докладах РАН [ Erlich, 2018]. Мне было тем более приятно прочесть это предложение после того как эта статья была отвергнута двумя академиками РАН, как не содержащая ничего нового, пока она в конечном итоге и была рекомендована к публикации академиком Н. В. Соболевым. Хочу надеяться, что в ближайшие 25-50 лет прогноз, данный в этой статье подтвердится. Ту же надежду я питаю в отношении моего прогноза о вероятности обнаружения в Индии богатых месторождений Уджинского типа [ Erlich, 2017]. Аналогия Уджинской антиклинали с валообразным поднятием, предполагаемым вдоль восточного побережья полуострова Индостан очевидна[ Sheth, Torres - Alvarado, Verma, 2000 ]. После выхода на пенсию первое, что я сделал написал книгу о геодинамике и магматизме платформ и издал ее за свой счет [ Erlich, 2017]. Выход ее, таким образом, задержался на все те же полвека. Отстуствие обобщений по стабильным плитам стало прямым препятствием для создания общей теории геодинамики и магматизма планеты. Я продолжал надеяться, что окажусь полезным на новом этапе работы на Удже, которая наверняка будет проводиться коллективом, созданным под эгидой академика Похиленко в Институте минералогии имени Соболева в Новосибирском академгородке. Мне казалось, что яорганически дополню этот коллектив в части, касающейся региональной геологии. Но это были наивные мечты. А. В.Толстов считал, что этим может по праву заниматься он и только он, что он единственный, кто может дать общую картину геодинамики структуры и магматизма. На этом фоне я написал короткую статью [ Erlich, 2018] о природе высоты Томтор-Тааса, являющейся по моему мнению самостоятельным центром эрупции, бимодальной природе развитых на Томторе магматических формаций и о наличии двух кольцевых структур (фиг.12). Казалось бы – вот оно, решение. Но не тут-то было. Через короткое время забылись все мотивы основателей Сибирского отделения АН и все вернулось «на круги своя». Но теперь, вдохновленные успехом Сибирского отделения, руководители Академии знали что делать – они создали новое, Дальневосточное отделение, сохраняя при этом все основы системы. Дальше идти было некуда. Впереди был Тихий океан. Желающим свободно работать прямо показывали на дверь. И они вошли в нее. Они были «лишними людьми». Количество эмигрантов среди наиболее молодых и самостоятельных ученых возросло неимоверно. Можно было сколько угодно говорить, что люди бросают Родину уезжая за бытовыми благами, образ которых воплощался в колбасе. Их просто выбрасывали. Они, страшно сказать, предпочитали вечному прозябанию на проклявшей их Родине, бросить родных и друзей, все нажитое и на склоне лет начать новую жизнь на чужбине, в новом языке, социально-культурных условиях. Мощным стимулом к отъезду было стремление избавить детей и внуков от повторения жизненного опыта отцов. Положение усугублялось идеологическим контролем над экономикой. Точно так же, как была запрещена кибернетика и закрыто развитие генетики, промышленности не требовались наиболее передовые сырьевые ресурсы. Сегодня невостребованными оказались редкие земли, вчера это были никель, молибден и алюминий. Надвигающейся войне нужна была броня танков (никель), бронебойные снаряды (молибден), катки ходовой части гусениц (каучук). Не от хорошей жизни строили заполярный Норильск с его уникальным комбинатом. И тянули к нему по тундре железную дорогу от устья Оби. В войну эти потребности существенно покрывались поставками по ленд-лизу. В 1973 году вышла из печати моя монография [ Erlich, 1973] в которой на основе камчатских данных и литературных материалов по Тихоокеанскому кольцу я развивал серию идей о геодинамических условиях проявления четвертпчного вулканизма, структурной локализации четвертичных вулканических поясов, вулкано-тектонических структурах и синхронности глобальных вспышек вулканизма. Работа над этой монографией заняла у меня десять лет. Но, как бы ни было важно для меня лично ее значение, главными событиями этих лет начала 70х годов был практически одновременный выход из печати серии фундаментальных исследований. Они подводили итог десятилетия деятельности института. Для меня то было очень значимо, поскольку я играл одну из ведущих ролей в их создании. поскольку я был задействован и более того востребован. Теперь это был мой Институт. В конце 60х годов XX века подошла очередь изучения одного из наиболее эффектных по сочетанию природных явлений районов - Узон-Гейзерной вулкано-тектонической депрессии. Почти одновременно структура ее была описана Г. П. Авдейко, химизм гидротерм Г. Ф. Пилипенко, а работавшие с С. И. Набоко минералоги под ее руководством описали рудные минералы в отложениях горячих озер Узона. Софья Ивановна, прекрасно понимала значимость описания этого района, очень одобрительно отнеслась к моей идее публикации сборника статей, посвященных разным сторонам его геологического строения. Почти одновременно начал зниматься этим районом и я. Мое внимание было сконцентрировано на локализации пост-кальдерного вулканизма и гидротермальных проявлений вдоль линий широтного простирания, предположительно игравших роль трансформных разломов. Я составил план сборника, включив туда большинство потенциально-заинтресованных специалистов. Петрологию вулканческих пород я предложил написать Г. Е. Богоявленской. Она была «человеком Г.С. Горшкова», только-что закончила для него описания петрографии вулканов Курил и изучала извержение 1956 года Безымянной сопки и теперь как раз искала новые объекты приложения своих сил. Та же Софья Ивановна в это же время поставила меня редактором коллективной монографии Н.В. Огородова и его группы о четвертичном вулканизме Срединного хребта [ Ogorodov et. al., 1972]. Выше я уже рассказывал о том, как когда я только приехал на Камчатку та же Софья Ивановна отстранила меня от работ в этом районе, передав его Коле. Теперь полевые работы по всей территории этой зоны были закончены и кто-кто, а Софья Ивановна хорошо понимала, что писать Коля не может. Тут-то она вспомнила обо мне и в 1972 году вышла из печати упомянутая выше книга. Тем самым завершилось описание четвертичных вулканов Камчатки. Так или иначе авторский коллектив предполагаемого сборника был сформирован и сборник вышел из печати [ Naboko, ed., 1974]. Моя профессиональная биография не будет полна, если здесь прямо не будет рассказано о моем отношении к защитам. Я считаю, что присуждение научной степени является естественным завершением очередных этапов исследования. Что вызывало мой резкий протест – необходимость затраты значительного количества времени, труда и нервов на подготовку диссертации и ее защиту. Кандидатскую я защитил попросту объединив отчеты по съемочным работам, включив в нее территорию обеих моих отчетов – по Укукитскому (с А.Е.Клейзером) и Уджинскому (вместо С.А.Гулина) районам. Здесь я впервые предложил геодинамический подход к проблемам образования структур и локализации магматизма, используя идеи Ли Сы Гуана [ Lee - Sy Guan, 1958] о вихревых структурах. Работа Ли Сы-Гуана была первым в мировой литературе опытом создания геодинамической модели на основе суммирования данных о стабильных блоках (в частности, платформах и срединных массивах). Я следовал по его стопам. Тем временем подошли важные изменения в жизни нашей семьи. Оля (дочка) как раз заканчивала 8ой класс, надо было готовиться к окончанию десятилетки и поступлению в институт. Уровень школ в Петропавловске был много ниже среднего. Роза с ней и уехала. Ясно было, что я последую за ними. Я уехал а Ленинград в отпуск с тем, чтобы найти там подходящее место работы. И тут мне предложили вернуться в НИИГА на должность главного геолога договорной партии, которая должна была проводить бурение на открытом мной Томторе. Можно ли было мечтать о чем-либо лучшем? Я с радостью согласился. До сих пор я употребляю в отношении себя и своих товрищей общий термин «геолог». Приведенный текст дает возможность более точно определить мою специализацию. В период геологической съемки и во время работы на Камчатке я выступал в роли специалиста по региональной геологии. При этом я в равной степени занимался и структурной геологией и петрологией. Но после открытия Томтора моим основым занятием стали поиски и геология мемсторождений полезных ископаемых. Организационно эти работы проводились НИИГА. Сочетание этих двух факторов –достижения финансовой независимости и выхода в свет серии работ по петрологии вулканических пород подготовили основу того, что на этом этапе мной были написаны работы о базальтовом вулканизме и природе кислого вулканизма [Belousov, Erlich, 2010, Erlich, 2014] и проведено монографическое описание геодинамики островных дуг и платформ [Erlich, 2, Erlich, 2018]. То, чем мы занимались отражено в названии одной из моих статей раннего периода [Erlich, 19 ]. Последнее требует уточнения. Я занимался не собственно геологией месторождения, его на Томторе еще не существовало. Оно явилось изумленному человечеству после бурения Мало Ботуобинской партии и подсчета запасов редких земель и редких металлов на участке Буранный. Я занимался поисками их, оценкой перспективности района по косвенным признакам и собирал материал для создания генетической модели еще не найденного месторождения. Насколько это важно, можно судить по интересной и хорошо документированной книге В. Л. Масайтиса [Masaitis, 2016]. Она существенно посвящена доказательству непригодности для поисков алмазов базальтовых туфовых трубок, описанных П. Е. Офманном [Ofman n, 1959]. Вот тогда, описывая открытие первой в Сибири кимберлитовой трубки и Талнаха, я пришел к выводу о том, что геологи создавшие своим трудом все богатства страны на самом деле « лишние люди» на всем протяжении от древнего Египта до наших дней [Erlich, 2016]. В полной форме это изложено в настоящей работе. Воплощением этого маятника были две организации в которых я попеременно работал, периодически меняя одну на другую: принадлежащий министерству геологии НИИГА и академический Институт вулканологии. И нельзя сказать, что они были какие-то особенно плохие. Ничего подобного! Они были во многом лучше других им подобных. Таких как комплексные НИИ на Дальнем Востоке или, скажем Всесоюзный геологический институт (ВСЕГЕИ) в Ленинграде. Но геологи были враждебным им элементом. Они, в буквальном смысле открывшие все богатства, которыми жила наша страна, мешали спокойно жить администрации и потому были «лишними людьми». До сих пор я употребляю в отношении себя и своих товрищей общий термин «геолог». Приведенный текст дает возможность более точно определить мою специализацию. В период геологической съемки и во время работы на Камчатке я выступал в роли специалиста по региональной геологии. При этом я в равной степени занимался и структурной геологией и петрологией. Но после открытия Томтора моим основым занятием стали поиски и геология мемсторождений полезных ископаемых. Организационно эти работы проводились НИИГА. Последнее требует уточнения. Я занимался не собственно геологией месторождения, его на Томторе еще не существовало. Оно явилось изумленному человечеству после бурения Мало Ботуобинской партии и подсчета запасов редких земель и редких металлов на участке Буранный. Я занимался поисками их, оценкой перспективности района по косвенным признакам и собирал материал для создания генетической модели еще не найденного месторождения. Насколько это важно, можно судить по интересной и хорошо документированной книге В. Л. Масайтиса [Masaitis, 2016]. Она существенно посвящена доказательству непригодности для поисков алмазов базальтовых туфовых трубок, описанных П. Е. Оффманном [Ofman n, 1959]. Это отражало сложившееся среди геологов отношение к этой концепции, выразившемуся в помещенном в стенгазете присловье: «Трубки Офманна – сказки Гофмана». «Парус, порвали парус» Моя профессиональная биография не будет полна, если здесь прямо не будет рассказано о моем отношении к защитам. Я считаю, что присуждение научной степени является естественным завершением очередных этапов исследования. Что вызывало мой резкий протест – необходимость затраты значительного количества времени, труда и нервов на подготовку диссертации и ее защиту. Кандидатскую я защитил попросту объединив отчеты по съемочным работам, включив в нее территорию обеих моих отчетов – по Укукитскому (с А.Е.Клейзером) и Уджинскому (вместо С.А.Гулина) районам. Здесь я впервые предложил геодинамический подход к проблемам образования структур и локализации магматизма, используя идеи Ли Сы-Гуана [ Lee - Sy Guan, 1958] о вихревых структурах. Работа Ли Сы-Гуана была первым в мировой литературе опытом создания геодинамической модели на основе суммирования данных о стабильных блоках (в частности платформах и срединных массивах). Я следовал по его стопам. В 1968 году я также представил мою монографию [ Erlich, 1973] как докторскую диссертацию в Ученый совет Института геологии СО АН СССР. На работу было достаточное количество положительных отзывов, включая отзывы иностранных коллег (что сыграло отрицательную роль – «они нам не указ!»). На заседании был зачитан только один отрицательный отзыв А.Е. Святловского, который не мог простить мне отрицательную рецензию на его довольно халтурную брошюру. Собственно о самой моей работе в его отзыве ничего сказано не было, кроме голословного утверждения, что все идеи заимствованы у него. В подтверждение приводилась хронологическая таблица, из которой следовала и так очевидная истина, что он в геологии много раньше и дольше меня. Помимо того автор внес в свой «отзыв» тему, не имеющую отношения к обсуждению научной работы. Он клеветнически заявил, что я прямо связан с КГБ, на который работал и угрожал ему. И всё это в молчании принял Ученый совет и директор нашего Института Г. С. Горшков (уж он-то понимал абсурдность обвинений Святловского, иначе зачем бы стал «угощать» меня Декларацией Прав Человека, когда я с ним возвращались из зарубежной поездки. Да и моему «оппоненту» он, видимо, знал цену, раз не удерживал, когда тот уходил из Института, не проходя переаттестацию). По результату голосования мне не хватило пол-голоса (был один воздержавшийся), чтобы защита прошла. Академик Яншин потребовал переголосования, но результат был тот же. Только один «доброжелатель» (академик Н. Л. Добрецов) потом посоветовал мне: в следующий раз представить как диссертацию какую-нибудь одну главу «и все будет в порядке...». В условиях, когда Директор нашего Института (кто бы им ни был), большую часть времени находился в Москве или за границей фактически его роль исполнял председатель месткома на которого падала вся текущая работа. И поскольку я был все эти годы то председателем месткома, то секретарем партбюро, то я попеременно эту работу и исполнял. Мне это, естественно же, ничего не приносило кроме огромной лишней организационной возни. Подиум, на котором я стоял, располагался на приподнятой над залом сцене, так что вся эта расстановка наглядно олицетворяла провтивостояние зала и докладчика, то есть мое провтивостояние «системе». В глубине зала сидел наш директор, Г. С. Горшков, одно слово которого, отметающее прямую ложь А.Е.Святловского, повернуло бы весь ход защиты. Но он молчал. Я это в тот момент и не отметил этого, не до того было. Единственный, кого я различал в зале, был сидящий в одном из первых рядов Директор магаданского СВКНИИ академик Н. А. Шило. Он был редким исключением среди директоров институтов Сибирского отделения. Хозяин по натуре, он внимательно приглядывался ко всему, что можно было обернуть на пользу своего Института (и края). Во время моего доклада он жестом показал, что он поздравляет меня, жмет мне руку. Мы были вместе в Токио, где я показывал ему столицу Японии. Лишь когда все кончилось я узнал, что он голосовал «против» и таким образом это его голос оказался решающим, в том, чтобы защита «не прошла». Так мне еще раз грубо указали, что я «лишний», чужд и не нужен системе. Потребовался этот грубый «пинок сапогом в зад», чтобы я наконец понял до конца свою ненужность, чтобы для меня «как до жирафа по длинной шее» дошло, что я «лишний человек». Я ведь все это время упорно не чувствовал себя «лишним». Классичесакими образами лишних людей, как нас учили, были Онегин, Печорин и Чацкий. Я не походил ни на одного из них. В самом деле мне наиболее близок был образ А. С. Грибоедова только-что тогда оживший для нас в блестящем романе Ю.Н. Тынянова, из полностью разошедшейся на цитаты комедии которого вставали все декабристы. В этот последний период своей жизни в Институте вулканологии я все время старался увидеть в чем моя работа может оказаться полезной для грядущей общей геодинамической модели развития структуры и магматизма Земли. – положение в чем-то сходное в ситуации в тогдашней теоретической физике, где лучшие умы в это время старались найти общее уравнение, которое объединяющее все основные физические процессы. Удар был страшный. Мне теперь надо было начинать все сначала. Хорошо хоть меня взяло к себе НИИГА. Но что со мной делать они опять же не знали. В поле я ездить по состоянию здоровья не мог и поскольку у меня не было допуска, меня формально нельзя было допустить к уджинским материалам. В конечном счете меня перевели в отдел лабораторий. Долгое время я был в подвале у Чайки, потом на Седьмой Советской у Аплонова, но и там и там я попросту был лишним человеком. Удар этот был еще более чувствителен по контрасту с предыдущим этапом, когда я казалось бы получил полное и повсеместное признание (и в отечестенном научном Институте и за рубежом). Как я писал выше первые мысли об отъезде за рубеж у меня возникли еще на Камчатке, но это были мысли совершенно неопределенные. Н. В. Огородов потратил много сил пытаясь показать отсутствие грабен-синклиналей на Срединном хребте, а позже даже на юге Камчатки. При этом он как-то упустил из виду, что в предложенной мною концепции существенной была не конкретная форма структуры, а геодинамическая обстановка, условия общего растяжения. Я очень переживал отсутствие научного руководства, считая что оно могло бы восполнить пробелы образования, но все наши попытки с Валерой Ермаковым заручиться им от А.Е. Святловского завершились неудачей. Он был слишком занят собой. И тут мне пришла в голову пришла идея попытаться собрать и опубликовать аналитические данные. Уж они-то всегда будут востребованы! Денег на это у меня, конечно же, не было. Надо было заинтересовать руководителей лабораторий необычно значительными результатами, которые могут быть получены от относительно небольшого количества хорошо подобранных уджинских образцов. Мне дали должность младшего научного сотрудника. На эти деньги можно было едва существовать. Теперь мне надо было найти себе деятельность, чтобы чувствовать себя нужным. Так появились сводные статьи о радиометрическом датировках, выполненных в лаборатории ВСЕГЕИ (И. А. Загрузина) [ Erlich, Zagruzina, 1981], температурах образования томторских пород и руд на основе их декрепетации (В. С. Аплонов) [ Aplonov, Erlich, 1981) и классификация фосфатных руд Томтора [ Erlich, С haika, Shabashev, 1981]. Я тем временем написал обзор развития мировой экономики параллельно с историей открытия крупнейших месторождений минерального сырья. Это была краткая брошюра, изданная мной за свой счет [ Erlich, 2005]. Намного позднее, будучи уже на пенсии в США, я довел ее до монографического описания [ Erlich, 2014]. Эта «защита» наглядно показала мне,что я как был так и остался «лишним человеком» и заставила вспомнить пушкинское «и угораздил меня бес родиться с умом и талантом в России». Исторические «экскурсы» закончились синтетическим очерком «Уроки Голландии». Он в полной мере отражал мое стремление получить общую картину исторческогот развития и в полной мере отражал мою неудовлетворенность постановкой при историческом анализе в центр внимания государства или экономикиОдновременно я написал статью «Уроки Голландии» [ Erlich,200 ], воздав должное народу этой страны, выстоявшему в почти восьмидесятилетней войне с одной из самых могущественных стран Европы, Испанией, отстоявшим свое право свободы вероисповедания и ставшей одной из самых промышленно-развитых стран мира. Это была первая в мире буржуазно-демократическая революция за которой последовали английская и американская. Так возникла первая в Европе республика и на ее почве расцвело искусство «Северного возрождения», давшее миру таких гигантов как Рембрандт, Рубенс и художники фламандской школы. Эта «защита» наглядно показала мне,что я как был так и остался «лишним человеком» и заставила вспомнить пушкинское «и угораздил меня бес родиться с умом и талантом в России». Благодарность Вся огромная авторская работа последнего периода могла быть выполнена только при постоянной беззаветной помощи и поддержке моей дорогой жены Розы. Наше полное единомыслие дало мне силы подняться после инсульта выдержать все передряги, связанные с выездом из СССР, продолжая работать. Ее кропотливая работа над редактурой моих текстов сделала их читаемыми. Основная литература Приводимый ниже список литературы не претендует на полноту. В него включены лишь основные работы по рассматриваваемой обширной тематике. В то же время, учитывая означенную в заголовке тематику, список моих работ я сделал по возможности полным. В этом списке впервые приводится список отчетов, выполненных по территории Томтора производственными партиями. Это делает документальными все заключения о последовательности работ. В приводимой А. А. Ярошевским библиографии работ по Томтору [ Yaroshevsky, 2018] хорошо видно непропорционально-большое число публикаций С. М. Кравченко. Интересно отметить общую черту публикаций Л.С. Егорова и С. М. Кравченко – первыми в списке авторов всегда стоят они сами, на втором месте – их ближайшие коллеги и помощники (Беляков, Сурина) и лишь далее следуют те, кто реально проводил работы и предоставил им материал для статей (Г.И. Поршнев, А. В. Толстов). Этот порядок авторов точно отражает то, для чего, собственно и делались эти статьи – закрепить роль Л.С. Егорова и С. М. Кравченко в первооткрывательстве Томтора. Только сейчас, в этой работе, впервые включены в список опубликованных работ рукописи отчетов, хранящиеся в фондах НИИГА, полученные благодаря помощи Л. Я. Харитоновой, работавшей в 1975 году у нас техником-геофизиком. Сейчас гриф секретности с них снят. И удалось уточнить ссылки на тезисы, представленные на различные научные конгрессы и конференции, благодаря помощи библиотеке геологическойслужбы США в Денвере,через мистера С. Сатли ( Mr. S. Sutley ). Aplonov V.S., Erlich E. N., 1980, Temperatures of Tomtor minerals, rocks and ores formation, //Alkaline magmatism and apatite-bearings of North Siberia. NIIGA, pp.112-123(in Russian); Bakumenko I. T., N. A. Shugurova, E. N. Erlich, N. M. Popova, 1970, Genesis of quartz from pumices from Khangar volcano.//Doklady Academy of Science USSR, T.191, # 3 (In Russian); Belousov V.I., Belousova I.V., Filippov Y. А., 2012, The Formation of hydrothermal-magmatic systems of skarn type proceedings, Thirty-Seventh Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, January 30 - February 1, 2012; Belousov V. I. E. N. Erlich, 2011, History of geothermal energetics in Kamchatka. www.kscnet.ru/ivs/lgt/wp-content/uploads/_bai_geotermalnaya_energetika_.pdf; Belousov V. I., Erlich E.N., 2010, heat of the Earth. // https://sites.google.com/site/geobelousov/ geotermia. (in Russian).; Belousov V.I., Belousova I.V., 1992, Heat transfer in hydrothermal-magmatic systems PROCEEDINGS, 41st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 22-24, SGP-TR-209. Chebanenko I. I., 1964, Problems of Earth’s crust folded belts in the light of block tectonics.//Publihing house Naukova dumka. 143 p. (in Russian) Clifford T.N. 1966, Tectono-magmatic units and metallogenic provinces in Africa//Earth and Planetary Science Lett., 1:321-436. Dodin D. A., V.L.Ivanov, V.D. Kaminsky, 2008, Russian Arctic a great base of mineral resources of the country. Lithosphere, № 4, pp.76-92, (in Russian); Epstein Ye. M., N. A., Danilchenko, S. A.Postnikov, 1994, Geology of the Tomtor unique mineral deposit of rare elements. Geology of ore deposits, t. 36, №2, pp. 83(in Russian); Erlich E., 2017, Geodynamics and magmatism of platforms. Saint Petersburg, Publishing house “Napisano perom”(in Russian); Erlich E.N., 2016, Mineral deposits and History. St. Petersburg, Publishing house ”Napisano perom“, 240 p. (in Russian). Erlich E. N., 2012, The road to Tomtor.//Science from first hands. №6, pp.85-(in Russian); Erlich E. N., 2012 а, Tomtor – looking ahead. Erlich E. On the way to create new general theory of Earth’s dynamics; // www.kcsnet.com (in Russian); Erlich E., 2009, Slicic volcanism, growth of granitic layer of the crust, hydrothermal process and ore formation (in Russian); Erlich E.N., 2005, Mineral deposits and History. Publishing house of St. Petersburg Polytechnical University, 71 p. (in Russian); Erlich E. N., 2013, Tomtor’s legends (to the history of discovery). Legends and myphs of NIIGA.//SPb, published by VNIIOkeangeologiya, pp.384-400 (in Russian); Erlich E.N., 2012. Sketches of geology and geodynamics of island arcs// https://sites.google.com/site/vulkaniceskaageologia/home/ocerkiostrovnyh-dug (in Russian); Erlich E.N., 1985, Geodynamics of the north-eastern Siberian platform and the regularities of kimberlite distribution in space and time //Transactions of the Geological society of S. Africa, vol.88. Р. 2, pp.395-401. Erlich E.I., 1984, Geology of the calderas in Kamchatka and Kurile Islands in comparison with same structures of Japan and the Aleutians, Alaska // USGS Open File Report. 86291:300 p. Erlich E.N., 1973, Recent structure and Quaternary volcanism of the Western Circum-Pacific, Novosibirsk, Nauka, 244 p. (in Russian); Erlich E.N., 1966, New data on volcano-tectonic structures in Kamchatka and problems of Quaternary volcanism development. //Geotektonika, № 6, pp.48-63, (in Russian); Erlich E.N., 1964a, New province of alkaline magmatism within northeastern part of the Siberian platform.// Zapisky of All-Union Mineralogical Society, t. 93, № 6,pp. 684-696 (in Russian); Erlich E.N., 1964, Structural position of Quaternary volcanism in Kamchatka// Geotektonika, № 1, pp. 93-105(in Russian); Erlich E., 1960a, Evolution of most recent volcanism in the Tikhaya river basin and Anaun volcano in Kamchatka, Trudy Laboratory of volcanology, vyp. 18, pp. 62-69, (in Russian); Erlich E., 1960, On evolution of Quaternary volcanism within Sredinny Ridge zone, Kamchatka.// Izvestiya Academy Science USSR, ser. geol., № 2, pp. 77-90, (in Russian); Erlich E., 1958, Ascent onto Ichinsky volcano.//Bulletin of volcanological stations, №27, pp.55-59, (in Russian); Erlich E., 1958a, On the role of natural electric currents in formation of a leaching subzone of sulfide ore deposits.// Notes of All-Union Mineralogical society, iss. 7, LXXIII, pp. 567-574 (in Russian); Erlich E., E. N. Kamenev, V. I. Stepanenko, 1962, Results of coordination works within the sheet of state geological map in scale 1:200 000.//Manuscript, funds of NIIGA, SEVMORGEO. SPb (in Russian) Erlich E., Tolstov A.V. 2013, The Tomtor ultramafic-alkaline ring pluton: geology, petrology, and ore formation.// https://sites.google.com/site/ vulkaniceskaageologia home/mestorozdenia-i-istoria. (in Russian); Erlich Е.I., Hausel W. Dan, 2002, Diamond deposits. Origin, exploration and History of disc о very // SMI, Littleton, CO, 374 p. Erlich E.N., Chaika L. A., Shabashev V. A., 1981, Rich apatite ores of the Tomtor massif. Geology, methods of exploration for non-metal mineral resources. M. VIEMS, vyp. № 6, pp.11-23 (in Russian); Erlich E.N. and Gorshkov G.S., eds., 1979, Quaternary volcanism and tectonics in Kamchatka // Bulletin Volcanologique. 1979, vol. 42, issues 1-4. 298 p. Erlich E.N.,1958, On the role of natural electric currents in formation of subzone of leaching of sulfide deposits.// Notes of the All-Union Mineralogical society LXXIII, pp. 567-574 (in Russian); Erlich E., 2014, On the way to create new general theory of Earth’s dynamics; //www.kcsnet.com(in Russian); Erlich E.I., Yu. D. Kuzmin, 2013, De rerum natura и Большая Теория..repo.kscnet ru/2706/1/Ehrlich_Kuzmin2pdf Erlich E.I., W.M. Sutherland, W.D.Hausel, and I. A. Zagruzina, 1989, Temporal distribution of the ultramafic-Alkalic rocks within the Russian, Siberian and North American Ancient Platforms and their surroundings. Wyoming State Geological Survey Open-file report 89-9. Erlich E. N., 1985, Geodynamics of the north-eastern Siberian Platform and regularities of kimberlite distribution in space and time.//Transactions of the Geological society of South Africa, vol. 88, part 2m May-August 1985, pp. 395-401; Erlich E. N., 1968, Recent movements and Quaternary volcanic activity within the Kamchatka territory.// Pacific geology, № 1,pp. 23-39; Erlich E.N. and I. A. Zagruzina, 1981, Geological aspects of geochronology of northeast Siberian platform. Izvestiya Academy of Science USSR, ser. geol, № 9, pp. 5-13 (in Russian); Erlich E. N., A. M Karasik, V. I. Stepanenko et al., 1961, Results of the reconnaissance exploration, and aerogeophysical works within Udja-Chymaara watershed (of the geological team of the Birekta expedition, magnetic exploration of the Djelinda №2 party and aerogeophysical party of NIIGA).// manuscript, SPb, funds of NIIGA (in Russian); Erlich E. N., G.I. Porshnev, B. I. Rybakov, 1959,Geological structure and mineral deposits within middle and upper part of the river Udja basin, Sheet R-50-IX, X for 1959 (report parties № 3, 4, 5 and 9 of the Birekta expedition for 1959), // Manuscript, SPb, Funds of the NIIGA (in Russian). Erlich E. N., V.I. Stepanenko, 1961, Explanatory memoir to the sheet, R-50-IX of the State Geological map in the scale of 1: 200 000//. SPb, Nedra (in Russian); Fisher, R., 1954, Immiscibility of melts containing heavy metal’s oxides, silicates and phosphates and significance of immiscibility for geochemistry and science of ore deposits// Experimental studies in petrography and ore formation. Moscow, Inostrannaya literatura (in Russian); Gastil, R.G., 1960, Distribution of mineral dates in time and space: Am. Jour. Sci., v.258, pp.1-35 Isostasy, 2000// Wikipedia// https://ru.wikipedia.org/wiki/(in Russian);. Gulin S. A., E. N. Erlich, V. N. Gorin, V. N. Khor’kov, 1961, Reconnaissance work for diamonds and rare metals within the Udja river basin.// Manuscript, funds of NIIGA SEVMORGEO SPb. Jackobsen J.K., I.V Veksler C.Turner, C.K.Brooks, 2011, Crystallization of the Skaergaard intrusion from the emulsion of immiscible iron- and silica-rich liquids: evidence from melt inclusions in plagioclase // Journal of Petrology.v. 52. Р.345-373. Korzhinsky D. S., 1945, Formation of contact deposits..//Izvestiya Academy Science USSR, ser.geol., #3, p. 18-33(in Russian); Kozlovsky Ye. A., 1987, Superdeep Well of the Kola Peninsula. Berlin SpringerVerlag, p.558. Kravchenko S. M., 1996, Gigantic carbonatite-nephaline-syenite massives (Tomtor, Khibines, Lovozero etc.). Doklady Academy of Science, t. 347, №6, pp. 671-674 (in Russian); Kravchenko S. M., Belyakov A. Yu., 1992, Newcomer among giants. //Priroda, №4, pp. 50-55 (in Russian); Krasny L.I., Erlich E. N., ed., 1973, Geological map of the Pacific mobile belt and Pacific ocean, in the scale 1:10,000,000.//Moscow. Krasny L.I., Erlich E. N., 1974, Volcano-tectonic structures. Geological dictionary// Moscow, Nedra, t. 1-2, (in Russian); Laiba A. A., 2016, Golden age of NIIGA. (in Russian); Lee Sy-guan, 1958, Vortex structure of Northwestern China. //State scientific-technical publishing company in geology and environmental protection. 132 p. (in Russian); Litinsky V. A., 200, Demenitsky and gravity service of the Polar ocean. http://world.lib.ru/l/litinskij_w_a/baydarka-2.shtml. Litinsky V. A., 200, Search and допросы. Samsonov, Yakir. Bukovsky. http://world.lib.ru/l/litinskij_w_a/obyskidoprosy.shtml) Luchitsky I. V., ed., 1974, History of relief development in Siberia and Far East. Kamchatka, Kurile and Komandor islands.// Moscow, Nauka, 437 p. (in Russian) http://repo.kscnet.ru/773/1/t3.jpg (in Russian); Lychkov B.L., 1965, The basis of modern theory of Earth// Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/osobennosti-stroeniyaplanetarnoi-lineamentnoi-seti#ixzz2yIqZLK8576, № 52, с. 92–102. Masaitis V. L., 2016, Where the diamonds are?. Published by VSEGEI, 382 p. (in Russian). Medvedev A. Ya., 2004, Permo-Triassian volcanism of North-Asian craton (Western Siberian plate and Tunguska syneclise). Geology, petrology and geodynamics.//Dissertation for scientific degree of Doctor of geological-mineralogical sciences. SibGEOKHI, Irkutsk, 306 p. (in Russian). Mezhvilk A. A., 1984, Role of horizontal movements in formation of tectonic structures and mineral deposits of Norilsk region. Geotektonika, # 1, pp. 99-110 (in Russian). Miyashiro A., 1967, Aspects of metamorphism in the Circum-Pacific region // Tectonophysics, 4. Р. 4-6. Newhall Ch., D.Dzurizin, 1988, Historical Unrest at Large Calderas of the World, U. S. Geological Bulletin 1855; Novograblenov P. T., 1932, Catalogue of Kamchatka volcanoes. Izvestiya of the Geographical society, L. M., t. 62, vyp. 1, pp. 88-99, in Russian. Ofmann P. Ye., 1959, Tectonics of the USSR, t. 4, Shatsky N. S., editor in chief, Tectonic and volcanic pipes of the central part of Siberian platform. Published by Academy of Science USSR, pp. 1-340 (in Russian); Rabinovich M.M., 1967, Orogenic phases and folding periods in the light of absolute geochronology.//Geotektonika, № 2, pp.35-49 (in Russian); Rudnik V. A., 1973, Charnokite (potassium charnokites) formation, Geologichesky slovar (Geological dictionary), t. II, p. 387 (in Russian); Schmandt B., Jacobsen S.D, Becker T.W., Liu Z., Dueker K.G., 2014, Earth’s interior, 2014, Dehydration melting at the top of the lower mantle.//Science, Jun 13. 344(6189):1265-8. Sheinmann Yu. M., 1966, Sketches of deep-seated geology;// Moscow, Nedra (in Russian); Sheinmann Yu. M., 1961, Formations of ultramafic-alkaline rocks//Alkaline intrusives their spatial location and associated with them deposits. // Moscow, Gosgeoltechizdat, vyp. 12-13, pp. 15-54, (in Russian); Shpount B. R., E. A. Shamshina, F. F.Brachfogel, 1991, Specific features of petrochemistry of altramafic-alkaline rocks of the Udjinsky uplift (north of the Siberian platform). Izvezstiya Academy Sci. USSR, ser. geol., №8, pp.68-80 (in Russian); Stille H., 1964 Selected works//M. Inostrannaya Literatura (in Russian); Stille H., 1924, Gundfragen der vergleichenden Tektonik,// (in German); Stepanov L.L., 2002, Rare-metal giant in Yakutiya. Polar researchers remember themselves (jubilee remembrance devoted to 40th anniversary of PMGRE), Saint Petersburg, pp. 105-127 (in Russian); Stovas M. V., 1963, To the problem of planetary deep-seated faults formation. //Doklady Academy Science USSR, t. 135, № 2 (in Russian); Sviatlovsky A. Ye, 1960, Volcanism and Quaternary tectonics of Kamchatka.//Authoref. of doctoral dissertation, 60 p. (in Russian); Suvorov A.I., 1978, Newest global kinematics of lithosphere (on the basis of regional tectonopairs). //Geotektonika, № 2, pp. 3-18 (in Russian); Tevelev A. V., 2002, Tectonics and kinematic strike-slip zones. Dissercat, 309 p. (in Russian); Tikhomirov L. I,, E. N. Erlich, 1961, Some features of Kamchatka metallogeny;//Productive resources of Kamchatka (in Russian); Tolstikhin I. N., E. N. Erlich, 1975, Mantle origin of deep-seated inclusions. Composition of helium isotopes in ultramafic inclusions.// In: deep-seated xenoliths and upper mantle. Novosibirsk? Nauka, Nauka, pp. 225-231 (in Russian); Umbgrove J. H. F., 1947, Pulse of Earth, //Hague, 398 p.; Varentsov M. I., 1939, Fight on two fronts in modern geology— against neocatastrofists and vulgar evolutionists// Sovietskaya geologiya. №8. p. 7-22 (in Russian); Voronov P.S., E. N. Erlich, 1962, Strike-slip fault deformations within northwestern part of Siberian platform.//Informational sbornik of the Scientific Research Institute of Arctic Geology (NIIGA), 28, pp. 17-28 (in Russian); Yaroshevsky A, A., private collection of bibliography on Tomtor massif, Siberian Platform. //Geowild https://wiki.web.ru; Yegorov L.S., 1991, Iyolite-carbonatite plutonism (on example of Maimecha-Kotuy complex of Polar Siberia). Nedra, Leningrad, 260 p. (in Russian); Yegorov L.S., N. P. Surina, G. N.Porshnev, 1985, Udja ore-magmatic complex of ultramafic alkaline rocks and carbonatites// Ore-magmatic complexes of northwestern Siberian platform and Taymir.// SPb, PGO “Sevmorgeo”, pp. 138-154 (in Russian); Zobin V. M., 1979, Focal Mechanism of Shallow and Intermediate Earthquakes in Kamchatka-Commandor region, and Heterogeneity of the Active Seismic Zone.//In: Erlich and Gorshkov, eds., 1979., p. 43-48. Zubin M. I., I. V.Melekestsev, A. A.Tarakanovsky, E.N. Erlich, 1971, Quaternary calderas of Kamchatka. //Volcanism and the depths of the Earth, Materials of III All-Union volcanological conference May 28-31 1969. Moscow, Nauka, pp. 55-66 ( in Russian ); Н. В. Огородов потратил много сил пытаясь показать отсутствие грабен-синклиналей на Срединном хребте, а позже даже на юге Камчатки. При этом он как-то упустил из виду, что в предложенной мною концепции существенной была не конкретная форма структуры, а геодинамическая обстановка, условия общего растяжения. Но – скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Дом был еще не готов и по началу я поселился в одном из кабинетов здания Института на Пограничной, то-есть попросту расстелил спальник на полу одного из кабинетов. Но главное, в Институт не знали что со мной делать. Я не входил в стандартные рамки, был по возрасту чужим Лаборатории вулканологии, но был уже кандидатом наук, и был старше молодых сотрудников, попавших в Институт по распределению. Наконец, С. И. Набоко предложила мне составить сборник имеющихся химических анализов вулканических пород Камчатки и Курил. Я обратился к молодым сотрудникам с просьбой дать для сборника новые, неопубликованные анализы, естественно, с гарантией указания кем они предоставлены. Тем не менее, я вызвал волну недовольства и опасения в том, что за неимением «своего материала» я собираюсь обобрать тех, кто предоставил анализы. Но этого показалось мало. Хозяевам неопубликованных ранее анализов захотелось, чтобы они были указаны авторами объяснительной записки к собственно собранию аналитического материала. Было абсолютно ясно: эти «научные работники» не понимают смысла самого выражения «обобщающая работа» и не знакомы с понятием «коллектив авторов». Текст с анализом закономерностей петрохимии вулканических пород был написан мной без чьего-либо участия. Ставить там соавтором кого бы то ни было я не собирался. Когда текст был написан, он очень понравился и С. И. Набоко и Л. А. Башариной (заведующей хим. лабораторией Института). Но от этого мне легче не стало. В итоге сборник «Петрохимия вулканических пород Камчатки и Курильских островов» был издан без фамилии автора на обложке. Я числился составителем и редактором. Сегодня в списке опубликованных работ сотрудников Института указаны отдельные главы сборника анализов «Петрохимия вулканических пород» под двойным авторством - Эрлих и хозяин анализа. Так что найти эти работы невозможно. Зря старались потрафить «хозяевам анализов». Они давно забыли об той истории. Мне оставалось только одно – заняться сводкой литературного материала по четвертичному вулканизму и современной структуре Камчатки. Оно проходило в разных формах и в несколько этапов. Именно это был период максимального распространения универсальной металлогенической концепции, развитой на примере Камчатки Г. М.Власовым. Он был переведен из Хабаровска во ВСЕГЕИ, в Ленинград. Здесь у него было два ученика – М. М. Василевский и В. К. Ротман. Здесь он написал том серии Геологии СССР, «Камчатка и Курильские острова» [Vlasov, 1964]. Что делать дальше, мне надо было придумывать самому, и я выбрал тему «соотношение вулканизма и тектоники островных дуг и сходных с ними геотектонических систем». Дирекция вздохнула с облегчением. Учитывая то, что эта тектоника «числилась» за А. Е. Святловским, который в это время был директором Ключевской вулканостанции меня и отправили к нему в Ключи. Так мы, с уже бывшим в Ключах В. А. Ермаковым, занялись структурой и вулканизмом Ключевской группы вулканов. Валера, не считая Леши Шанцера, был единственным из институтской молодежи, имевшим опыт работы на геологической съемке. Я с искренним удовольствием вспоминаю два полевых сезона с ним. Один - на юго-западе Ключевской группы, в бассейне реки Студеной, второй – на Харчинской группе вулканов между собственно Ключевской группой и Шивелучем. Попытка организовать геофизические работы сорвалась. В 1966-1971 году вышли из печати мои статьи о результатах аналитических работ по массиву Томтор (радиометрическому датированию пород и руд, декрепетации минералов и различных типах апатитовых руд), окончательно доработана монография о современной структуре и четвертичном вулканизме Камчатки. В середине 1960ых годов впереди замаячила Генеральная Ассамблея Международного Геодезического и Геофизического союза в рамках которой IAVCEI (Всемирная Ассоциация вулканологии) должна была провести симпозиум по кислому вулканизму. Именно на этом фоне я решил провести работы на вулкане Хангар, который представлялся идеальным объектом для решения вопроса о соотношении кислого вулканизма с гранитным слоем коры. Я организовал отряд, включивший минералогов из Новосибирского академгородка и, в середине 1960х годов впереди замаячила Генеральная Ассамблея Международного Геодезического и Геофизического союза в рамках которой Международная Ассоциация вулканологии (IAVCEI) намеревалась проводить симпозиум по кислому вулканизму. Именно на этом фоне я организовал поездку на вулкан Хангар, который казался мне ключом к решению вопроса о генезисе кислых магм – мощный центр четвертичного кислого вулканизма здесь был непосредственно наложен на гранито-гнейсовый комплекс гранитного слоя коры. В состав отряда вошли минералоги из Новосибирского Академгородка И. Т. Бакуменко, Н. А. Шугурова, Н. М., Попова [Bakumenko, Shugurova, et al. 1970]. Их исследования по изучению газово-жидких включений в ксенокристаллах кварца из пемз Хангара дали принципиально-новый материал о составе газово-жидких включений и температуре их гомогензации (12000C). С точки зрения решения проблем геодинамики Камчатки значительным событием был выход двух статей в журнале Геотектоника [Erlich, 1964, 1966]. Эти работы закрепили мою точку зрения на связь вулканических поясов с линейными грабен-синклиналями, и дали описание нового для Камчатки типа вулкано-тектонических структур. Позже вышла из печати сделанная ранее коллективная статья о типах четвертичных кальдер Камчатки [Zubin et al., 1971]. Мне оставалось только одно – заняться сводкой литературного материала по четвертичному вулканизму и современной структуре Камчатки. Оно проходило в разных формах и в несколько этапов. Именно это был период максимального распространения универсальной металлогенической концепции, развитой на примере Камчатки Г. М.Власовым. Он был переведен из Хабаровска во ВСЕГЕИ, в Ленинград. Здесь у него было два ученика – М. М. Василевский и В. К. Ротман. Здесь он написал том серии Геологии СССР, «Камчатка и Курильские острова» [Vlasov, 1964]. Это было диаметрально противоположно точке зрения А. Е. Святловского об исключительной связи вулканизма с процессами поднятия.
|





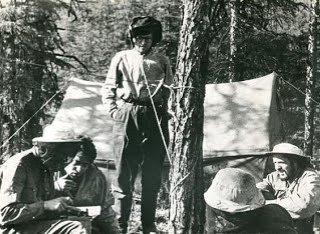
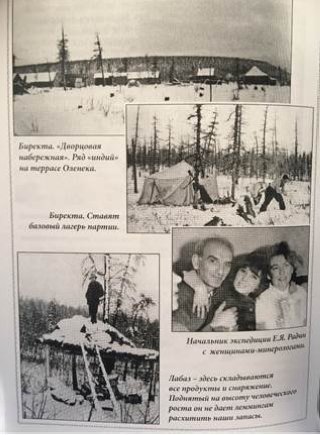
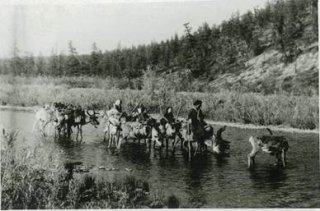


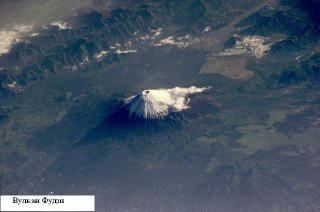
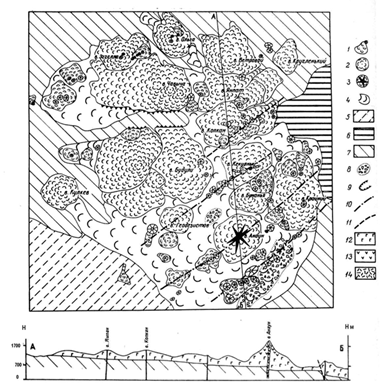

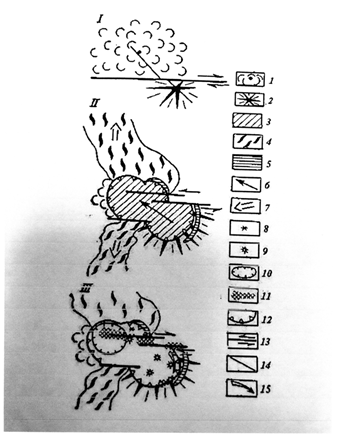
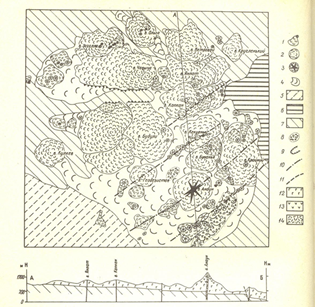


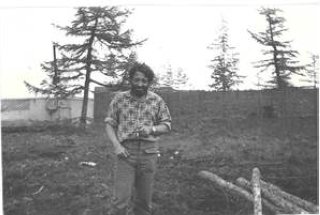

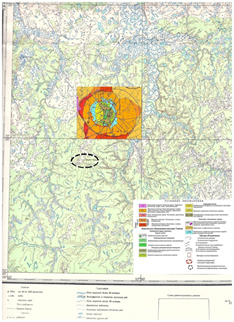
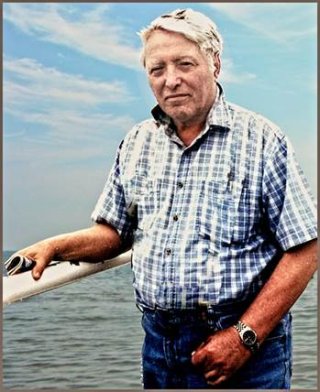 .
.


